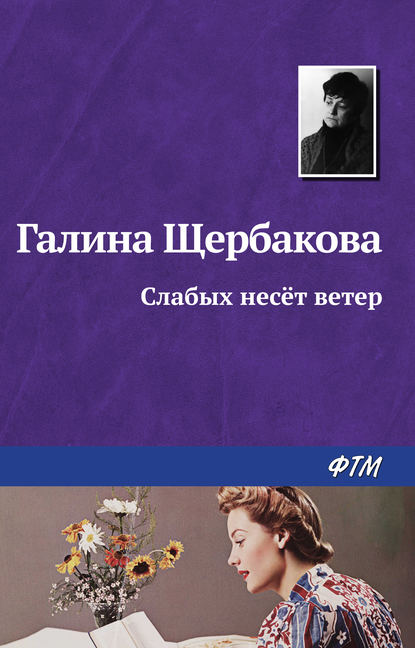Наконец они перешли дорогу. Боль в плече не проходила, и Тоня, так звали женщину, вспомнила, что еще в школе на физкультуре она ломала ключицу. По дури. Ей хотелось досадить одной девчонке, и она стала выкомариваться на брусьях – подумать сейчас: зачем, для чего? Тогда та девчонка решила лихо соскочить с переворотом. Тоня же этого не умела. Но что-то там внутри ее закрутило, завертело, полезла, дура. Если посмотреть на всю Тонину жизнь взглядом назад, то это был единственный и неудачный случай выделиться из толпы. Она была настолько как все, что ее вечно путали с другими, а эти другие, случалось, обижались, что их принимают за нее. В общем, никакую. И дома мать говорила: «Ты не красавица, не умница, ты простая. Простых большая часть. Они пекут хлеб и шьют штаны. И тебе так жить. Другой жизни у тебя не будет». Обидно не было. Тоня была очень уравновешенная сначала девочка, потом барышня. Бывало, слышала по телику и на уроке литературы, что, мол, каждый человек – удивителен, что в каждом есть свой секрет, своя красота. Тоня смотрела себе вовнутрь, внимательно смотрела, заглядывая за створки легких, в мякоть печени, в клубок кишок. Ничего секретного в ней не было. Ей ничего не хотелось особенного, у нее не было никакого таланта, она была простая, из самых простых, мама не ошибалась. Так она и построила свою жизнь. После школы пошла не в институт – боялась, что конкурса ей не одолеть, – в техникум. Техникум готовил работников для жэков. Ее научили перекрывать воду, ломиком растворять двери застрявших лифтов, пробивать «бабой» забитый мусоропровод, чинить газовые конфорки. Это был очень провинциальный техникум, выбившийся в люди из профтехучилища благодаря очень большим амбициям директора, члена бюро райкома партии.
Возможно, он был первым в том величественном движении по переименованию, которое потом приняло размеры тифа. Школы стали гимназиями с теми же самыми плохо говорящими учителями, институты все как один стали университетами, последние перевоплотились в академии, и пошло-поехало. Жаль, что фамилию первого члена бюро райкома никто не вспомнит, когда бани станут термами, улицы – авеню, а вокзальных блядей начнут величать гетерами. Все это еще впереди, мы пока еще в процессе. Слава тебе, неизвестный член!
По сути дела, Тоня ничего толком и не умела, жила в общежитии, в отдельной комнате, сделанной из душевой и уборной. Уборная сразу была поставлена во дворе – рабочие не баре какие-нибудь, сходят на улицу, баня тоже была недалеко. Тоня кое-как перекрасила сине-зеленые стены в подобие бежевого цвета. Повесила тюль, приехавшая из поселка в райцентр мать купила ей диван-кровать задешево, ибо он, чертов диван, не раскладывался в кровать и продавался как вещь с браком. Но какое это горе, если Тоня спит одна. Наоборот, лежишь на боку, а спине мягко. Отдельность Тониной жизни вдруг возбудила мужской интерес. Но мама Тоню предупредила: к тебе в каморку будет ломиться мужичье, вставь замок покрепче. И Тоня вставила дорогой блестящий замок на тоненькую дверь. Имея в виду, что вламывание посредством плеча – уже хулиганство и можно звать милицию. В милицию Тоня верила. Поэтому первый ее мужчина был милиционер. Звать на слом двери его не пришлось, Тоня его пустила сама, повернув блестящую защелку дорогого замка. Он-то и разломил надвое диван-кровать, после чего диван уже никогда не сложился, так и остался хорошим пространством для двоих и неуютным (без спинки) для женщины одинокой. Ну конечно, он обещал жениться! А как же! Все ведь обещают, милиционеры в этом деле не хуже других. Но женился он на другой, сказал Тоне очень назидательную речь, что жену раскупорить хочет по правилам отцов и дедов после заключения официальных процедур, а не до. Именно потому, что так сказал милиционер, Тоня приняла измену достойно – сама, мол, виновата, надо было не пускать. Вообще как-то в изложении получается, что Тоня – дура, но это абсолютно не так, а если и так, то почти все русские бабы – дуры, но тогда непонятно, почему они так притягательны для мужчин других стран. Много есть ответов на этот вопрос, и дурь в том числе, ибо она еще и неприхотливость, и непривычка жить по-людски, и благодарность, если не бьют и не обзывают. Тоня, обжегшись на милиционере, не научилась ничему, тем более, какой смысл? Если главное достоинство было уже порушено к чертовой матери? И к ней ходили. Однажды в их общежитии поселился очень мрачный дяденька. И, естественно, пьющий. Его Тоня стала бояться, потому что вид у него был вполне такой, что «убить может». Тоня обходила его стороной, а когда встречалась на лестнице, жалась к стене, представляя, как он в одну секунду может кинуть ее через перила. И накаркала насчет перил. Однажды подымалась с тяжелой сумкой, держась за них, и на самой середине пролета почувствовала, как уходят перила из-под рук, как сыплются вниз стоячки из слабых досточек. Сильные руки дернули ее вверх, и она оказалась прижатой к этому ужасному мужчине, которого так сторонилась. Мужчина заматерился смачно и с чувством, отчего Тоня на секунду потеряла сознание. Не из-за мата, нет, что, она его не слышала? От голоса – глухого и мощного, исполненного такой ненависти, что мысль «убить может» просто как бы была продемонстрирована на факте противоположном – спас ведь. Он взял ее сумку и ее саму и понес к ее двери, что говорило о том, что он знал, где она живет. Она стала искать ключи в кармане, больше им быть негде было, и не нашла. И тогда мужчина сделал то, что и полагается делать всякому нормальному злодею: легко, не напрягаясь, выдавил филенку.
Потом он же ее и чинил, а она его кормила варениками с картошкой, и он попросил у нее нож, чтоб разрезать вареник, а все предыдущие мужчины ели их одним захватом рта. Эта странность слегка удивила и даже напугала ее. Он ведь был молчун Герасим, и пользование ножом было фактом чудноватым после выдавленной филенки. Больше он к ней не заходил, но починил перила той лестницы, с которой она едва не сорвалась. Он же принес ей ключи от замка. Видимо, тогда, когда она наклонилась, они выскользнули из кармана и звякнули где-то внизу. Она сказала «спасибо», добавив, что они ей теперь ни к чему, она поставила новый замок. Он кивнул и ушел. Потом она узнала, что зовут его Павел, что он из Ленинграда, геолог. Все.
Павел-Герасим действительно ходил с геологами, хотя был классным электронщиком и даже лауреатом Госпремии какой-то там степени. Он вырос в семье, где к столу подавались салфетки, где суп ставили в супницах, а кофейные чашки не путали с чайными. Это его раздражало, мир давно жил без этих правил. Их квартира из двух комнат была частью большой коммуналки, где сроду не водились супницы, а если и водились, то стояли, как правило, где-то высоко на шифоньерах и буфетах и выполняли роль потайного места для всяких мелочей. Но он очень любил своих родителей, переживших и блокаду, и репрессии, поэтому готов был все стерпеть, даже мамины уроки вальса, которые она ему преподала в шестнадцать лет. Как же ему было неловко тогда держать маму за талию и делать эти раз-два-три, раз-два-три. Но от родителей он готов был стерпеть все: и супницы, и вальсы. О воле мечтал очень крепко, хотя женился рано. На однокурснице, которая ела апельсины с такими брызгами во все стороны, что это даже вызывало интерес: как это у нее получается? Девочка с брызгами привела его в свой дом, где все толклись на кухне – первые дома хрущевских новостроек. Отец девочки прибил к стене столешницу, которая после обеда подымалась вверх и цеплялась за крючок. Тогда на оставшемся пространстве сидели кружочком и пили чай-кофе с передвижением (со сдвигом) в сторону чайника или кофейника, стоящих на плите. Дурь какая-то, думал Павел, почему не закончить обед по-людски, за столом? Он даже спросил девушку, ее звали Катей, что бы значило такое чаепитие со сдвигом. Она сказала, что это мамина заморочка, что столы ее стесняют, они разделяют людей, а так, коленка к коленке, – интимно и душевно. А то, что люди идут за печеньицем через чужие ноги к подоконнику – самый большой кайф. «Мама хранит коммунальский дух». Нет, это было не его. Это тоже была неволя под сенью поднятой столешницы, на которую он смотрел подозрительно, боясь, что она когда-нибудь рухнет на головы. Но так случилось, что женился он на Кате. Ее бабушка отдала им крохотульку-однокомнатку, а сама переехала в этот дом с угрожающей столешницей.
И все было замечательно. Девочка с брызгами была и хорошенькой, и умненькой, с ней было интересно трепаться на любые темы. От Гумилева до невесомости, от особенностей строения гениталий до фактов наличия божественного начала в жизни людей. Павел был счастлив легкостью своей подруги, которой хорошо и уютно было везде: и у его родителей с супницей, и в тесноте кухни, где все ходят как хотят, ища необходимое, и дома, где пусто, где вместо кровати на чурбачках лежит огромная дверь, а на ней два матраса. Они вечно сдвигаются в стороны. И бывало, что они оказывались на середине голой двери, а матрасы – на полу. Но это было так смешно. Дочь родилась, когда они уже оба работали и их ставили в пример: какие разумные молодые – дождались окончания вуза, а разума в этом не было ни грамма, они не предохранялись, просто ничего не завязывалось по Божьей воле, а не по человеческой. С рождением девочки новое появилось в Кате. Она все время что-то требовала. «Нам нужен миксер», «Я хочу эту горку». Первые ее требования дружно исполнялись всеми родителями сразу. Складывались – и покупали горку. Шубу. Овальный ковер. Греческие овечьи шкуры на диван. Первыми из гонки угождения вышли Катины родители. Они сказали: «Хватит. Живи с тем, что есть». Родители Павла держались дольше, собственно, до самой смерти матери, болезнь которой Павел как-то даже не заметил. А потом не заметил, как Катя стала выменивать две комнаты отца на отдельную квартиру. И нашла. Но отец так был поражен предложением съехать с насиженного места, так оскорблен тайностью всего деяния, что резко замолчал на детей. И молчал много лет, разговаривая только с внучкой. «Я не знал! – кричал Павел отцу. – Не знал!» Отец смотрел на сына каким-то скорбным взглядом, в котором Павлу виделось презрение, хотя это была жалость.
Легкая на все темы болтовни раньше Катя теперь могла говорить только о метрах, высоте потолков, окнах на север-юг, паркете, ширине ванны и прочая, прочая. Она вошла в плотные слои меняльщиков и маклеров, и ей там было самое то.
Кончилось тем, что Павел переехал к отцу, а Катя с дочкой оказались в выгородке из барской квартиры, но вполне изолированной и комфортабельной. Отец Павла отдал на это последние, что «на смерть», деньги, а родители Кати из «хрущевки» вернулись в коммуналку, дух которой так блюла теща. Но, вернувшись в излюбленный быт, она умерла через месяц, потому что ее желудок не совпадал с очередью в уборную, однажды она просто обделалась, от стыда получила инсульт – и как не было женщины.
Павел не пошел хоронить тещу, потому что шел развод и Катя требовала «для дочери» те самые супницы и сотейники, которые так не любил Павел, но отец, продолжая не разговаривать с сыном, написал ему: «Пока жив, не отдам».
– Пусть напишет завещание, – сказала Катя. – Ты же можешь жениться, и тогда с кем мне придется разговаривать?
Вот тогда он ее ударил. А дело было на улице и среди бела дня. Катя заорала не своим (хотя почему не своим, теперь это был как раз ее голос) голосом, милиционер оказался «в кустах», и пошло-поехало. Павел получил за хулиганство по максимуму. Потерял работу, был лишен встреч с дочерью, отец отдал без звука все супницы и сотейники.
Вот тогда Павел и ушел с геологами. Было ощущение завершенности жизни, ни хуже, ни лучше, казалось, быть не могло, а значит, пусть все течет, как течет. Без него умер отец. Он не успел на похороны – приехал, а в квартире дочка, Наташка, тринадцати лет. Сидит за кончиком стола, решает задачки. «Мама мне велела сторожить квартиру», – сказала она тихо. «И давно сторожишь?» – «С тех пор, как дедушку увезли в больницу».
А ему казалось, что все то кончилось, что геологической грязью он и омылся, и очистился. Было! Было желание вытолкать взашей девчонку, но она такая была худенькая, такая сразу виноватая, что он сел с ней решать задачки. И пока вспоминал, как это делается – объяснять себе известное другому, вспомнил и все остальное. Какая она была крошечная, и как они боялись, что у нее врожденный тазобедренный вывих, и все вытягивали ей ножки, и смотрели на складочки попки. А ведь он думал, что гнев и ненависть к жене уволокут за собой и это слабенькое чувство к малышке. Не уволокли. Он радостно с ней пожил несколько дней, даже с Катей по телефону поговорил, сказал, что ребенок очень худ и не мешало бы слегка подкормить.
– Подкормлю, когда начну получать алименты, – ответила Катя. – Тебя ведь ищи-свищи не сыщешь.
Он уехал и стал пунктуально присылать деньги сам, аккуратно складывая корешки переводов. «Вот так становятся жлобами, – думал он, запихивая в специальный карманчик очередной корешок. – Знать бы, что это идет на девчонку». Написал дочери письмо, чтобы прислала фотографию. Прислала. Хорошенькая, веселенькая, похожая на мать. Должны были встретиться летом.
В тот год они засели в забытом Богом поселке. Были все основания считать, что стоит он «на нефти», так говорил их начальник партии. Вот они и ковырялись вокруг, расселившись по поселку, можно сказать, как в гостинице. Павел попал в общагу тамошних строителей, народа пьющего и без претензий к жизни. Все было грязно, все воняло, полы проваливались, окна были наполовину выбиты. Павел все это ненавидел, ненавидел это в народе, который, где жрет, там и срет. Уходя из комнаты, он сворачивал матрас с бельем в рулон и связывал все веревкой, потому что видел, как без всякого на то разрешения люди садились на чужие постели, могли и улечься с ботинками, как сморкались в чужие полотенца, как надевали чужие куртки и трусы, если своих под рукой не оказывалось. Конечно, его за это не полюбили. Ишь какой не свой! Вроде на нем грязь другая, не наша русская. Однажды чуть не убилась девчонка, опершаяся на перила, едва ее подхватил. Потом чинил и дверь, и перила, а она его кормила. Ее комната была единственным человеческим, а не свинским местом. Девушка самая простая, техник-смотритель.
– Какой же вы смотритель, если у вас все рушится?
– Я знаю, – сказала она тихо. – Вот кто-нибудь насмерть убьется, и меня посадят. Я уже к этому готова. Даже в тюрьму ходила посмотреть, как там… Поверите, никакой разницы.
Он был потрясен этой готовностью тюрьмы, а главное – замечанием, что разницы-то никакой. Края эти сплошь утыканы были раньше пересылками да лагерями. Срослись воля с неволей, превратившись в одно. И еще она ему сказала, что в этих краях живут люди, меченные горем. Человек с радостью внутри – отсюда бежит.
– А какое у вас горе? – спросил Павел.
– Я тут родилась. Это не горе, это доля.
Бродя по геологическим дорогам, Павел знал степень обреченности людей, прошедших и веру, и неверие и остановившихся на мысли: значит, так тому и быть. Он возмущался этим покорством, но и преклонялся перед ним, он хотел что-то изменить, но постепенно сам становился таким. Но тот случай с Тоней показался ему столь несправедливым, что где-то внутри полыхнуло: надо бы ей помочь, но тут же накрыло другое. Кто поможет? Ты? Ты себе-то помог? Ты дитю своему всегда помогаешь? Ты даже на смерть отца не успел! Так и моталась его душа между «сделай» и «остановись», и он то возникал у Тони и рассказывал ей о Питере, о белых ночах, и она, замерев, слушала, думая совсем о другом: по-разному к ней мужики подбирались, но чтоб через музей Эрмитаж – так вроде еще не было. И она выставляла его за дверь на самом интересном месте, а он, уходя, клял себя, что идиот, что живет себе девушка по «написанной судьбе», и не его собачье дело расшатывать перила этой ее судьбы. Что он ей может предложить? Какую такую дверь выхода? Бывало, что приходил он с собственной тоской и говорил про дочь, которая растет под влиянием матери, а мать… «У нее на лбу вздымаются жилы – символ алчности». Тоня думала, интересно, что это такое – символ алчности? Слово было чудное и непонятное. Спросить она стеснялась. Пошла в библиотеку, спросила у знакомой библиотекарши: «Валя, алчность, это что?» – «Ой! – сказала Валя. – Я понимаю, но объяснить не могу. Это что-то грубое». – «Дай словарь», – попросила Тоня. Но Валя сказала, что словари у нее только для правописания, без объяснений значения.
Потом у них с Павлом случилось это. И снова, как и с другими мужчинами, Тоня подумала: зачем? Никогда близость не приближала ее к мужчине больше, чем поход в кино или танец. В этих отношениях, думала Тоня, есть нужда у мужчины, а женщина просто приспособлена для этой нужды.
– Ты бы сказала, что это тебе ни к чему, – сказал Павел. – Я ведь не насильник.
– Но ведь тебе хотелось…
– Мало ли чего мне хочется! Это же не повод тебе соглашаться. Хорошо бывает, когда хочется двоим. Тогда кайф…
– С женой было лучше?
– С женой до поры до времени была любовь. Но любовь в наше паскудное время – исчезающая природа.
Больше он ее не трогал. Прошло какое-то время, когда она почувствовала, что ей это обидно. Но обидно не в душе, а как бы телесно. Руке обидно, ноге, животу… Ей никто никогда не говорил о тайности желаний тела, «которому хочется». Одна штукатурщица время от времени, сжимая колени, кричала во всю мочь: «Ой, бабы, хочу! Все аж горит во мне!»
На ее крик шли мужики, и все было просто, как у кур. Раскрасневшаяся штукатурщица приходила из подсобки с довольной мордой, и работа у нее горела в руках. Тоне было неловко от такой открытости стыдного дела, но она молчала, принимая людей такими, какими они родились. «Один – такой, другой – другой. Так ведь и травинок нет одинаковых». Но настигшее ее томление тела было ей неприятно, ибо она сразу стала слабой, стала от него зависеть, стала высматривать Павла, потому что не абы кого, а именно его хотела ее кровь. И однажды она его позвала к себе.
– Ну что у тебя? – спросил он, переступив порог.
– Поесть хочешь? – ответила она.
– Да, в общем, нет, я из столовой.
– Жаль, – сказала она, – у меня голубцы.
– Так бы и сказала, – засмеялся Павел. – Голубцов я сто лет не ел.
Они ели и смеялись, отчего это так обозвали капусту с начинкой. Ни голубь, ни голубой цвет тут как бы не подходили. Она боялась, не заметит ли он скрытого смысла ее голубцов – вот позор-то будет, а потому говорила больше о пище – вот, например, салат оливье. Что бы это значило в корне?
– Повар был такой, – сказал Павел, – по фамилии или имени, этого не знаю, Оливье. Он и сочинил этот салат.
Вот над этим «сочинил салат» Тоня и задумалась. Что-то сдвинулось в мыслях и стало раскручиваться. И повар может быть сочинителем и оставить имя. Ну и что? К тебе-то это какое имеет отношение? Никакого. Но Павел заметил в ее глазах это легкое смятение и даже понял его: девушка первый раз задумалась над тем, что человек в деле своем может оставить имя. Даже в таком деле, как готовка пищи. Ах ты, Господи! Какое же непаханое поле душа русского человека, все в нем растет вповалку, а тронь, заинтригуй – и пойдет плодоносить незнамо какими чудесами. «Лучше и не трогать, – решил Павел. – Зачем сбивать ее с толку. Что ей тут светит?»