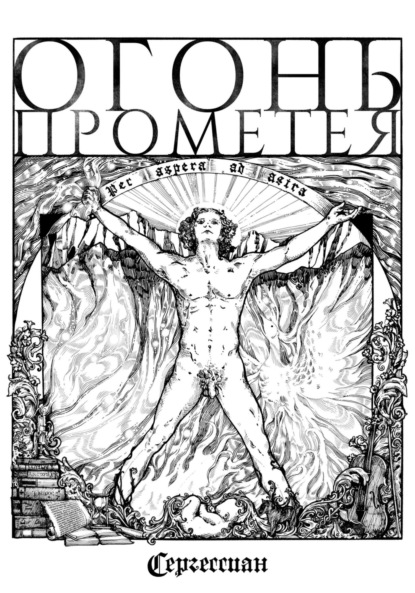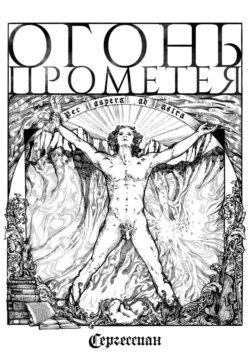
000
ОтложитьЧитал
С минуту мы безмолвствовали. Я взял правую руку Себастиана и проверил пульс: слабый, но стабильный.
– Вы что-нибудь ели сегодня? – спросил я засим.
– Нет. Мы обедаем несколько позднее.
– Вы потеряли много крови, – мягко возразил я, – вам надлежит обильно потреблять жидкость, дабы восполнить утрату и набраться сил… Эвангел, – я повернулся к старцу, бесшумно сидящему на стуле в дальнем углу комнаты, – приготовьте что-нибудь пожалуйста: бульон или суп…
Ответив мне наклонением головы, Эвангел встал и вышел.
– Как я понимаю, вы живете вдвоем? – обратился я тогда к Себастиану с этим весьма надуманным вопросом, дабы посредством общения окончательно расковать обстановку.
– Да, – подтвердил Себастиан. – Больше здесь никого нет… и никто не бывает… Раньше доктор Альтиат навещал нас. Мы подолгу беседовали, он сообщал нам значимые общественные и культурные новости, делился сведениями о новейших научных достижениях, за каковыми пристально следил, привозил в подарок новые книги. И, конечно, играл для нас на скрипке.
– Доктор играл на скрипке? – удивился я не на шутку.
– Да, – удивленно же ответил Себастиан.
– Я, признаться, и не подозревал… – обронил я, рефлекторно положив правую ладонь себе на темя (по-новому вглядываясь в даль прошлого).
– Доктор Альтиат был замечательным музыкантом, – сказал Себастиан, на мгновение в блаженной улыбке замерев. – Воистину вдохновенным. Когда он отдавался исполнению, менялся в лице неизъяснимо… преображался… расцветал… словно для него переставало существовать все земное – одна волшебная музыка, кою он творил… Сия же священная благодать нисходила и на нас, слушателей, ибо: зачарованно внемля музыке, мы сами – музыка… Однако доктор говорил, что способен играть, как подобает, лишь тут – в горном поместье, где отдыхает его сердце, среди нас – своих друзей, с которыми радуется его душа… – Себастиан вздохнул тиховейно. – Музыка стала для меня великим утешением. Когда мой отец и наставник Лаэсий ушел из жизни (мне было шестнадцать), доктор Альтиат взялся наведываться к нам чаще прежнего и обучать меня сему удивительнейшему искусству, магии подобному (Лаэсий, как истый стоик, воздерживался приобщать меня оному, покуда дух мой не возмужает и не окрепнет достаточно, чтобы музыка облагораживала его, а не расслабляла). И доктор подарил мне свою скрипку (кою любил ласково именовать «Лирой»), – Себастиан указал взором на кофр, лежащий на круглом треногом столике у окна. – За минувшие годы, музицируя ежевечерне, я достиг значительных успехов в освоении инструмента (сроднился с ним)… а все же не сумел сравняться с доктором Альтиатом…
Себастиан смолк; очи его блеском меланхоличной умильности подернулись…
– Вы никогда не покидали пределов поместья? – спросил я (когда он посмотрел на меня долгим – задумчиво-светозарным – взглядом).
– Это так. Ни разу с тех пор, как живу здесь. Вот уже почти тридцать лет.
Я не нашелся что сказать и сконфуженно промолчал.
– Деон, – молвил тогда Себастиан, – вы хотели бы узнать мою историю?
– Если вы сами желаете меня в нее посвятить…
– Я считаю это необходимым, – кивнул Себастиан, – поскольку между друзьями долженствует безраздельно царить взаимопониманию и взаимодоверию. А для меня важно, Деон, чтобы вы стали моим другом. Смею надеяться, это взаимно.
Я убежденно заглянул Себастиану в глаза, изливавшие ясную ауру благородства. Он улыбнулся мне. Его улыбка, как и вся мимика в целом, была благостно-спокойной, едва ли не эфемерной и в тот же момент столь выразительной, будто сдержанной и такой искренней… Она одухотворяла лик Себастиана так, что затмевала собою всю внешнюю неестественность его, естественной сутью сияя… То была истинно человеческая улыбка, хотелось бы мне сказать, но по причине, что людям почти не причастна подобная непорочность духовных проявлений, приходится сентиментально наречь сию улыбку – ангельской…
– Моя жизнь – тайна, – методично заговорил Себастиан чистым глубоким голосом, – и по условию должна таковой оставаться. Только четверо человек, включая вас, Деон, ныне знают о моем существовании; для всех остальных – я давно умер… Дело в том, что я принадлежу к знатному и влиятельному роду. Мой отец – герцог, министр, один из самых приближенных подданных монаршей особы. Рождение мое – тридцать два года назад – одарило великим счастьем родителей после четырех лет бездетного брака: здоровый, крепкий мальчик – гордость отца и отрада матери. Первый год своей жизни я был именно таким – прелестным белокурым дитя. Но ко второй весне стали явственно обнаруживаться признаки моего врожденного заболевания. Волосы, необыкновенно интенсивно для столь раннего возраста растущие на голове, начали пробиваться по лицу. Родители чрезвычайно встревожились. Был привлечен выдающийся врач, ранее излечивший мою мать от бесплодия и ввиду своего успеха, а также безукоризненности репутации, заручившийся крупным кредитом доверия у отца, – доктор Альтиат. Впредь доктор регулярно наблюдал за мною. Безуспешно проштудировав многие тома медицинской литературы, он пытался выявить патологию и воспрепятствовать ее развитию различными методами и средствами; однако же всё, что ему на первых порах удалось, это обесцветить при помощи специального раствора пушок у меня на лице и сделать его почти неприметным. Но неделя от недели волосяной покров сплошь разрастался по моему телу, становился длиннее, гуще. Доктору Альтиату, по требованию отца, пришлось прибегать к восковым процедурам на видимых участках кожи, каковые процедуры для нежного дитя проходили крайне мучительно (посему ж доктор, ласково потерпеть увещевая, был вынужден вкладывать мне в рот тряпичный кляп, чтобы вопли мои и рыдания не разносились по всему особняку). Вскоре, впрочем, стало очевидно, что, дабы скрыть мое соматическое отклонение, придется подвергать меня сим пыткам буквально каждодневно (так стремительно прорастал на лице новый пушок, делаясь притом насыщеннее, темнее), а это, помимо физической боли, угрожало непоправимым разрушением моей психики, – и с категорического настояния доктора Альтиата решено было прекратить неэффективное и вредоносное наружное противодействие.
Между тем мне минуло три года. Отныне я все время проводил в четырех стенах находящейся в отдаленной нежилой части особняка комнаты, покидать кою мне не дозволялось; со мной безотлучно находилась престарелая няня, некогда опекавшая мою матерь, покуда та была в девичестве. Всем прочим слугам, а равно родственникам и друзьям, говорилось, что я серьезно болен, что хрупкая жизнь моя способна дать трещину от малейшего волнения, посему мне должно бессменно пребывать в постели средь ненарушимого покоя. Отец никогда не заходил ко мне; стыдился своего позора, трепетал мрачного краха светлых надежд своих: долгожданный сын – плоть от плоти, наследник имени, титула, чести – оказался неизлечимым уродом без всякой будущности, беспримерным бесчестьем, кое ничем не избыть, бременем души, от коего вовек не отрешиться. Мать поначалу наведывалась довольно часто, брала в руки мою длань – единственное место тела, не поросшее шерстью – и, то глядя на меня, то поникая взором, безутешно проливала слезы; да и я, сам не сознавая тому повода, плакал вместе с нею. Серьезно опасаясь за нас обоих, доктор Альтиат попросил на время приостановить эти визиты. И матушка приняла его рекомендацию как желанный рецепт самооправдания – с душевным облегчением. Больше я ее не видел.
Близился четвертый год моей жизни, – если позволительно так называть заточение, во время которого все, чем я занимался: спал, ел и бездумно катал по полу деревянную лошадку на колесиках, – когда лицо мое стало напоминать скорее моську какой-нибудь мохнатой собачонки, нежели лик чада человеческого. Все старания доктора Альтиата исцелить меня оказались тщетны. Он не раз предлагал отцу привлечь других врачей, созвать консилиум, но тот ультимативно накладывал свое вето, аргументируя: «Насколько мне известно, вы лучший специалист в физиологической области. Насколько мне известно, все ваши тщания ни к чему не привели. И, наконец, насколько мне известно, сие заболевание не имеет научно-описанных примеров, следовательно, никому неведомо, как его лечить и излечимо ли оно вообще. Ввиду всего вышеозначенного я не желаю вводить в эту бесславную тайну моего досточтимого дома каких-либо новых лиц, дабы горе наше не стало в конечном счете притчей во языцех. Надежд, что сторонняя помощь пойдет впрок, у меня, да и у вас, полагаю, почти что нет. В то время как риск гласности несоизмеримо значительнее. Честь рода для дворянина, доктор, превыше всего…»
Самоочевидно, что мое существование с каждым днем становилось все тягостнее для родителей. Мать сделалась предельно слабонервной: напряженной и рассеянной в обществе, а в уединении почасту предавалась слезной истерии да с одержимостью твердила молитвы. Отец был мрачен и раздражителен; из дружеского расположения, почтения или же заискивания у него то и дело справлялись о здоровье сына, и ему, скрепя сердце, приходилось из раза в раз утаивать истинное положение вещей – врать вопреки своей гордости, дабы эту самую гордость сохранить, по крайней мере в глазах света. Да и мне грозило вырасти хворым и отсталым, коли я безвыходно находился взаперти с одной лишь старой няней – доброй и заботливой, но малограмотной и недалекой. В итоге, с одобрения (а весьма вероятно, и по инициативе) духовника, сподобившегося благодаря родительскому горю исключительного на отца и мать влияния (ибо недуг мой подразумевался вышней карой за их грехи), было решено меня переселить. Для этого требовалось, во-первых, подыскать уединенный дом, достаточно удаленный от ближайшего населенного пункта; во-вторых, приставить ко мне наставника, который воспитает из меня правоверного христианина (во исполнение отчего долга перед богом); в-третьих же, нанять в услужение такого человека, кто сумеет вести быт, будет ездить закупать продовольствие, отправлять и получать корреспонденцию, да не измолвит при сем ни единого лишнего слова. Вскорости отец через третьих лиц приобрел небольшое горное имение, прекрасно для данного плана подходящее; оно было выстроено одним сановитым мизантропом, что, отслужив чиновником до почтенных седин и, как это нередко случается, возненавидев всех и вся, искал нелюдимого пристанища до конца дней своих (в компании пары вымуштрованных слуг и любимой охотничьей собаки), – он похоронен здесь же, в саду под кипарисом, и на могиле его наперекор древней традиции начертано: «Non sta viator!» («Не стой, прохожий!»); после кончины хозяина поместье долгие годы простояло опустелым и заброшенным, не привлекая к себе покупателей, точно бы блюдя последнюю волю своего основателя. И вот сему затерянному месту уготовано было стать моим – обычно в подобном случае говорят «новым», но я скажу иначе – моим настоящим домом… Между тем родительский духовник предоставил слугу, одиннадцать лет до сего примерно служившего монастырским садовником – немого и безграмотного Эвангела, однозначно при всем желании не смогшего бы кому-либо обо мне проговориться; а доктор Альтиат порекомендовал наставника, своего старого друга, бедного и сирого приходского священника Лаэсия, сердечно чтимого его маленькой сельской паствой (духовник также выдвинул некую кандидатуру, но она, показавшись отцу менее благонадежной, была отвергнута). Доктор Альтиат, в свой черед, обязывался периодически меня навещать, следя за моим состоянием и о нем докладывая, но не родителям напрямую, а духовнику, чье молчание должно было свидетельствовать отцу и матери, что все в порядке и можно обо мне не вспоминать… – Себастиан, перед собою глядя, смолк на (продолжительное) мгновение. – Однажды «под покровом ночи» я был скрытно вывезен из фамильного особняка и доставлен сюда. Отец же уведомил общественность, что его единственный сын и наследник скончался от своей затяжной болезни; в гроб, богато обрядив и загримировав подобающе, положили беспризорника – моего ровесника, умершего от истощения в какой-то клоаке. Заботы о подготовке пышного похоронного спектакля целиком и полностью взял на себя духовник, за что и оказался щедро облагодетельствован неоплатно ему обязанным герцогом. Вот как всё в немногих словах было…
– Мне очень жаль… – вымолвил я, пораженный и подавленный услышанным.
– Я ни о чем не жалею, – уверенно сказал Себастиан. – Я доволен тем, что жизнь моя проходила в отдалении от искушений и недомыслия «высшего света» – в заповедном покое. Я благодарен судьбе, что не рос в косной замкнутости герцогского особняка средь роскоши и гордыни, средь бесплодной суеты, средь тягот праздности; что избавлен был от пагубного влияния своих родителей и их окружения, поскольку подобные люди – благоденствующие внешне и бездольные внутри – живя сословными предрассудками, закономерно прививают оные и чадам своим; я солидарен с философом Сенекой, заметившим, что родительские мольбы о счастье для их детей зачастую равносильны проклятиям, – ибо как возможно желать кому-либо того, о чем сам имеешь превратное представление? (Проклятие, в сущности, не что иное, как извращенная молитва.) Мои родители, – насколько могу судить исходя из того, что мне о них ведомо, – люди не мудрые, соответственно – не добродетельные, соответственно – не свободные. А именно три этих аспекта личности, каковые не могут существовать обособленно, составляя таким образом триединство, определяют человеческое достоинство – определяют человека. Если человек мудр, он добродетелен, ибо обладает знанием того, что есть зло и что есть благо (согласно человеческой натуре – разумению согласно); если человек добродетелен, он свободен, ибо, сознательно сторонясь зла и стремясь ко благу, не допускает никаким тлетворным воздействиям проникать в сферу своего духа: стойкой волей воспрещает заблуждениям сковывать его, страстям истязать, калечить порокам, – и неуклонно шествует трудной, но вдохновенной стезею постижения, следуя путеводной звезде истины. Только такого человека должно считать воистину разумным; только такого человека позволительно называть воистину человечным. Ведь что же характеризует человека, как не разум его? Во всем прочем люди сродственны животным, и только разум – то есть духовное самопознание (осмысленность чувств) и проистекающая отсюда творческая потенция (вера в себя) – подлинно человеческое свойство. Стало быть, совершенствуя разум, человек исполняет свое природное предназначение – эволюционирует в искусстве человечности.
Осознание и принятие сего я очень навряд ли сумел бы обрести в отчем доме, где в почете церемонные понятия и высокопарная предубежденность, а перед безыскусно суровой истиной, в паллий5 облаченной, кою никто не знает и не желает знать в лицо, нарочито захлопываются двери, – но обрел здесь благодаря своему мудрому наставнику Лаэсию.
Когда я был ребенком, он поведал мне басню: «Однажды Прометей6 показал людям две дороги – дорогу свободы и дорогу рабства. Дорога рабства, шедшая под гору, представала поначалу торной и пологой, живописной с виду, суля немало услад, но узкой, каменистой и дремучей впоследствии. Дорога свободы, шедшая в гору, представала поначалу крутой и труднопроходимой, тернистой с виду, немало тягостей суля, впоследствии же – ровной, светлой, привольной, изобилующей плодоносными рощами и родниками». «Так вот, – подытожил мораль наставник, – дорога рабства – это беспутье невежества и порока, а дорога свободы – путь просвещения и добродетели».
Некогда, в раннюю пору моего отрочества, Лаэсий сказал мне: «Себастиан, выслушай со всем вниманием и, тщательно обдумав, запечатли мысль мою в душе своей, как если бы оная исконно тебе принадлежала, будучи органической частью натуры (интуитивным постижением – искренней верой), – ибо только тогда из ненадежного мнения станет она подлинным знанием. Запомни, сын мой: мудрости невозможно выучить, невозможно привить добродетель (как невозможно видеть чужими глазами). Я буду твоим усердным и преданным проводником, но последуешь ли ты вровень со мною, сумеешь ли верно ступать этой непростой восходящей тропою, не пятясь назад, не сбиваясь с пути, безустанно и смело углубляясь в себя, познавая себя и над собой возвеличиваясь, – зависит единственно от тебя самого. Мудрость суть личный выбор, ибо: «Воля и разум – одно». Достоинство человека, – а значит и благо, – его разумение – его дух – его личность… Все наши идеи есть нечто эмпирически приобретенное; и от того, как они воспринимаются, рассматриваются, сравниваются и комбинируются, а в результате – какие из них, превалируя, выходят на авансцену жизненных интересов (становятся активными, движущими принципами), обусловливается умонастроение индивидуума, его ментальные способности и его темперамент – его этос7. Добродетель – протагонист разума, равно как порок – антагонист; поскольку без разума – сего театра мыслей, чувств и страстей – нет ни добродетелей, ни пороков; и если мы с необходимостью признаём, что первые разуму естественно присущи и благотворны, то с необходимостью также признаем, что последние для него противоестественны и пагубны. Добродетельным человека делает сознание, следовательно, исполнение человеческого долга (ведь кто не исполняет свой долг, его не сознаёт), тогда как порочными люди делаются по неведенью, следовательно, неисполнению такового («Истина и справедливость – сестры»). У человека как существа нет и не может быть никакого морального долга (как нет и не может быть оного у прочих животных), но человек как личность без морального долга перед самим собой (а соответственно, всем человечеством в своем лице) немыслим, – ибо принятие сего долга и дарует право духовной свободы – добродетель – поступать согласно разумению, пристально господствующему над слепыми аффектами – вольно стремиться к истине – подлинной чести, каковая сама по себе суть высшее воздаяние в человеческой жизни… Итак, будь себе добрым другом, но и строжайшим судьей. Всемерно верь в себя, но не теряй над собою зоркой бдительности. Несознающий несовершенства своего – ему раболепствует; сознающий – над ним возвышается. Никогда не должно удовлетворяться, что ты лучше многих (сие есть гордыня), но всегда подобает стараться быть в одном ряду с немногими – наилучшими, в среде которых недопустимы ни зависть, ни презрение – одно уважение (сие есть гордость); ибо нравственное равенство утверждается непрестанным стремлением к нравственному превосходству (что суть бесконечное стремление к Идеалу)… Помни: «Нет царского пути в геометрии», – всякий личный успех зависит от личного желания (так великий русский ученый и просветитель Михаил Васильевич Ломоносов – «человек из народа» – происходил из семейства невежественных крестьян и исключительно в силу благородного желания знать – любви к наукам и искусствам – стал Собою). Прилежно читай и учись, наблюдай окружающий мир, во все его феномены чутко вникая, а прежде всего – познавай собственное «Я» (ибо твоя жизнь всецело заключена в тебе самом: «Кто ведает все, нуждаясь в себе, нуждается во всем»). Бесперечь ищи в душе своей вопросы и ответы, однако не забывай, что порой глубоко поставленный вопрос не подразумевает ответа, который бы можно было четко уяснить, выразить словесно, но сам по себе является таким знамением, кое возможно только прочувствовать. Основное же, дабы разум и чувства пребывали в эссенциальной созвучности, интуицией именуемой: ум без чувства – все равно что сухое полено без искры, долженствующей его возжечь, – он не способен озарить и обогреть душу; чувство без ума – все равно что молния без громоотвода, – оно разит стихийно и испепеляюще; тому и другому надлежит держать курс за горизонты зримого под парусом светлой веры, при сем блюсти уравновешенность и соразмерность, чтобы верно продвигаться вперед, а не беспутно кружить на месте, – именно в этом состоит истинная мудрость – именно в этом проявляется Гений… Живи всем своим существом, осмысленно и вдохновенно, но извечно помни о смерти, – только вполне постигнув, что смертен, вполне постигнешь, что жив. Чти и береги свое время, ибо это значит чтить и беречь самое себя, ибо время – единственное наше неотъемлемое достояние; и коли порой кажется, что время ничего не стоит, то лишь потому, что оно бесценно…»
Такими прямыми, искренними речами наставлял меня отец, что сродни метко пущенным стрелам западали мне в душу…
– Вы были очень привязаны к нему, – констатировал я.
– Всем сердцем, – тихо промолвил Себастиан, и углубленный в себя взор его забрезжил мягким сиянием.
– Вашего наставника давно не стало? – как-то само собой слетело у меня с языка.
– Шестнадцать лет минуло, – отвечал Себастиан. – Половина моей жизни… – смолкнул он на момент (как бы вглядываясь в даль прошлого). – Лаэсий с юношеского возраста страдал хронической пневмонией; в периоды обострений его одолевали приступы безудержного кашля, сокрушающего все тело и словно бы раздирающего грудь… В виду сего доктор Альтиат был очень доволен, что ему удалось устроить, дабы Лаэсий оказался назначен моим наставником, – поскольку это, во-первых, избавляло Лаэсия от хлопот священнических обязанностей и обеспечивало бестревожное существование, в каковом он нуждался (и даже не столько по вине телесной хворости, сколько в силу духовного склада), во-вторых, позволяло доктору чаще навещать своего друга; в-третьих же, разумеется, доктор мог быть уверен, что я нахожусь под самым надежным регентством.
Но даже несмотря на болезнь, Лаэсий с самого детства, проведенного в скверных условиях сиротского приюта, был хил здоровьем. И доктор Альтиат не переставал удивляться, как сей человек, постоянно грозящий испустить дух из надорванной груди, столь стойко держится, неутомимо при этом занимаясь философией, науками, литературой, языками.
Однажды на моих глазах разыгрался следующий эпизод:
– Верно, весь секрет в книгах, – искоса поглядывая на Лаэсия, с полуулыбкой повел речь доктор Альтиат, покуда прохаживался по библиотеке, в то время как наставник писал за столом, а я (лет одиннадцати-двенадцати) тихонько посиживал в амбразуре окна, что-то рисуя в альбоме. – Уж не знаю какая тут химия замешана, – продолжал доктор, книжные стеллажи озирая, – но эти тома для тебя, друг мой, клянусь Геркулесом, tamquam («как будто») чудодейственная панацея – «aurum potabile»8. Казалось бы, весь этот беспрерывный труд, весь этот непомерный вес бумажных кип, содержание каковых без устали сгружаешь ты себе в голову, должен бы тебя вконец извести, – а нет… Ты, Лаэсий, что неудержимый Самсон, вольно несущий врата Газы9.
– Деятельность взыскующего мудрости лишена суеты, – молвил наставник, плавным движением перо отложивши. – Она не выматывает, не иссушает, а наоборот, культивирует бодрость духа, ибо осияет его стремлением расти над собой. Деятельность взыскующего мудрости – отдохновение, обретаемое трудом, кое здраво питает естество человека.
– В таком случае, позволь (прибегнув к аналогии достойной Сократа, для которого прекрасно все прекрасное и, в не меньшей степени, чем остальное, прекрасно сваренная каша)… позволь, amicus meus («мой друг»), сравнить тебя с земледельцем: книги – это семя, мозг – пашня, мысль – борона, знания – хлеб.
– Ты позабыл самое важное…
– Что же?
– Душу.
– Ах! – торжественно щелкнул пальцами доктор, знаменуя свое упущение (не без иронии). – Praeda fugacior essentia («неуловимая сущность»)! И как ее мы обозначим?
Лаэсий, при улыбке, ответил серьезно:
– Печью, где злаки познаний, взойдя на жаре эмоциональной сопричастности, становятся благотворной пищей разума.
– Ты прав… – вдумчиво согласился доктор Альтиат. – Ведь и философия Декарта, по его собственному заявлению, взошла в печи10, – усмехнулся он. – У большинства людей, жатва чьих умов дает самый ничтожный урожай, печи душ едва лишь тлеют, так как оным приходится бесхозно пустовать, – посему ж и кормится их разум дикими, сырыми желудями недомыслия; а бывает, впрочем, что урожай-то богат, да только лежит себе сваленным в закромах памяти (я про тех, кто учился non vitae, sed scholae («не для жизни, а для школы»)) и исподволь сгнивает средь затхлого мрака забвения (помилуй их Ганеша11)… Но печь твоей души, конечно, всегда пышет битком набитая, вдоволь насыщая тебя живительными щедротами… И все-таки не забывай, Лаэсий, приснопамятные слова античных своих собратьев, удостоенные быть в камне высеченными (и ни где-нибудь, а в самом что ни на есть центре мира), – бессмертные слова сии: «Мера во всем»12.
– В данном случае, – солидарно кивнув, возразил наставник, – как тебе самому хорошо известно, природа, primo («прежде всего»), установила положенный срок дня и вменила благостную насущность сна, дабы сей мерой так-то просто было пренебречь. Item («далее»), (днесь я тоже воспользуюсь «сократовым сравнением») если уподобить литературу амфоре, из которой мы переливаем жидкость познаний в сосуд своего ума, кой, может быть, весьма объемен, но все ж ввиду, скажем так, своей структуры, обладает довольно-таки узким горлышком, нам надлежит с тем согласовываться, что коль проявить спешность, небрежность, немалая часть того, что мы в себя вливаем, окажется зазря расплесканной. И postremo («наконец»), друг мой, было бы нелепо и постыдно, ежели тот, кто превыше всего печется о разумении, попирая меру, поступал бы ему вопреки, – ибо нет на свете ничего ближе и сродственнее разумению, нежели мера. «Воздержность суть основа добродетели» – «Добродетель есть знание». И мне также хотелось бы напомнить тебе слова, пусть не высеченные над священным преддверием, но несомненно того заслуживающие: «Пороки распространяются беспредельно, предел добродетели – полная мера»…
– Я созерцаю эту беседу столь отчетливо, будто она имела место только вчера, – сказал Себастиан; и спустя несколько секунд молчания продолжил: – Сейчас во мне говорит еще одно, более раннее воспоминание. Когда я, лет восьми, случайно подслушал неутешительное заключение доктора Альтиата, высказанное им Лаэсию по поводу текущего состояния его здоровья, и, захлестнутый испугом, спросил у наставника не умрет ли он, не покинет ли меня, тот со своею особенной ласковой улыбкой, умудренный лик зарею юности озлатившей, и глазами, ясным теплом лучащимися, ответил мне: «Не бойся, Себастиан, сын мой, покуда я не взращу в тебе Человека, не оставлю тебя. Доктор Альтиат, когда мы с ним только познакомились, откровенно признался мне, что навряд ли я проживу свыше пяти лет; с оной поры Земля уж двенадцать раз обогнула Солнце: все так же мучусь, все так же терплю… Ныне я живу ради тебя, Себастиан, – это придает мне невиданной дотоле силы, – и я не посмею сдаться. Но как скоро отчий долг мой будет исполнен, я покойно сойду в обитель векового сна, а ты, сын мой, покойно меня туда отпустишь…» – так сказал мне отец, словом своим рассеяв мои страхи, взором своим осушив мои слезы…
Лаэсий считал, что главное – вера в себя; что человеческий организм адаптирован самосильно излечивать или подавлять, тем паче же предохранять, почти любые недуги, – долженствует только вести умеренный образ жизни, категорически не причастный излишествам и вредным привычкам, держать тело в крепости посредством физических упражнений и пеших прогулок, неукоснительно соблюдать гигиену, а сверх всего – сохранять в душе благодатное равновесие, приличествующее мудрому. «Природа дарует стремление и способность, разумение же определяет меру и цель», – таково было кредо Лаэсия. В согласии со своей практической философией наставник растил и меня, и я никогда серьезно не болел… лишь однажды… – на мгновение взор Себастиана затянуло меланхоличной поволокой. – Контрарно тому, Эвангел по первости желал меня закармливать, заботливо полагая, что растущий организм, как гласит обычай, нуждается в плотной трапезе; а еще по вине той горестной причины, что ему из личного опыта была ведома агония смертельного голода, раз познавши кою, человек впредь стремится наедаться досыта, инстинктивно опасаясь вновь испытать былые муки хотя бы отчасти. Но Лаэсий настрого воспретил Эвангелу подавать нам обильные и разнообразные кушанья, доходчиво разъяснив, что это не пойдет ни мне, ни кому бы то ни было на пользу, а только-то навредит; соответственно, он наказал приготавливать самые незатейливые блюда, поскольку разборчивости в еде непременно наследует неумеренность – патогенез массы расстройств, как соматических, так и душевных; не говоря уже о том, что кулинарная вариабельность порождает привередливость, меж тем как необходимое никогда не приедается. «Есть нужно, чтобы жить, – повторял Лаэсий речение Сократа, – а не жить, чтобы есть». Общий же принцип наставника сводился вот к чему: на первое место человеку надлежит ставить не удовольствия (как процесс), а удовлетворенность (как завершенность), которая по сути своей более совершенна, при том что более проста. И постепенно Эвангел усвоил мудрое чувство меры, сообщавшее ему, как правильно приготовить и какой порцией подать ту или иную трапезу, дабы она насыщала, а не пресыщала, и дабы, как вы верно знаете, поучал Гален, вставать из-за стола немножко голодным, что по увещанию сего выдающегося врача-философа способствует подобающей работе организма.
Надо заметить, потребность в пище при регулярном питании по урочному режиму весьма скромна. То, сколько человек ест, зависит прежде всего от того, сколько он привык есть (сиречь: сколько ему хочется), и только во вторую очередь соразмеряется с тем, сколько энергии он затрачивает (сиречь: сколько ему требуется). Ибо, как и прочими физиологическими функциями, насыщением заведует мозг, а значит, оно до определенной степени контролируется психически. Мне довелось читать об индийских аскетах, каковые, умерщвляя плоть, съедают по одной пригоршне отварного риса в день, – это, конечно, безосновательно для мыслящего человека, которому нужно подкреплять ментальные силы, соприсущие силам телесным, – но все-таки сей пример тем показателен, что при соответствующем настрое и упражнении организм приноравливается существовать благодаря такой малости.
Воды Лаэсий, напротив, считал должно выпивать вволю: «Ибо, – аргументировал он, – вода очищает организм и освежает душу, да и вообще есть сам субстрат жизни, – ведь удали в живом существе всю жидкость, от него почти ничего не останется; потому-то без пищи, бывает, люди выживают неделями, а без воды не продерживаются и нескольких суток». Впрочем, оговорюсь, что в понимании наставника «вволю» было строго паритетно «в меру», поскольку, вспоминая его высказывание: «До чего бы ни был насущен воздух, коль приняться чересчур жадно вдыхать, то неизбежно начнешь задыхаться».