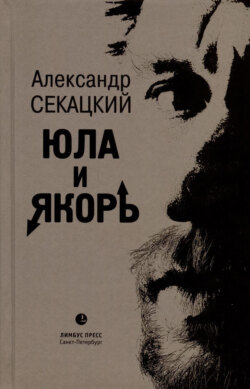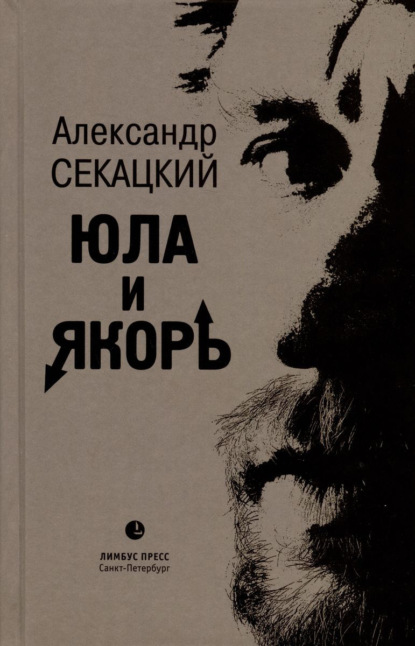© А. Секацкий, 2022
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2022
© А. Веселов, оформление, 2022
* * *
Часть 1
Якорь: опыт применения одной метафоры
1
Давным-давно я собирался начать статью со слов «давным-давно», и вот наконец представился повод. Я услышал обрывок фразы «Мыслить – это значит бросать якорь».
Соображение показалось мне очень странным и сначала запомнилось именно своей странностью. Если бы сказали, например: «Мыслить – это значит мчаться на всех парусах, ловить попутный ветер, плыть по звездам» – да кажется любая морская метафора подошла бы, даже «пиратствовать» и «брать на абордаж». Меньше всего навскидку годилась как раз эта: «бросать якорь». Иными словами, тормозить, а ведь «мыслить» и «тормозить» – две вещи несовместные.
Сейчас, когда я не просто склонен считать, что связь мышления с бросанием якоря имеет глубокий смысл, но и использую этот образ как подспорье в собственных размышлениях, мне хочется восстановить краткую историю якоря в этом качестве. Сначала из-за своей парадоксальности сравнение хорошо зацепилось, и я специально поставил себе задачу найти сходство в мышлении и забрасывании якоря. По крайней мере, найти применение этомуобразу. И ход рассуждений был примерно такой: для перемещений по суше якорь не нужен. Здесь проблемой является движок, ну иногда и тормоз, если транспорт быстро движется. Если же транспорт остановился, то не нужно никаких дополнительных усилий, чтобы «удерживать стоянку». Совсем иное дело корабль на море: будучи предоставлен самому себе, он плывет по волнам, и требуется специальное обеспечение остановки и стоянки – то есть как раз якорь. И тогда зададим себе вопрос: на какую из этих двух стихий больше похоже мышление? Конечно, оно больше похоже на море (поток мысли чего стоит!), потому-то легко были приняты прочие мореходные метафоры, и лишь вопрос о том, как применить к мышлению якорь, вызывает, в конце концов, даже что-то вроде азарта.
2
Кстати, и сухопутные перемещения вовсю используются в качестве метафоры познания: мы говорим о магистральном пути познания, о том, как не сбиться с пути, говорим о «заблуждениях» и даже греческий термин «апория» буквально означает «бездорожье». Можно вспомнить и ряд частных понятий, таких как «шаг рефлексии». Тут встает вопрос о роли метафоры в целом, вопрос далеко не однозначный, поскольку метафора поддерживает определенные наглядные представления, но другие представления и возможные подсказки интуиции при этом блокируются, так что установить баланс потерь и обретений не так просто. Кроме того, метафорам свойственно «замыливание», и следует в силу этого отпускать их в отпуск или даже отправлять в отставку, призывать на службу новые и поручать им сущностные репрезентации.
Море и мореплавание прекрасно подходят для иллюстрации того, что происходит с мышлением и мыслью. Есть морские течения разной глубины, есть попутный и встречный ветер – и тот и другой искусный мореплаватель может использовать в своих интересах. Можно ли в море заблудиться? Так, как в лесу, пожалуй, нельзя: выходящий в море не может ведь быть столь беспечен в отношении навигации, как входящий в лес. Если же твое судно потерпит крушение, а ты чудом уцелеешь – тогда наоборот, ты не можешь не заблудиться, ибо мореплаватель составляет одно целое с кораблем в гораздо большей степени, чем байкер с мотоциклом или даже всадник с конем. Поэтому снабженный средствами навигации корабль так напоминает кантовский трансцендентальный субъект: лишь на нем можно перемещаться в стихии познания и, следовательно, выступать в качестве субъекта науки. Но, потерпев кораблекрушение, ты не можешь остаться там, где оно тебя застало: даже если у тебя осталась шлюпка, а не обломок борта, отсутствие якоря сыграет роковую роль. Только благодаря ему можно удерживать постоянные координаты, благодаря брошенному якорю тебя могут найти, благодаря ему ты все же можешь сообщить нечто определенное, даже если у тебя нет других средств связи.
Теперь несколько проясняется это странное изречение: «Мыслить – это значит бросать якорь». Это значит иметь возможность остановиться там, где ты сочтешь нужным, изучить окрестности, поскольку именно эти окрестности оказываются для чего-то важны. Морские течения суть потоки ассоциаций, которыми мы не управляем, они разнонаправленны, и их суммарный итог – болтанка на поверхности, то, что принято называть шумом, и такое перемещение по воле волн и вправду не достойно имени мышления. И вот тут якорь может предстать как по крайней мере первый вызов собственной воли в ответ на волю волн. «Я хочу здесь бросить якорь, здесь замерить глубины и познакомиться с глубоководными обитателями» – так забрасывание якоря обретает черты акта собственной мысли. Это минимальный акт, который, однако, требует усилий и не достигается автоматически. Иными словами, дрейф по волнам есть фоновый процесс работающего сознания, сознания в режиме stand by. Но акт ego cogito требует как минимум якоря, требует выхода из фонового дрейфа и сосредоточенности на проблеме. Эффективность всех последующих ходов мысли определяется тем, способен ли ты стоять на якоре или нет.
3
Если вдуматься, то получается, что как раз якорь и решает вопрос об интенциональности мышления. Вспомним самую общую версию этой формулировки, восходящую к Гуссерлю: мысль есть всегда мысль о чем-то, мышление ни о чем – просто нонсенс. Что ж, это верно, но не благодаря свободному дрейфу в стихии мыслимого, а благодаря заброшенности якоря – посредством этого жеста или акта и фиксируется интенциональность. И усилие интенциональности – это усилие удержания, а не проникновения: без якоря машина абстракции будет работать на холостом ходу, то есть попросту имитировать работу.
Но общая форма интенциональности это еще не все. Якорь – главный инструмент членораздельности, ибо грамматическая членораздельность легко превозмогается и в итоге может поддерживать любую интеллектуальную невразумительность. Только якорь не дает трансцендентальному субъекту и вообще мыслящему «растекаться мыслью по древу»: он наша надежда и опора в борьбе с расплывчатостью.
Важно пояснить еще кое-что. Якорь не единственное средство выхода из гипотетической стихии мышления ни о чем. Конечно же, существует гравитация дальних и ближних берегов: сюда относятся прежде всего интересы в самом широком смысле слова, как сугубо личные (типа «своя рубашка ближе к телу»), так и, например, классовые. Или близкородственный круг, который, разумеется, обеспечивает систематическое отклонение потоков мышления и его предметную загрузку, ограничивая тем самым свободный дрейф без руля и без ветрил. Самое общее поле экзистенциальной гравитации намечено Хайдеггером в «Бытии и времени» и его экзистенциалы от заботы до бытия-к-смерти придают неустранимую интенциональную окраску и человеческому мышлению, и самой человеческой жизни. Можно сказать, что предоставленный самому себе (и воле волн) кораблик непременно будет прибит к одному из этих берегов и будет мерно покачиваться на волнах, не теряя из виду дома или своей неминуемой смерти.
Но это не является строгой интенциональностью мышления в понимании феноменологии Гуссерля – так очерчивается круг слишком человеческого и поле экзистенциального запроса в отличие от социального заказа. Полное подчинение этим гравитациям, как бы внутреннее согласие на них, означает смирение с участью мыслить недалеко, в окрестностях того или иного жизненного или житейского вопроса. В каком-то смысле это человеческая обязанность, и не исполнив ее, не войдешь в подлинность бытия. Но, скажем так, это далеко не все, на что способно мышление. Мышление, так же как и речь, имеет и собственные внутренние побудительные мотивы. Речь может выражать многое, выражать почти все в человеческом мире – но, помимо этого, речь осуществляет передачу смыслов и обмен актами существования. Речь должна продолжаться, непрерывная вахта разговора остается важнейшим гарантом сохранения очеловеченности.
То же относится и к мышлению. Да, поразмыслив, можно решить множество житейских вопросов и даже снизить остроту экзистенциального запроса, подобрав подходящие ответы из числа имеющихся. Но есть и другая мотивация, имманентная для самого мышления и, в принципе, трансцендентная для круга житейских вопросов. Ее точно сформулировала одна моя знакомая: «Дело в том, что я любою понимать». Пусть эта любовь к пониманию того же сорта, что и любовь к трем апельсинам (или цукербринам), однако на ее зов откликается трансцендентальный субъект, откликается познающий, которому в этом случае как раз нужен якорь. Ведь якорь не только позволяет не поддаваться самопроизвольным потокам, он способствует сохранению тех избранных мест, в которых заинтересована любовь к пониманию.
Вот что-то высветилось в потоке мысли, обозначился интересный ход: здесь стоило бы остановиться, разобраться с этой загвоздкой, произвести замер ее глубины, проверить близлежащие течения. Но вокруг неупорядоченные потоки, напирает гравитация житейских интересов, не допускающих откладывания. Как там писал Владимир Маяковский о своем товарище:
Правда, есть у нас Асеев Колька.
Этот может. Хватка у него моя,
Но ведь надо заработать сколько!
Маленькая, но семья.
И тут поневоле вспоминается наше меткое изречение: «Мыслить – это значит бросать якорь». Удерживать нужные перекрестки мысли, многообещающие глубины, несмотря на притяжение внешних интересов и на внутреннюю зыбкость самой стихии.
В отличие от буквального корабельного якоря, якорь мыслящего – это не стопор, а скорее метка, позволяющая вернуться. Есть и еще одно отличие. Корабль в море (точнее, его команда) должен обладать многими навыками, чего только стоит искусство навигации. Так что среди всего прочего забрасывание якоря есть нечто рутинное. Но для мыслящего кораблика (и тут уместно поправить Паскаля, заметив, что человек – это, конечно, не «мыслящий тростник», а скорее, мыслящий кораблик, обладающий элементами встроенной навигации, хотя отчасти эти элементы встроены в саму стихию мыслимого – как позывные маяков-экзистенциалов, как гравитация островов, каждый из которых носит имя особенного интереса) умение правильно и вовремя бросит якорь есть сокровенный навык, в чем-то тождественный с самим мышлением как свободомыслием. Ведь это означает предпочесть собственные интересы мышления всем внешним запросам и заказам, какими бы мощными и важными они ни были.
Таким образом, стояние на якоре есть как минимум двойное противостояние: неупорядоченным колебаниям стихии (в частности, «кретинизму побочных ассоциаций» – растеканию мыслью по древу) и зову со стороны мира, для которого мышление есть только инструмент. Бросание якоря – это внесение максимальной членораздельности в стихию умопостигаемого и одновременно мнемотехнический прием, который невозможно подменить содержательным описанием. Еще раз всмотримся в эти два момента.
4
Итак, бросание якоря как тематизация и пунктуация. Мышление, конечно, интенционально, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что предмет мысли – штука достаточно двусмысленная, предмет легко подменить его проекцией, как бы отбрасываемой тенью. Так грамматика и логика выступают инстанциями, стоящими на страже интенциональности мышления, но при этом данные сторожевые посты оказываются обходимыми и исторически уже обойденными. Существует, например, грамматически правильный бред, не говоря уже о «беспредметном разговоре», где каждое предложение членораздельно и тем не менее наличие предмета мысли оказывается под большим вопросом. Или так: промелькнувшая мысль продолжилась серией членораздельных высказываний, грамматически правильных и логически корректных, – однако предмет мысли при этом был утерян, и, следовательно, сама мысль как мысль не сохранилась. Это означает, что инстанция, отвечающая за интенциональность, не справилась со своей задачей, мысль, как говорят в таких случаях, ускользнула, а пустой транспорт благополучно проследовал дальше. Корабль проплыл мимо острова сокровищ, не сумев бросить якорь. Таким образом, брошенный якорь выполняет здесь роль высшей интенциональности: там, где не поможет ни грамматическая правильность, ни формальная логика, там нужно просто бросить якорь – и тогда цель останется на горизонте.
Таким образом, декартовское ego cogito как раз и есть прежде всего брошенный якорь: натяжение якорной цепи не дает слишком уж удалиться от намеченной цели, не дает потерять ее из виду. Допустим, мне нужно доказать, что я существую, или отвергнуть возможность такого доказательства. Это важно? Еще как, предмет мысли в высшей степени достойный. Но даже он не удерживается сам по себе, поток сознания то и дело норовит уйти в сторону и подхватить какой-нибудь другой предмет, как правило, первый попавшийся. Словом, корабль познания то и дело относит то туда то сюда, что и констатировал Декарт с некоторой грустью, но и с планом противодействия:
«Но я вижу, отчего это происходит. Моему уму нравится ошибаться. Он еще не имеет достаточно терпения, чтобы держаться в пределах истины. Что ж, пусть его! Мы отпустим ему поводья с тем, чтобы он тем легче дал править собой потом, когда мы в нужный момент снова накинем на него узду»[1].
Но еще лучше эта сумма действий описывается метафорой «бросить якорь». Одно из таких действий Декарт называет энумерацией: это необходимость время от времени возвращаться к началу, подсчитывая при этом «буйки»; нужно возвращаться, чтобы не потерять истину из виду. Так происходит исследование окрестностей того, что признано самым достоверным, в данном случае истины cogito ergo sum. И понятно, что подобные действия возможны, только если брошен якорь, сохраняющий избранную интенциональность, в противном случае мысль ускользнет, расплывется, ее размоет членораздельность более низкого уровня, та же грамматическая правильность и, конечно же, склонность разума к блужданиям, выстраивающая в противовес энумерации последовательность, устроенную как цепь Маркова, где связь нового очередного элемента с предыдущим может формироваться по совершенно иным основаниям, чем связь этого предыдущего со своим собственным предшественником. Заблокировать такую постоянную готовность к отрыву нельзя, даже находясь в режиме ego cogito, поскольку она встроена в тело мысли, – но можно бросить якорь, благодаря чему даже спонтанное трансцендирование не теряет из виду отмеченную точку или площадку.
Если уж якорь необходим для пристального рассмотрения такой вещи, как cogito ergo sum, то он тем более нужен для предметного исследования чего-нибудь попавшегося на пути или по пути. Иными словами, не бросив якорь, научной проблемы не решить. Остаются неясности насчет буквальности такой процедуры и деталей нашего метафорического якоря. Тут, наверное, все может быть по-разному, но в моем случае дело выглядит так. Столкнувшись с интересной проблемой, с перспективной мыслью, требующей продумывания, и понимая, что вопрос не решить с наскока, я мысленно выхожу на палубу корабля – совсем легкого кораблика, качающегося на волнах, еще раз актуализую мысль, к которой хотел бы вернуться, затем беру якорь с серебристой цепью, лежащий на палубе, и бросаю его за борт. Якорь не тяжелый, но весомый, и он довольно медленно исчезает в морских глубинах, цепляясь, наконец, за дно. Или за что-то цепляясь. Теперь я знаю, что мысль никуда не денется, так происходит уже три десятилетия, с того самого момента, как я понял, что мыслить – значит бросать якорь, и этот единственный в моем арсенале мнемотехнический прием меня не подводит.
Брошенный якорь позволяет мысли оставаться на плаву – но этого мало. Если бы дело было только в мнемотехническом приеме, сгодилась бы первая попавшаяся ассоциация (правда, и ее пришлось бы вспоминать). В юности я придерживался правила: если ты забыл какую-то мысль и не можешь ее вспомнить, не расстраивайся – значит, она того стоила. Действительно важная для тебя мысль никуда не денется.
Но с забрасыванием якоря ситуация меняется: опираясь на собственный опыт, я бы обрисовал ее так. Представьте, что в вашем распоряжении не один-единственный кораблик, а небольшая флотилия, что, в принципе, соответствует разветвленному аналитическому круговороту, в котором совсем не обязательно авторизовать каждую линию. Есть корабль-флагман, центр ego cogito, но иногда флотилия обходится без него. Она бороздит моря-океаны мыслимого, того, что помыслится. И вот какой-нибудь кораблик вдруг оказывается в любопытном, притягательном месте: туда и перемещается фокус внимания. Предположим, первый исследовательский порыв оказался безрезультатным или сомнительным: тогда на корабле бросают якорь – так, как это описывалось ранее. Затем кораблик временно теряется из виду, но потом, вскоре или когда-нибудь, вы вдруг чувствуете натяжение якорной цепи – значит, самое время возвращаться к мысли, оставленной в автономном плавании.
Так вот, мысль при этом не только не теряется, но и как бы прирастает, якорь одновременно оказывается исследовательским зондом. В результате происходит обогащение предметного содержания и появляется перспектива дальнейших ходов. Множество вещей я понял для себя именно таким образом – возвращаясь за брошенным якорем. Главное, бросая якорь, ясно представить себе, на чем ты остановился, после чего еще раз окинуть окрестности – и бросать.
5
Многие годы я продолжаю забрасывать якорь и даже осмеливаюсь рекомендовать эту процедуру как дидактический ход. И все же как в онтологическом, так и в гносеологическом аспекте эта процедура нуждается в более подробном разъяснении.
Смысл якоря, конечно, состоит в замедлении и в паузе, что входит в противоречие со всеми эпитетами мысли и ума. Быстрый ум, все улавливающий на лету, все схватывающий – не нужно дважды повторять, – и где же тут якорь? Его присутствие как будто просматривается лишь в таких характеристиках, как «тугодум» и «тормоз». Что ж, мышление и вправду аутентично соединяется со скоростью и проницательностью, и существует множество вещей, которые можно либо понять быстро, ухватив на лету, либо вообще не понять. Человеческое мышление и восприятие состоят из скоростных режимов временения, параметр скорости в значительной мере определяет саму онтологию мышления: об этом свидетельствует, например, скоростной знаковый транспорт. Ведь сама суть сигнификации (означивания) состоит в избавлении от тяжелой материальности, в мгновенной изымаемости из контекста: идеальными знаками могут быть лишь такие, чье материальное представительство ничтожно и к тому же легко обменивается на какое-нибудь другое, не закрепленное раз и навсегда за определенным материальным носителем.
И все же тезис «Мыслить – это значит бросать якорь» остается в силе. Ведь якорь – это ритмический рисунок, ловушка рефлексии – и как же без этого обрести предметность, содержательность, собственно интенциональность? Обратимся к оптикоцентрической метафоре и представим себе чистое созерцание как усмотрение, выходящее за пределы схемы S – R («стимул – реакция») и далее распространяющееся как луч. В идеале луч пронизывает все преграды, проницает сущее, не сдвигая его с места и даже не отклоняясь при этом от курса. Можно ли сказать, что это идеал чистого созерцания? Скорее, это его идеальное условие. Но созерцание интенционально и должно что-то созерцать, а значит, луч должен где-то отразиться от преграды. Полный идеал чистого созерцания состоит в том, чтобы неодолимая преграда оказалась как можно дальше, где-то там, где и нечто, и туманна даль, и мистическая метафизика. Реальность созерцания, однако, устроена иначе. Луч рефлексии отклоняется мощными гравитациями Weltlauf, о которых уже шла речь, либо, уже обессиленный, достигает размытых горизонтов метафизики, в которых уже ничего толком не усмотреть, принося в качестве добычи лишь абстрактное удивление и почтение к расплывчатым пятнам. Здесь-то и выявляется неоценимая роль якоря: бросить якорь – это и значит усмотреть себе предмет в беспредметном созерцании, усмотреть на манер того, как Бог усмотрел себе агнца для всесожжения. Для интересов и экзистенциальных настроек якорь, в сущности, не нужен, ибо они отклоняют рефлексию по определению, привлекая к тому же все хитрости и предусмотрительность, которые могут пригодиться. Обычно мысль и не отклоняется далеко от этих пунктов ее приписки, если не приложить специальных усилий. Но если удалось вырваться на волю волн, положившись на равнодействующую всех больших гравитаций, что вполне позволяет сделать чистая любовь к пониманию, то тогда без бросания якоря любовь останется абсолютно неразделенной. Тем самым выбирается и фиксируется свободная интенциональность мысли: тщательное, вдумчивое и при этом отложенное рассмотрение того, что по какой-то причине тебя заинтересовало. Это «что-то» может встретиться в любой точке проникающей рефлексии: оно может касаться идентификации материального предмета, например горной породы, может относиться к какому-нибудь нюансу психологической реакции, к отдаленному историческому событию, к устройству машины языка или машины желания, ко всякому «Как это?» и «Почему это?» и вообще к любой конфигурации удивления, не имеющей априорной предметной формы. Эта самая форма (чистая интенциональность) как раз и появляется вместе с бросанием якоря и в результате такого бросания. Это могло быть всего лишь обнаруженное странное место, как в «Алисе» Кэрролла, но брошенный якорь позволит тебе сюда вернуться, задать правильный вопрос и получить ответ на вопрос «Что?». Не факт, что ответ окажется верным, но ты обретешь предмет, который ищет любовь к пониманию; если же отключить эту опцию (бросание якоря или его аналог), мышление потеряет свой суверенитет и значительную часть измерений. Такая, например, вещь, как интеллектуальное хобби, всецело определяется усмотрением предмета на ровном месте, однако и проблемное поле науки намывается вокруг первого удачно брошенного якоря.
Мы уже видели, что существуют большие гравитации, к которым относится и метафизика после того, как она конституирована и признана, а также и инстанции формального принуждения к предметности, прежде всего сам грамматический строй языка. Простенький пример такой инстанции – подсказка вариантов при составлении СМС-сообщения. Например, ты напишешь «же…», имея в виду «жеребячий восторг», а тебе тут же предложат вариант «желаю здоровья и счастья»… И прощай жеребячий восторг! Так, в сущности, работают все институты формального принуждения к интенциональности.
Иное дело заброска якоря, она не формализуема в связи с незаданностью параметров «что», «где», «когда» и «зачем». Якорь бросается посреди моря-океана мысли по причине интереса к близлежащим берегам, подводным течениям, глубоководным обитателям моря-океана. Или даже к следам, которые оставил на море прошедший корабль. Иными словами, не существует готового ассортимента, из которого мысль должна выбрать свое что – напротив, там, где якорь будет брошен по любой из возможных причин, там и возникнет интенциональность мыслимого, пусть даже все прежде проходившие здесь корабли и не заметили никакого что. Но тем не менее якорь брошен, и воистину в этот момент мышление усматривает себе предмет, как Бог агнца или как парящий орел свою добычу. Бытие в ассортименте есть человеческий удел, но мышление «в ассортименте» – просто пустое имя.
Изучение практики применения интеллектуального якоря позволяет пройти между Сциллой слишком человеческого и Харибдой рассеянных блужданий, где лишь «нечто и туманна даль». Кораблик, располагающий якорем, есть суверен собственного трансстихийного плавания. И вновь отметим: одинокого кораблика недостаточно в качестве работающей модели суверенности мышления – все же должна быть именно флотилия, рассредоточенная по всей стихии умопостигаемого. И корабль-флагман, быть может, даже не нуждающийся в собственном якоре, нуждается тем не менее в прожекторе, мощный свет которого достает до любого кораблика, стоит ли он на якоре у неведомого берега или в открытом море. И в тот момент, когда контакт установлен, луч прожектора оказывается продолжением якорной цепи, а добытая, опознанная интенциональность вставляется в обойму. Так суверенный мыслитель мыслит всеми корабликами и якорями своей флотилии – и никакого тростника.
Пока ты, что называется, не собрался с мыслями, можешь напевать «Мои мысли – мои скакуны», они и вправду готовы скакать во всех направлениях, но, когда в мыслях присутствует собранность и они собираются в мышление, о них совсем другая песенка, что-то вроде следующего:
Мои мысли – мои корабли.
Мои мысли – мои якоря.
Когда мыслю за краем земли —
Океаны мои и моря.
Очень может быть, что и режим быстрого схватывания отнюдь не обходится без якоря, точнее, без якорей флотилии: в нужное время луч прожектора выхватывает нужную точку из темного моря-океана – и высвечивается уникальный рельеф помысленного. За этим актом или этой акцией может последовать воплощение, произведение, например текст. Текст воспроизводит внешний формат интенционального, с небольшими возможными искажениями грамматическую структуру и базисный словарь, схемы силлогистики и другие схематизмы трансцендентального субъекта, но навигация флотилии и сокровенная топология якорей обычно остается за скобками, хотя именно она, конечно, является черновиком открытия и кухней большой мысли. Но ведь сказал же Набоков, что следует безжалостно уничтожать черновики и сохранять лишь законченный шедевр, а Ханна Арендт лаконично резюмировала свой творческий опыт: чтобы написать книгу нужно прекратить мыслить и начать вспоминать то, что ты мыслил. Отталкиваясь от нашей метафоры, можно сказать и так: есть время бросать якоря, а есть время поднимать их.
6
Конечно, все это нужно как-то проиллюстрировать, каким-нибудь примером. У меня их множество, но раскрытие творческой кухни на этом уровне имеет, как правило, не слишком благообразный вид. Скрывать свои якоря – это и в самом деле некое внутреннее требование целомудрия, и, напротив, демонстрировать их публично – свидетельство кокетства и самовлюбленности, свойственных некоторым мыслителям в не меньшей степени, чем ветреным красавицам. Иллюзион мысли должен зачаровывать как всякий иллюзион, и даже больше – и заготовку показывать необязательно. Продумать – это одно, а написать, например, статью – совсем другое, значительная часть этого написания состоит как раз в том, чтобы демонтировать «строительные леса мысли».
Однако если именно якорь и процесс его бросания являются темой статьи, привести пример насчет того, как это работает, необходимо.
Итак, я читаю о греческом театре и узнаю, что первоначально актеры были в масках – то же самое относится и к древнейшему японскому театру, а наведя справки, я обнаруживаю, что любой древнейший театр, или, если угодно, прототеатр, начинается с маски. Сразу возникает недоумение: а как же притворство, подражание, мимика, вхождение в образ, важнейшие элементы театрализации, которые маска пресекает или ограничивает? Что-то здесь не так, и я бросаю якорь.
Однако и современный театр заключен в сценическое пространство, в рамку. Какова роль этой рамки? Почему феномен, выходя за рамку, получает иное имя? Погружение в образ и восхождение к психологической правде за пределами сцены утрачивает статус искусства, становясь просто притворством, «паясничаньем». Якорь.
Сказки про животных предшествуют сказкам про людей. Почему лисичка-сестричка должна быть достовернее и понятнее, чем сестра Маша? А зайчишка-трусишка и зайчишка-хвастунишка оказываются более аутентичными и понятными носителями соответствующих качеств, чем взрослые и вообще человекообразные хвастуны и трусы? Эмоциональная азбука состоит из зверушек почти в том же смысле, в каком обычная азбука состоит из букв. Якорь.
Самая глубокая и продуманная концепция антропогенеза Бориса Поршнева говорит о беспрецедентном уровне имитативности палеоантропов и неоантропов. Волны неконтролируемого подражания прокатывались через сообщества и популяции гоминид, и такова была плата за способность гоминид имитировать внутривидовые сигналы соседних видов, включая сигнал «я свой», что позволило палеоантропам обрести уникальную экологическую (и этологическую) нишу. Но издержки, связанные как раз с повальной имитативностью, оказались слишком велики. И здесь был брошен якорь.
Все якоря в свое время понадобились, были высвечены лучом прожектора и сложились в зигзагообразную линию понимания. Произошло это во время размышлений о сущности тотемизма. Что все же означает принадлежность к тотему Тигра, Койота, Какаду или Ворона? Откуда этот сквозной, всеобщий характер тотемизма как ранней антропологической константы? Свой выстраданный труд по антропологии Фрейд назвал «Тотем и табу». Его содержание оставляет немало вопросов, но само название очень показательно, поскольку тематизирует две действительно главные для исследуемого мира вещи. Так, сводный труд по физике мог бы называться «Поля и частицы», по биологии – «Приспособление и самотождественность (индивидуальность)», но если говорить о происхождении сознания, то это, конечно, «Тотем и табу». Ну, может быть, в обратном порядке: «Табу и тотем». Ситуация при этом такова, что смысл табу для меня понятен – речь идет о том, чтобы обеспечить автономность munda humana, выйти из-под юрисдикции природы, учредив диктатуру символического. Табуирование есть основной контрестественный жест, и совокупность таких жестов очерчивает своды нового мира, такого, куда не пробиваются законы естественного отбора и который, следовательно, недоступен никаким существам, кроме людей. Различия табу по степени их приоритетности, в общем-то, вторичны; важно, чтобы была сформирована критическая масса табу, что позволяет набрать соответствующий объем присутствия, суверенного по отношению ко всем приспособительным, адаптивным стратегиям. Однако универсальное присутствие тотема в качестве равномощной антропогенной константы оставалось для меня загадочным. Но в один прекрасный момент якоря совпали, вернее, образовали любопытный узор: за такими узорами и гоняются мореплаватели мысли. Маска, сцена, отождествление соплеменников с тотемным животным как способ обретения солидарного автономного мира, а также простейшая азбука эмоций (обучение азам человеческого по зверушкам) – все эти явления, за каждое из которых зацепился свой якорь, оказались соединенными друг с другом.