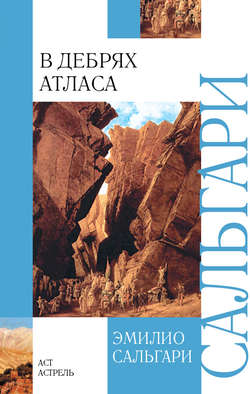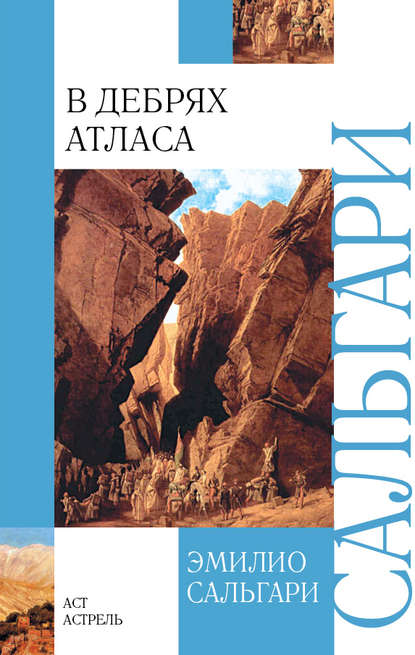I. Ад бледа
– Вперед, клянусь смертью Магомета и всех его гурий!
– Нет больше сил, сержант!
– Что, негодяи? Еще отвечать осмеливаетесь!
– Вы хотите всех нас уложить на месте…
– И сдохнете, канальи! Вы что же, думали, что вас в Алжире ждут веера, мороженое, сигары да пальмы, чтоб валяться в их тени! Вперед! А не то, клянусь смертью Магомета, всех вас под военный трибунал в Алжире!
– Мы выбились из сил, сержант, – ответило несколько хриплых голосов, в которых, казалось, не оставалось ничего человеческого.
– Вахмистр смотрит, и я вовсе не желаю из-за вас сидеть в тюрьме. Марш! Еще слово, и прикажу Штейнеру намять вам кости. Небось, знакомы с кулаками мадьяра! Ну, вперед. Бегом!
Возвысился один голос, сухой, как выстрел из карабина:
– Я его прикончу, этого негодяя! Я клятву дал, сержант.
– Кто это сказал?
Никто не отвечал.
– Вперед! Говорю, бегом. Вахмистр смотрит. Вперед!
Двадцать человек, одетых в белое парусиновое платье, без башмаков и оружия, но нагруженные огромными ранцами, какие обыкновенно носят солдаты Иностранного легиона, отправляемого Францией в ее африканские и азиатские колонии, отчаянно бросились вперед, пыхтя, все покрытые пылью, в то время как сержант-инструктор продолжал отчаянно ругаться. Сержант-инструктор! Какая насмешка! Мучители, палачи – все что угодно, только не инструкторы. Многие из них знают только одно – мучить, насколько возможно, тех несчастных, которых военный трибунал Алжира или Константины отправил в дисциплинарные роты в жгучем Алжире, в так называемом аду бледа.
Блед — это лагерь, предназначенный для поселения несчастных, которые завербовались в Иностранный легион и в минуту возмущения, вызванного палочной дисциплиной, дурным обращением или губительным климатом, проявили непослушание начальству.
Блед всегда помещается вдали от Средиземного моря и даже от города, можно сказать – среди пустыни.
Это огромный плац, окруженный бараками и палатками с одним зданием, совершенно белым, для капитана – начальника роты, его офицеров и субалтерн-офицеров[1]. Есть также маленький лазарет.
На этом плацу, пыльном, залитом жгучим солнцем, без капли тени, дисциплинарными ротами проводится учение, состоящее только в быстром беге с ранцами за спиной и быстро сводящее в могилу несчастных осужденных.
Однако бывают некоторые отступления: иногда заставляют возить тачки. Тогда солдат бежит, толкая перед собой тачку, наполненную песком. Он должен нагружать и разгружать ее по команде; и это продолжается до тех пор, пока он не упадет в полном изнеможении или пораженный солнечным ударом!
Двадцать человек, погоняемые ругательствами сержанта и охраняемые сильным конвоем конных спаги[2], державшихся, однако, в тени белой казармы, продолжали свой бег. Глаза у них выкатывались на лоб, лица побагровели, грудь прерывисто вздымалась, рубашки взмокли от пота.
Впереди бежал легионер-красавец лет тридцати, смуглый, с черными глазами, сверкавшими как угли, с большим лбом, изборожденным преждевременными морщинами. В его могучих мускулах должна была скрываться более чем необыкновенная сила.
Несчастные три или четыре раза обежали плац под неумолимым потоком солнечных лучей, поднимая удушливую пыль, когда сержант, смотревший насмешливым взглядом на передового легионера, закричал:
– Номер первый, в галоп!
По этому приказу передовой должен был ринуться во всю мочь, как лошадь, пущенная в карьер, и бежать в хвост колонны.
Но вместо того чтобы повиноваться, он вдруг остановился, отступая немного в сторону, чтоб его не толкнули товарищи, двигавшиеся, опустив головы и качаясь под огненным потоком лучей, лившихся с неба.
– Ты что это делаешь, венгерская собака? – закричал сержант, наступая на него со сжатыми кулаками.
Легионер взглянул на него холодно и ответил хриплым голосом, выдававшим ярость, сдерживаемую неимоверным усилием:
– Из сил выбился. И не будь вы Рибо, кто знает, что бы случилось сейчас.
– Как, ты выбился из сил? Ты, силач, которого боится сам Штейнер, твой соотечественник?
– Сил больше нет, – повторил венгр.
– И ты полагаешь, этого достаточно, чтобы перестать плясать? Нет, любезнейший, побегай-ка еще…
Легионер сделал энергичный жест протеста.
– Довольно, – произнес он. – Это жестоко с вашей стороны.
– Я повинуюсь регламенту, мой милый.
– Надрывая у людей грудь и ломая ноги?
– Попробуй поговорить с начальством, – ответил сержант несколько смягченным голосом, пожимая плечами. – Ну, ступай на свое место, Михай Чернаце, и старайся повиноваться. Я на тебя не сержусь, потому что слышал от Штейнера, что еще до поступления в легион ты был знатным господином и дрался в Мексике как лев. Ты один из четырех, пробившихся через целую армию.
– Тем больше причин не убивать меня так, без толку, – ответил венгр, и его черные глаза будто подернулись влагой.
– Того требует регламент. Ну, ступай назад. Твое место займет другой.
– Нет, не дам товарищу мучиться за себя; как-нибудь сам. А все же лучше бы, сержант, если бы нас посылали умирать от пуль кабилов или туарегов[3] в пустыне, чем так варварски мучить. Ведь все же, в конце концов, мы проливали свою кровь за Францию, а она не наша родина!
Сказав это, он пригнул голову к шее, как бык, прижал руки к груди и пустился отчаянно вперед, вокруг большой площади бледа.
– Бедный граф, – проговорил сержант участливо, следя за легионером, бежавшим, как преследуемая газель. – Выносливы эти мадьяры.
Венгр окончил круг и остановился в хвосте взвода. Сержант приказал бежать номеру второму, бледному молодому человеку, худому, как индийский факир, по-видимому, горевшему в лихорадке – болезни, частой в этой местности.
Мучительный бег продолжался, между тем как жар усиливался, а сержант время от времени, внося разнообразие в это дисциплинарное учение, приказывал преклонить колено и целиться, хотя оружия не было ни у одного. Наконец он скомандовал: «Смирно»!
Все двадцать человек замерли на месте, в то время как сержант окидывал глазами и поправлял каждого. Учение еще не кончилось: оно должно было продолжаться, пока несчастные уже окончательно будут не в состоянии держаться на дрожащих ногах.
Сержант едва окончил осмотр, как от белой казармы послышался повелительный голос:
– Что вы делаете, негодяи?!
И в следующую минуту из главного входа вышел, направляясь к взводу, маленький коренастый человек весь в белом, с соломенным шлемом на голове, с огромными усами и длинной эспаньолкой.
– Вахмистр! – проговорил сержант. – Какой дьявол принес его сюда. И злющий он сегодня! Все из-за этой Афзы…
Вахмистр, временно замещавший начальника бледа, остановился в пяти шагах от сержанта и, окинув взглядом дисциплинарных, а внимательнее всего – венгра, сказал:
– Разве так заставляют бегать, Рибо?
– Я только сию минуту приказал остановиться, вахмистр, – ответил сержант, отдавая честь.
– Зачем? Нет никакой необходимости! – кричал вахмистр, помахивая тростью. – Видно, придется мне показать вам, как надо учить этот сброд со всех концов Европы! Они думали, что станут есть французский хлеб даром, да еще командовать! Как же!
– Это оскорбление! – послышался голос.
Начальник поднял усы рукой и, смотря на взвод, стоявший неподвижно, хотя каждый человек в нем дрожал от бессильной злобы, крикнул:
– Кто смел заговорить без приказа?
Венгр вышел из ряда.
– Я, господин вахмистр.
– А! Михай Чернаце из рода графов Савских? – сказал начальник насмешливо. – Твое дворянство осталось на дне Дуная.
– В легионе, куда я завербовался, я только Михай Чернаце. Мое дворянство осталось в Венгрии, и нечего его поминать здесь, в песках проклятой Африки.
– Ну, пусть его покоится себе в дебрях Карпат или дунайской тине, – продолжал, сохраняя иронию, вахмистр. – Что же ты имел желание сказать мне, когда я хотел заставить вас бегать по-настоящему?
– Что мы не сброд, как вы выражаетесь Мы всегда готовы сражаться и умереть за Францию, под чьим знаменем стоим.
– Что же ты сделал особенного для той Франции, которая лишила тебя чести?
– Что сделал? – в ярости заревел венгр, сжимая кулаки. – Я один из тех шестидесяти двух легионеров, которые в июле 1862 года, три года тому назад, бились десять часов с двумя тысячами мексиканцев, несмотря на голод и жажду, доходившие до того, что мы пили кровь раненых. Я из тех четверых, которые пробились через ряды двухтысячного неприятеля.[4]
– И они не убили тебя! Чтоб черт побрал этих мексиканцев!
– Не убили, потому что командир их, удивленный нашей смелостью, приказал своим солдатам: «Не трогайте этих храбрецов; это не люди, а демоны!», и мы прошли через ряды неприятеля. Вы знаете, что в вашей стране говорят: «Когда солдат-француз идет в госпиталь, значит, хочет вернуться домой; когда идет стрелок – отправляется, чтобы вылечиться, а легионер – чтоб умереть». Вы это знаете, – дрожащим голосом закончил мадьяр, между тем как другие одобрительно качали головой.
– Ну, разболтался, как американский попугай, а другие отдыхают… Молчи! Или хочешь, чтобы я отправил тебя в Алжир? Там трибунал не шутит с дисциплинарными, особенно с легионерами, Будда тебя побери!
Мадьяр сдержался с невероятным усилием, так что все его тело вздрогнуло, как будто потрясенное электрическим током.
– Ради Афзы! – проговорил он, подавив рыдание.
Команда вахмистра резала воздух, как хлыстом:
– Смирно! Шагом! Грудь вперед! Живо, кит вас подери! – Дисциплинарные снова пустились бежать вокруг бледа, по жаре, как в раскаленной печи.
Был почти полдень, и солнце посылало огненный луч за лучом. Над лагерем стояла полная тишина. Несколько финиковых пальм, прозябавших в песках, вытягивали свои совершенно неподвижные перистые листья, не давая нисколько тени.
С отдаленных Атласских гор, обрисовавшихся на далеком раскаленном горизонте, не доносилось ни одного дуновения ветерка.
Это было раскаленное затишье пустыни, вечно царившее в бледе. Это был ад, как справедливо говорили несчастные, осужденные искупать свою вину в глубине Нижнего Алжира.
Двадцать легионеров снова начали свой отчаянный бег, не осмеливаясь протестовать. Все слишком боялись военного трибунала и ужасных наказаний адского бледа…
А вахмистр, под защитой своего большого шлема, все продолжал кричать: «Прибавляй шагу!.. Нагнись!.. Встань!.. Стой!.. Вперед, номер первый!.. Вперед, номер второй!.. Я вас научу слушаться, клянусь брюхом тухлого кита!»
Несчастные легионеры, бледные как мертвецы, с пеной у рта, с блуждающими глазами, дышали с хриплым свистом.
– Видите, мосье Рибо, как эти канальи работают при мне? Вот как надо командовать, – говорил вахмистр, торжествуя. – Ну, вперед, чертовы дети! Скорей! Что, граф Сава, трудненько представить себя теперь в каком-нибудь будапештском кафе, с сигарой во рту? Мы в Африке, мой милый, и с каторжниками! Вытяни ногу!
– Вахмистр, вы хотите убить его? – робко заметил сержант.
– Дурак! С удовольствием отделался бы от семерых или восьмерых из этого взвода, – ответил вахмистр и прибавил, понизив голос: – А от этого мадьяра в особенности!.. О! Учение еще не кончено. Сержант Рибо, прикажите привезти тачку. Хочу посмотреть, как эти легионеры строили в Мексике траншеи…
Услыхав это приказание, мадьяр вздрогнул. Он понял, что начальник имел в виду именно его и хотел довести его до какого-нибудь нарушения дисциплины, которое подвело бы его прямо под военный трибунал и расстрел.
– Ради Афзы, – проговорил он вторично с новым усилием воли. Бледный легионер смотрел на мадьяра со страданием и незаметно за спинами товарищей пробрался к нему.
– Михай, – шепнул он ему, – не попадись в сети, которые ставят тебе. – Вспомни об арабской девушке и обещании ее отца… А в случае нужды рассчитывай на меня… Тосканцы ничего не боятся.
– Спасибо, Энрике. Но что бы ни случилось, не вмешивайся: довольно и одной жертвы…
Вахмистр был в это время занят скручиванием сигаретки. Затянувшись раза два, он спросил:
– Кто номер первый?
– Михай Чернаце.
– Ну-ка посмотрим, как венгерские магнаты[5] умеют обрабатывать свою землю и строить траншеи. Они, говорят, молодцы…
По взводу пронесся ропот. Услыхав его, свирепый вахмистр разразился грубой бранью и приказал номеру первому выйти вперед. Мадьяр вышел спокойным, ровным шагом. Все глаза с тревогой устремились на него.
– Что прикажете? – спросил он с новым усилием, подавив страшную ярость, бушевавшую у него в груди.
– Возьми тачку и бегом вокруг бледа! Довольно отдохнул, – приказал вахмистр.
Мадьяр схватил тачку и побежал кругом плаца.
Тут на него посыпался град противоречивых приказаний:
– Бери заступ!.. Стой!.. Вези тачку! Копай землю! Стой!.. На колени!.. Ну, беги, как бежал мимо двух тысяч мексиканцев. Бери опять тачку…
Мадьяр крепился. Казалось, он дал себе слово не попасть в сети, расставленные ему неслыханной грубостью. С сердцем, разрывавшимся от ярости, он выказывал сосредоточенное повиновение, и каждый раз, как вахмистр бросал ему новое приказание, отвечал с натянутой улыбкой:
– Готово!.. Если желаете, покажу, как строить траншеи и в Венгрии и в Мексике…
Но бывали мгновения, когда в этом голосе как бы слышался далекий рык льва.
Наконец вахмистр объявил:
– Стой!.. Пока отдыхаешь, можешь мне скрутить папиросу.
– А! Так еще не кончено? – спросил магнат, и лицо его исказилось страшным гневом.
– Нет, любезнейший граф, сегодня день рабочий. Капитан, уезжая, приказал не давать лентяйничать, а я не такой человек, чтоб ослушаться приказания начальства.
– Он тебе приказал уморить нас? – грозно спросил мадьяр.
– Молчи! Хоть ты и венгерский магнат, но не имеешь права повышать голос на меня. Мы здесь не в Карпатах, не в Будапеште…
Из груди мадьяра вырвалось рычание загнанного зверя.
– Это слишком! Как ты смеешь оскорблять магната! Вот тебе… Он схватил тяжелый ранец и изо всей силы швырнул его в вахмистра.
Удар пришелся в грудь. Вахмистр зашатался, но не успел еще упасть, как второй ранец полетел ему в лицо и буквально размозжил нос. Ранец бросил Энрике, тосканец.
В то время как вахмистр упал, обливаясь кровью, спаги, стоявшие в тени, бросились с заряженными пистолетами и обнаженными саблями к легионерам.
Граф Сава стоял, скрестив руки, и смотрел на них презрительным, гордым взглядом, будто говоря: «Я виновен, арестуйте меня, я не стану сопротивляться».
Несколько оправившийся вахмистр яростно кричал сквозь окровавленный платок:
– Арестовать обоих негодяев! В кандалы! В карцер до возвращения капитана!
Спаги бросились на мадьяра и тосканца и надели на них ручные и ножные кандалы. Вахмистр продолжал кричать как бешеный:
– Заковать по рукам и ногам! В карцер на хлеб и воду! Разбойники! Негодяи! Расстрелять всех!
– А ты все-таки навсегда останешься без носа! – крикнул ему тосканец.
Спаги окружили двух арестованных и повели к белой казарме, между тем как остальные дисциплинарные должны были продолжать учение.
II. Иностранный легион
Со времен Карла VII до Наполеона I у Франции всегда были на службе иностранные войска, но Иностранный легион, вполне обоснованно прозванный «милицией отчаянных», получил свое начало только в 1831 году, при Луи Филиппе, направившем его для окончательного покорения Алжира. В то время существовали только батальоны, состоявшие главным образом из испанцев, поляков, немцев, итальянцев и бельгийцев, большая часть которых была дезертирами.
Этот «Легион отчаянных» насчитывает в своей истории много славных страниц и до сих пор приводится как пример дисциплины и храбрости.
Получив военное крещение под Сарагосой и Барбастро[6], он вскоре после того был отправлен в Алжир, где шаг за шагом, преодолев неимоверные трудности и после продолжительных стычек, победил неутомимого и стойкого Абд аль-Кадира[7]; затем, отправленный на Восток, он принимал участие в многочисленных сражениях, возбуждающих в душе каждого солдата живейшее восхищение.
В Иностранном легионе искали убежища люди различных классов и профессий, и все они, образованные и неученые, бедняки и бывшие богачи, некогда блиставшие в европейских столицах, – все попадали в одинаковые условия.
Многие поступали в легион, ища забвения или смерти в песках Сахары или болотах Тонкина[8]; многие – чтобы скрыться и порвать со всем, потому что, завербовавшись, человек обрывал последнюю связь с жизнью и писал «конец» всякому горю или ужасной драме.
В 1885 году Иностранный легион, состоявший из пятнадцати тысяч человек, почти постоянно находился в Алжире; он разделялся на два полка: первый стоял в Сиди-Бель-Аббесе, а второй – в Сайде.
Вербовались в легионеры обычно от восемнадцати до сорока лет, но попадались и шестнадцати… и шестидесятилетние.
Франция не отказывалась от помощи иностранца, кто бы он ни был, лишь бы служил ей против туарегов великой пустыни и беспокойных негров Сенегала и Нигера или «Черных знамен» Аннама и пиратов Красной реки.
Многие немецкие юноши, еще не знающие жизни, гонимые нищетой, шли во Францию только потому, что слышали о ее богатстве и что там хлеба и работы найдется на всех.
И вот, едва переступив границу, эти несчастные встречались лицом к лицу с ужасной задачей: или возвращаться домой, или становиться бродягами. И у всех у них оставалась одна надежда – Иностранный легион. Как утопающий хватается за соломинку, так и они искали в нем спасения и поступали в легионеры. И в один прекрасный день все эти несчастные, потерпевшие крушение в жизни, оказывались в Марселе и отправлялись в Алжир, а оттуда в Сиди-Бель-Аббес.
Тут были люди веселые и печальные, были франты, еще носившие свои цилиндры и перчатки, и были оборванцы, все достояние которых состояло из рваной рубашки и измятой шляпы.
Конечно, не все легионеры были образцовыми людьми. Это могут засвидетельствовать арабы Сиди-Бель-Аббеса, боявшиеся их как чумы.
Железная дисциплина не всегда могла обуздать эти разнородные элементы, в груди которых рядом с добрыми зачатками находились и дурные.
Часто на тесных улицах арабских городов встречались десятки легионеров, бродивших средь белого дня, покачиваясь, или стоявших, прислонясь к стене, а не то просто спавших в канаве после неумеренного потребления вина. А чтобы напиться, не останавливались ни перед чем, даже перед кражей, обкрадывая друг друга, если не могли обкрадывать начальство.
Но между этими несчастными, искавшими смерти, были и хорошие люди.
Как-то во время смотра молодых солдат полковник, пораженный интеллигентным лицом одного из них, спросил у него:
– Какой вы профессии?
– Я был учителем французского и немецкого в Праге.
– Как вы попали сюда?
– Я люблю войну и предпочел ружье ученикам.
В этом «Легионе отчаянных» попадались даже князья. Один итальянец, князь Русколи, поступил в легионеры и затем исчез неизвестно где и как.
И сколько геройских поступков совершили эти отчаянные! Мы уже видели образец этого в мексиканском эпизоде.
Или вот еще пример.
Однажды два батальона Иностранного легиона, посланные в Тонкин, заняли позицию, называемую «семь пагод», считавшуюся очень трудной для защиты. Губернатор Хаи-Джунга, озабоченный опасным положением солдат, предложил послать за подкреплением, но генерал Негрие сказал, улыбаясь:
– Предоставьте это дело легиону… Вы его не знаете…
И ни один отряд «Черных знамен» не прорвался через линию легионеров…
В Дагомее[9] легион совершил настоящие чудеса, и во Франции еще помнят телеграмму, отправленную генералом Додсом после осады Абомея, священного города: «Никогда я не имел чести командовать такими великолепными солдатами».
Но с некоторого времени и легионеры изменились, как будто выродились. Хотя надо сказать в их защиту, что они поступали в легион, чтобы идти на войну; гарнизонная же жизнь делала их нервными, больными, раздражительными, а казарменная дисциплина была для них убийственна.
Для легионера не существует страха ни перед жестокостью, с которой иногда к нему относятся офицеры, ни перед военным трибуналом. Бунты – явление не редкое. Точно так же, как дезертирство. Когда легионеры не в состоянии больше переносить жестокости и унижения, они бегут за марокканскую границу, где падают под выстрелами длинных ружей ужасных горцев-рифов.[10]
Михаю Чернаце, графу Сава, пришлось испытать много превратностей в жизни.
Оставшись двадцати лет сиротой, обладателем роскошного замка в Карпатских горах и несметных табунов лошадей, пасшихся в пуште, он бросился в свет, исполненный жажды удовольствий и впечатлений. В Монако его постигла судьба сотен тысяч людей, оставляющих на зеленом сукне все свое состояние.
Туда пошли великолепные табуны; за ними замок и леса – главное богатство графов Сава – и в один прекрасный день молодой магнат оказался без гроша в кармане.
Что было делать? Михай слышал об Иностранном легионе, где столько несчастных искали прибежища в надежде найти геройскую смерть на поле чести, а не в кустах Ментоны или Бордигеры.
Он слышал, что люди, некогда блиставшие в европейских столицах, искали забвения среди этих солдат, составлявших гордость Франции и, не будучи французами, геройски умиравших за Францию… И он завербовался, надеясь найти смерть в Мексике или в Алжире, где в то время разгоралась война.
Но смерть, которой он так жаждал, не хотела брать его, и он вернулся из Мексики украшенным медалью «За храбрость».
По окончании кампании мадьяра отправили обратно в Алжир, в Бель-Аббес, но его горячий темперамент не вынес гарнизонной жизни и железной дисциплины: подобно многим легионерам он стал непокорным и раздражительным…
Однообразная, монотонная гарнизонная жизнь изо дня в день подорвала его здоровье.
Его преследовала тоска по родине. Посетить зеленеющую пушту, родной Дунай, Будапешт, цепь Карпат, Париж, Монако – одним словом, еще раз увидеть весь свет стало мечтой, смущавшей его даже во сне.
У него остались богатые родные в Венгрии, он мог рассчитывать на кое-какое наследство. И в один прекрасный день граф дезертировал с твердым намерением пробраться в Тунис, а оттуда… в Фиуме.[11]
Но на этот раз удача изменила ему: через три дня его поймали спаги и вернули в полк.
Командир Иностранного легиона не шутил с дезертирами, и несчастный магнат, несмотря на свою медаль, был приговорен к трем годам дисциплинарных рот в бледе Айн-Таиба, где жизнь хуже ада. Как мы сказали, алжирские дисциплинарные роты – это ад, вселяющий ужас во всех, приговоренных к ним. Царящая там утонченная жестокость оставляет позади себя измышления любого инквизитора, хотя бы самого Торквемады.[12]
Тут пускаются в ход все пытки, как физические, так и нравственные; все подстраивается с самым утонченным коварством, чтобы погубить несчастных; применяется все, что могут придумать в своей праздности и скуке люди, для которых мучение других – наслаждение.
Выдержать жизнь в уединенном лагере, затерявшемся почти у подножия Атласа, засыпаемом песками Сахары, имея перед глазами пустынный пейзаж, с однообразием, лишь изредка нарушаемым несколькими чахлыми пальмами, жизнь без всякого другого общества, кроме таких же несчастных, осужденных на ежедневную пытку, – такую жизнь могут выдержать только истинно железные характеры. При всем сознании невозможности бежать – бегство может осуществиться только при помощи какого-нибудь араба, и дело это очень трудное – в дисциплинарных скоро зарождается потребность перемены места во что бы то ни стало и под каким бы то ни было предлогом, доходящая буквально до мании.
И настает такой момент, когда наиболее мужественные и выносливые пытаются каким-нибудь отчаянным поступком положить конец этой жизни, хотя бы под расстрелом…
Нередки случаи, что дисциплинарные калечат себя, чтобы только немного отдохнуть в госпитале бледа.
Жажда подышать иной атмосферой хоть несколько дней, пусть бы за это пришлось заплатить жизнью, побуждает к возмущению, следствием чего бывает отправка под военный трибунал.
В этом случае дисциплинарным помогают их надзиратели и в то же время мучители, которые тоже не прочь совершить путешествие на берега Средиземного моря и вырваться из ада, называемого бледом. И вот между обеими сторонами как бы заключается род молчаливого соглашения. Являются на сцену не слишком важные преступления, не влекущие за собой смертную казнь, мелкие проступки вроде порчи казенных вещей, ухода с караула, оскорбления сержанта в минуту возбуждения и тому подобное.
Во время путешествия в Алжир, где заседает военный трибунал, дисциплинарный, предоставивший надзирателю возможность совершить такую увеселительную поездку, пользуется многими удобствами – он может курить, может есть досыта за счет своего стража, не жалеющего денег, которые он скопил в бледе, где их не на что тратить.
Но при всем своем безвыходном положении и деморализации не все дисциплинарные идут на подобные уступки своим начальникам, платя за нежелание совершить в их обществе путешествие в Алжир несколькими годами одиночного заключения.
Горе же тем, кто отказывается! Надзиратели без всякого зазрения совести раздражают их и самым коварным, жестоким образом доводят до возмущения. Средств для этого всегда находится достаточно.
Например, при раздаче одеял и коек на ночь надзиратель, точащий зуб на какого-нибудь беднягу, с изумительной стойкостью выдерживающего все придирки, бросает ему рваное, изодранное, совершенно негодное к употреблению одеяло.
Дисциплинарный, естественно, протестует, чтобы не быть обвиненным на другой день в порче казенной вещи, что подвело бы его под военный трибунал. Надзиратель отвечает ему насмешками. Дисциплинарный выходит из себя и возражает в том же тоне.
Вот и оскорбление налицо! Обвиненный в оскорблении начальника отправляется в карцер, пока его не перешлют в Алжир. И надзиратель достиг своей цели, не скомпрометировав себя.
Другой способ вывести из себя дисциплинарного и таким образом довести его до путешествия в Алжир состоит в том, чтобы проткнуть дыру в боку жестяной чашки, в которой подается обед.
Дисциплинарный замечает, что чашка течет, и следовательно, весь его обед вытечет прежде, чем он донесет его до своей казармы.
Его протесты, конечно, разбиваются о невозмутимое равнодушие кашевара и надзирателя, так что, потеряв наконец терпение, несчастный бросает чашку кому-нибудь из своих мучителей в физиономию.
Мотив великолепный, цель достигнута. Факт налицо – и такой, что может подвести прямо под расстрел!
Очевидно, что первыми мучителями дисциплинарных являются унтер-офицеры, но, как это ни грустно, такими их часто делают их начальники, офицеры.
Есть между ними люди гуманные, но есть и ужасные, может быть, сделавшиеся такими от климата и отчужденности, в которой они живут в этих затерянных поселениях пустынной полосы Алжира.
– Есть тут несколько человек, от которых хорошо бы отделаться, так они мне антипатичны, – говорил однажды один из таких господ сержанту после одного из описанных нами «учений». – Найдите мне какой-нибудь предлог, чтобы подвести их под трибунал. Я беру на себя остальное, и мы очистим роту.
И после отчаянного бега несчастных этот образцовый капитан указал на одного из них, совершенно выбившегося из сил:
– Вот этот мне особенно надоел.
Ничего не стоило довести беднягу, лицо которого не понравилось офицеру, до совершения какой-нибудь глупости.
Другой капитан проявлял в своих действиях утонченное лицемерие. Он понял, что, доводя человека рядом незаслуженных наказаний до остервенения, уже нетрудно подтолкнуть его на что-нибудь серьезное.
– И таким образом нам удастся избавиться окончательно от всего беспокойного элемента, – говорил он.
Третий, допустим, раздраженный климатом и одиночеством бледа, яростно обрушился на одного из более человеколюбивых надзирателей, старавшихся предотвратить случаи, вызывавшие вспышки ярости в дисциплинарных.
Вывод таков: никто не имеет права быть сострадательным.
Как мы сказали, и в дисциплинарных ротах среди офицеров попадаются порядочные начальники. Но достаточно, если какой-нибудь из них смотрит на подчиненных ему людей, как на пешек, которых можно убивать себе на потеху, чтобы дисциплинарная рота или исправительная колония, созданная для исправления и воспитания провинившихся или недисциплинированных солдат, превратилась уже не в каторгу, а в настоящий ад.