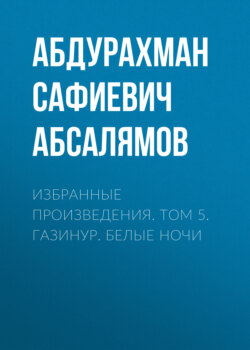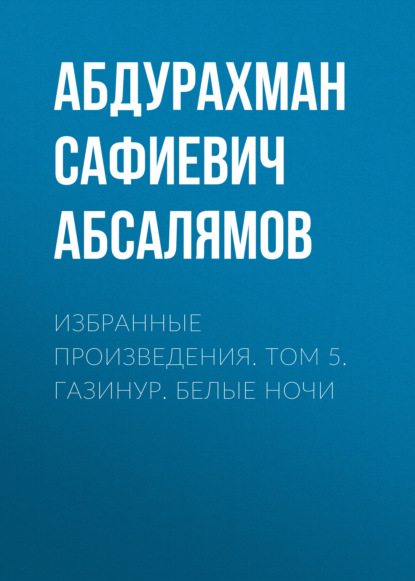© Татарское книжное издательство, 2013
* * *

Газинур
Часть первая
I
Тёплая летняя ночь. Небо такое светлое, что кажется, будто дневная его синь прикрыта лишь лёгкой тканью. Сквозь эту удивительно лёгкую, прозрачную ткань тускло поблёскивают звёзды – «решето» называют их в народе. Когда и какой поэт сравнил рассыпанные в небе созвездия с решетом, теперь уже никто не скажет, да вряд ли кто откроет эту тайну и впредь. Пройдут годы, выйдет, быть может, из обихода само решето, но как поэтический образ слово это надолго сохранится в татарской народной речи.
Мерцающий свет звёзд льётся несмело, робко, словно в пугливом ожидании зари. Если в такую ночь смотреть на них пристально, неотрывно, то начинает казаться, будто они движутся, всем роем уходят ввысь, тая на глазах медленно-медленно, как льдинки.
Месяц ещё не народился, стоит пора междулунья. Всё вокруг окутано тёплой, ласково льнущей полутьмой. Со стороны Спасской горки веет ленивый ночной ветерок, принося в деревню аромат сена с далёких лугов. От земли, прогретой за день солнцем, как от истопленной печи, пышет приятным теплом. С нижнего конца деревни доносится однообразное журчание ручейка. Лениво побрехивают собаки. В стороне дедушки Гафиатуллы затянули песню под гармонь. Прямая, широкая улица, уютно разместившиеся среди зелени садов домики выглядят особенно красиво и таинственно, как это бывает только в звёздные летние ночи. Ярко, но холодно отливает железо крыш, отсвечивают большие окна школы, клуба, нового здания правления колхоза, что стоят на просторной площади посредине деревни.
Колхоз «Красногвардеец» лежит в широкой долине, окружённой с четырёх сторон невысокими горами. И сейчас, в сумраке ночи, кажется, что горы ещё теснее обступили колхоз, охраняя его ночной покой.
Огни в домах давно погашены. Свет горит только в правлении, да над воротами фермы бойко помигивает своим недремлющим оком одинокий фонарь. Скоро запоют третьи петухи. Проснётся тогда, зашумит вся деревня. А сейчас ничто не шелохнётся вокруг, даже ручей замедлил свой бег, перешёл на шёпот.
В одном из крайних домов бесшумно открылось боковое окно. Приподнялась белая занавеска, и из-за фуксий с белыми цветами и мелкими чашеобразными листьями показалась голова девушки. Гладко причёсанные на прямой пробор волосы заплетены в две тугие косы. Девушка некоторое время всматривалась в ночную улицу и вдруг так же внезапно, как и появилась, исчезла. Белая занавеска снова опустилась.
В доме осторожно открыли дверь. Это девушка, набросив на плечи коротенький жакет с латунными пуговицами, вышла на крыльцо. Быстрыми неслышными шагами пересекла она двор и, облокотившись на садовую решётку, мечтательно подняла глаза на горы. В ту же минуту у ног её оказался лохматый пёс. Положив морду с отвислыми ушами на передние лапы, он в радостном нетерпении помахивал хвостом. Но девушка даже не взглянула на него – её мысли были далеко. Пёс притих и, помигивая блестящими в темноте глазами, с укором уставился на девушку, точно говоря: «В кои веки раз приехала в гости, и то не дождёшься от тебя ласкового слова».
Из густой тени, падающей от соседнего дома, показался высокий человек. Оглядываясь по сторонам, он направился к девушке. Шагал он крадучись, будто старый кот на охоте. Но собака учуяла его и с лаем кинулась навстречу. Задумавшаяся девушка, вздрогнув, тихонько вскрикнула.
– Сарбай, не дури! – послышался из темноты мужской голос.
Голос звучал приглушённо, но пёс, должно быть, сразу узнал, кому он принадлежит, и, потеряв свой свирепый вид, весь как-то съёжился. Отшвырнув собаку ногой, парень окликнул шёпотом:
– Миннури!
Девушка, недоумевая, спросила:
– Кто это? Ты, Салим?
– Кто ж ещё! – ответил молодой человек, улыбаясь. Но, встретив холодный взгляд девушки, осёкся. – Ты дрожишь? Тебя испугал проклятый Сарбай?
Салим вновь нацелился было пнуть собаку ногой, но умный пёс, на своей шкуре изучивший его повадки, тихонько взвизгнув, ловко увильнул в сторону.
– Ты что, как бродяга, шатаешься тут по ночам? – спросила девушка недружелюбно.
Салим промолчал. Поздоровался с девушкой за руку, облокотился рядом с ней на решётку. Вид у парня был щегольской: белая рубашка подпоясана тонким кавказским ремешком, на ногах – кожаные сапоги.
– Услышал, что ты приехала, – сказал он после короткого молчания, – и, даже не дождавшись мамашиной лапши, побежал в клуб. А тебя там и след простыл – месяц видел, да солнце скрало. Тогда я, нарочно стараясь петь погромче, прошёл по улице. Может, думаю, услышит и выйдет, не удержится, чтобы не выйти.
Салим говорил с волнением, не в силах скрыть своё чувство. В голосе его проскальзывала лёгкая обида на то, что его заставили так долго ждать, хотя он и силился не показать этого девушке.
– Кто услышит твоё воробьиное чириканье! – сказала девушка и, прикрыв рот ладонью, рассыпалась тихим смешком.
Салим сделал вид, что его не задело это оскорбительное сравнение.
– Красивые девушки всегда так, – сказал он. – Если и услышат, так притворяются, что не слышали. А сама ведь не выходила потому, что тётушка долго не ложилась спать. Я же всё видел.
– А ты, оказывается, в окошки подглядываешь!.. Вот подожди, скажу тётушке, она тебе задаст! – не унималась Миннури.
Парень, по-видимому, не обладал быстрым умом, да и на язык был неповоротлив. Он не нашёлся, что ответить.
А Миннури уже заливалась звонким смехом.
– Салим, губы-то подбери, в земле замараешь!
Привыкшая с детства заботиться о себе сама, Миннури была бойкой и даже немного озорной девушкой. В играх, в песнях она всегда была первой среди сверстниц. Ни перед кем не склоняя головы, не отличаясь застенчивостью, она смело пускала в ход свой острый язычок. Парни звали её меж собой то «сладкой редькой», то «колючей розой». Трудно сказать, какое прозвище было удачнее. Оба выражали не только её характер, но в какой-то степени и её внешний облик. Крепкая, невысокого роста, с толстыми, чёрными, как смоль, косами, кончики которых всегда немного топорщились, она действительно напоминала редьку. А её круглое, с густым румянцем лицо, освещённое небольшими, но необычайно живыми, блестящими чёрными глазами, невольно вызывало в памяти распустившийся цветок шиповника.
За много лет до того, как Миннури очутилась в этих местах, она жила с отцом и матерью в Шугуровском районе, в деревне Сугышлы. Родители её рано умерли. И Миннури с малых лет пришлось нянчить детей, работать по дому у деревенских кулаков, пока её не взял к себе на воспитание приходившийся ей родственником Гали-абзы. Он отдал её в школу, а когда всей семьёй переехали в колхоз «Красногвардеец», устроил её в Бугульминское железнодорожное училище, откуда как раз приехала сегодня Миннури на каникулы.
Немало парней из «Красногвардейца» увивается за ней. Конечно, у Миннури не такие глаза, чтобы не заметить этого, – потому-то она и разговаривает с ними свысока.
– Ох, любишь же ты поддеть человека, Миннури! Можно подумать, у самой у тебя никаких недостатков нет, – не стерпел наконец Салим, хотя и произнёс эти слова, не поднимая головы, с опаской.
– А ну, скажи, какие такие у меня недостатки? – тут же прицепилась к нему девушка. – Пока жива, хочу знать, а то умру – жалеть буду.
Нет, уж лучше не попадаться ей на зубок!.. Салим вынул из кармана серебряный портсигар, медленным жестом раскрыл его, достал папиросу, но не закурил, – подержал папиросу во рту и так же медленно положил обратно. Впрочем, всем было давно известно, что Салим таскает с собой папиросы только затем, чтобы щегольнуть портсигаром, а курит он махорку. Миннури тоже знала это.
– Нет спичек? Сходить домой, принести? – с невинным видом предложила она.
Салим понимал, что девушка издевается над ним. Ни за что на свете не пойдёт Миннури за спичками для него. А если и войдёт в дом, обратно уже не вернётся.
– Миннури, – поторопился остановить девушку Салим, голос его задрожал, – мне нужно с тобой поговорить…
– Мамоньки мои, а что же мы делаем сейчас, как не разговариваем?
Вдруг Миннури, совершенно забыв о Салиме, насторожилась.
– Ты кого-то ждёшь? – прошептал Салим.
Миннури не ответила.
Издалека, со стороны колхоза «Алга»[1], послышалась песня. Сначала далёкая, едва слышная, она постепенно приближалась, становилась громче. С холма съезжал в тарантасе одинокий путник. Он пел, весь отдавшись песне, будто хотел излить в ней свою душу. В свободно льющемся напеве звучал страстный горячий порыв.
Выкрасил фартук для милой в коричневый цвет:
Краски для фартука лучше коричневой нет!..[2]
Миннури, не отрывая рук от садовой решётки, сделала шаг вперёд. Если бы не тень, падавшая от деревьев, Салим мог бы увидеть, каким глубоким внутренним светом засветились её небольшие чёрные глаза, каждая чёрточка её круглого лица. Но, затенённое, лицо Миннури казалось очень серьёзным и даже чуть опечаленным.
Днём – о тебе я мечтаю, моя Миннури,
Ночью – во сне тебя вижу до самой зари!
Девушка легонько улыбнулась и, словно чтобы лучше слышать, сделала ещё шаг вперёд. Это он… он поёт… Газинур!.. «Нурия» – любимая песня Газинура. Он всегда поёт её полной грудью и так громко, точно хочет, чтобы его услышал весь мир. А сегодня к тому же ещё и заменил в песне имя «Нурия» на «Миннури». Вот сумасшедший!
Салим тоже сразу узнал поющего. В «Красногвардейце», пожалуй, нет человека, кто не распознал бы Газинура по голосу. Он любил петь всегда: и когда шёл на работу, и во время работы, и когда, как сейчас, возвращался домой.
Салим засопел. Ревнивые подозрения, которые давно жгли ему грудь и в течение многих ночей гнали от него сон, вспыхнули с новой силой. А широкая песня, набегавшая волнами с тёмных холмов, разливалась всё неудержимее, звенела со всё более покоряющей страстностью. Казалось, вместе с одиноким путником пели тонувшие в ночном мраке горы, луга, поля, даже звёзды в небе и те пели.
Салим сильно сжал локоть девушки.
Охваченная своими мыслями, Миннури и не заметила этого грубого жеста.
– Теперь мне всё понятно! Ты ждёшь здесь Газинура, Миннури!..
Не скрывая своей радости, девушка ответила с оттенком лукавого озорства:
– А почему бы мне и не ждать его? Раз вас двое, больше будете дорожить мною! – взглянула она на Салима с деланным кокетством. – А то ведь ты совсем перестал любить меня. Каждый вечер, говорят, бегаешь к девушкам «Тигез басу»[3]. Отпусти-ка руку, больно ведь. Эх ты, горе-ухажёр!
Открытая издёвка, прозвучавшая в тоне девушки, и то, что Миннури, опять прислушиваясь к далёкой песне, совершенно забыла о нём, окончательно взорвали Салима. Он не выдержал, схватил девушку за локти и резко повернул к себе, – наброшенный на плечи жакетик Миннури упал на землю.
– Не сдобровать тебе меж двух огней, Миннури! – пригрозил он. И приглушённым голосом добавил: – Смотри, девушка, я не шучу!
Миннури с неожиданной силой вырвалась из рук Салима, нагнулась, подняла жакет и, смерив парня презрительным взглядом, отрезала:
– Если хочешь знать, дядюшка Салимджан, таких горе-огней, как ты, у меня больше десятка!
Обычно быстро терявшийся перед Миннури Салим не захотел на этот раз сдаваться. Часто задышав, он сказал:
– Ну, уж это ты врёшь! Тебе нравится Газинур. – Он помолчал, потом, как утопающий, что хватается за соломинку, добавил: – Не пойму, что тебя привлекает в этом рябом краснобае. И умеет-то он разве что коров пасти. А я как-никак с образованием, на курсах учился. Ветфельдшер…
– Как же, лошадиный доктор! – весело прыснула Миннури.
II
Сегодняшний день оставил незабываемый след в жизни Газинура. Подобно первому весеннему грому над пробуждающейся от зимней спячки природой, этот день пробудил в его беспокойном сердце стремление к прекрасному героическому. Нельзя не рассказать об этом поподробнее, даже пришлось для этого сделать маленькое отступление.
Недели две назад в колхозе «Красногвардеец» снова появился его первый председатель и организатор Гали-абзы Галиуллин, работавший последнее время в Бугульминском райкоме. Приехал он совсем больной. Много испытаний пришлось на его долю: не один год воевал он на фронтах Гражданской войны; попав, раненый, в плен, изведал, что такое белогвардейские «эшелоны смерти»; во время кулацкого мятежа остервеневшие кулаки, привязав коммуниста Галиуллина к хвосту необъезженной лошади, улюлюкая, проволокли его по деревне. Подорванное здоровье его ухудшалось с каждым годом. И теперь, в ожидании путёвки на курорт, он приехал, по совету врачей, набраться сил в родном колхозе.
Весть о болезни Гали-абзы всполошила всю деревню. Один за другим потянулись к нему колхозники. Первыми пришли, конечно, старики. Жена Гали-абзы, Галима-апа, чернобровая, приветливая, полная женщина, радушно встречала гостей у двери, провожала их в горницу и усаживала за стол, на котором уже шумел самовар.
– Спасибо, сестрица Галима, спасибо, – приговаривал белобородый дед Галяк, опираясь на палку. Он пришёл, как полагается самому старшему, первым. – Мы не чаёвничать пришли. Чай от нас никуда не денется. Много мы его попили, ещё больше будем пить. Мы вот о здоровье Ахмет-Гали пришли справиться. Напугал ведь он нас. Болезнь, она приходит, Галима, пудами, а уходит золотниками. Так-то. Ну, что же, братец Ахмет-Гали, – обратился он к Гали-абзы, который полусидел, прислонившись к белоснежной подушке, – здоровье-то как? Как же ты маху дал?
И без того сухощавое лицо Гали-абзы осунулось ещё больше, орлиный нос заострился. Но мягкие серые глаза смотрели по-прежнему весело, без уныния. Вот и сейчас, отвечая на вопрос старика, Гали-абзы предпочёл горькой жалобе добрую шутку.
– Ну уж это ты зря, дедушка Галяк. С чего это ты взял, будто я собираюсь маху дать? – сказал он, обтирая вспотевшую голову полотенцем.
– Дельно говоришь, Ахмет-Гали, так и надо, – сразу оживился дед и, сев на стул, любезно пододвинутый Галимой, снял широкополую войлочную шляпу, аккуратно пристроил её на своих по-старчески острых коленях. – Духом падать никогда не следует, один шайтан без надежды живёт. У больного человека душа должна быть особенно крепкой. Наши деды говаривали бывало: «От сильного духом хворь сама бежит, у слабого за спиной настороже стоит». К тому же и дни, видишь, какие погожие… Деревенский воздух целебен, и не заметишь, как поправишься.
Дед Галяк как в воду смотрел. Не прошло трёх дней, и колхозники уже увидели Гали-абзы на строительстве маслобойни, возле конюшен, а вечером – на заседании правления. Председатель колхоза Ханафи попытался было уговорить его пойти домой отдохнуть. Куда там! Гали-абзы досидел до конца собрания и дал немало дельных советов.
Наведывались к нему и из Бугульмы, по райкомовским делам. Однажды по дороге в дальние колхозы завернул к Галиуллину секретарь Бугульминского райкома.
– Ну, будь здоров, Гали Галиевич, – сказал он на прощание. – Отдыхай спокойно. Постараемся больше не тревожить тебя. Но вчера из Бугульмы прибыл нарочный: Гали-абзы просили приехать на очередное заседание бюро райкома.
Наутро у белого решётчатого забора перед домом Гали-абзы остановилась запряжённая лошадь. В ту же минуту с накинутым на руку дорожным плащом на крыльце показался Гали-абзы. Он был в тёмно-синей фуражке и такого же цвета гимнастёрке, туго подпоясанной широким кожаным ремнём.
Спускаясь по ступенькам крыльца, Гали-абзы невольно залюбовался юношей, сидевшим за кучера. Вытянув вперёд обе руки с намотанными на них вожжами, он крепко держит вороного с белыми лодыжками и длинным корпусом горячего жеребца, готового по малейшему знаку сорваться с места и пуститься вскачь. На юноше выцветший от солнца пиджак. Кепка сдвинута на самый затылок. Среднего роста, широкоплечий, вот он повернулся к Гали-абзы. Чуть продолговатое, в рябинах, но очень симпатичное лицо. Разметнувшиеся чёрные брови и большие чёрные глаза делают это лицо ещё более приятным. Парню нет, пожалуй, и двадцати лет.
– Здравствуй, Газинур! – приветствует его Гали-абзы, усаживаясь в тарантас.
Пританцовывавший от нетерпения вороной жеребец, услышав, что Газинур причмокнул губами, тут же взял с места.
Солнце только-только поднималось. Небо, будто омытое, совершенно чисто. В воздухе тихо, лист не шелохнётся. День сегодня обещал быть очень жарким. Гали-абзы с трудом переносил духоту, потому и постарался выехать пораньше.
Когда миновали скотные дворы «Красногвардейца» и поднялись на гору, Гали-абзы попросил Газинура сесть рядом.
– Не люблю ездить гостем, – сказал он с лёгкой усмешкой, беря из Газинуровых рук вожжи.
Газинур принялся горячо уверять, что Чаптар – жеребец очень норовистый, что у него есть привычка дурить, особенно если он чего испугается. Гали-абзы только посмеивался:
– Не бойся, Газинур, мне и не с такими приходилось иметь дело.
Лишь только Гали-абзы коснулся вожжами крутых боков Чаптара, как тот, закусив удила, свечой навострил уши и, блеснув огненным глазом, изогнул дугой шею, словно желая увидеть, кто это посмел взять в руки вожжи.
– Крепче держите, Гали-абзы, – посоветовал Газинур.
Едва он успел проговорить это, лошадь рванула и понеслась. В лицо Газинуру ударил упругий прохладный воздух. Тарантас с грохотом зашвыряло на ухабах. Исхудалое, болезненно-жёлтого оттенка лицо Гали-абзы покрылось лёгким румянцем, светло-серые глаза стали будто чуточку темнее. Видно, любил он прокатиться с ветерком. Он придержал коня только тогда, когда из-под ремней шлеи показалась белая пена. Мотая головой, Чаптар перешёл на шаг.
– Эх, Газинур, никогда не забыть мне степей Украины… как мы гнали оттуда белополяков. Бывало, за ночь отмахаем на тачанках километров тридцать-сорок, а под утро, когда самый крепкий сон, налетим на пилсудчиков, расколотим их в пух и прах – и снова вперёд! Особенно отличался в нашем взводе безногий пулемётчик Ваня. Горяч был парень!.. Раскалённое олово! Ты ведь знаешь, как говорят наши старики про настоящих джигитов: настоящий джигит сердцем подобен льву. Таким и был наш Ваня. Из своего пулемёта косил врагов, как траву… Ходить Ваня не мог. Ещё на германской ему оторвало обе ноги. Передвигался он на руках, а больше на тачанке. К нам пришёл ночью. Наш полк только что занял с боем небольшой украинский городок. «Хочу, говорит, послужить трудовому народу, поскольку сам являюсь сыном трудового народа. Посадите меня на тачанку». Я взял его в своё отделение и не раскаивался. Чуть не всю Украину прошли с боями вместе. Расстались, когда меня тяжело ранило…
Газинур жадно ловил каждое слово Гали-абзы, а чёрные глаза его не отрывались от синевшей вдали, в туманной дымке, лощины, окаймлённой лесом. Ему всё представлялось, что оттуда вот-вот вихрем вылетят тачанки.
И вдруг на дороге, делавшей у леса поворот, действительно показалась движущаяся точка. Но это была не тачанка, а обыкновенная полуторка. Под косым солнечным лучом, ослепив Газинура, сверкнули сначала стёкла фар, потом кабины. На подножке мчавшейся на полной скорости машины стоял молодой парень. Он был в синем комбинезоне, без кепки. И то, что парень не сидел в кабине, а стоял на подножке и ветер буйно трепал его волосы, и то, как он, вытянув вперёд руку, показывал куда-то в просторы полей, вызвало у Газинура особенную к нему симпатию. «Этот и на тачанке не подкачал бы», – подумал он, весь под впечатлением рассказа Гали-абзы. Полуторка поравнялась с ними и резко, с визгом, затормозила.
– Доброе утро, Гали-абзы! – весело крикнул стоявший на подножке парень. Это был известный на весь район тракторист Исхак Забиров. Газинур хорошо знал его – Забиров немало поработал на полях «Красногвардейца».
– Куда путь держите? – спросил Гали-абзы, едва сдерживая испуганного и разгорячённого жеребца.
– В «Тигез басу», Гали-абзы. Там наши тракторы работают.
– Ну, добро, коли так. Привет там ребятам передавайте.
– Спасибо, передам обязательно.
Машина покатила дальше. Исхак так и остался стоять на подножке.
– Вот и этот тоже. Огонь-парень! – посмотрел ему вслед Гали-абзы и тронул коня. – Тебе, Газинур, тоже бы на тракториста учиться надо. Тракторист скоро будет основной фигурой в колхозе. Да и на случай войны… Теперь, друг мой, воевать придётся не на тачанках – танки в ход пойдут. А сегодняшний тракторист – завтрашний танкист…
Газинур ничего не ответил. Куда ему в трактористы! Хоть бы плугарем работать.
Они въехали в лес, спустились в сухую балку, потом снова поднялись на взгорье. На спаренной сосне у обочины дороги, на самой её вершине, стрекотала полосатая сорока. Из березняка доносилось суетливое щебетанье невидимых глазу птиц.
– Хороши наши леса! – сказал Гали-абзы, вдохнув всей грудью напоенный ароматом воздух.
То ли действительно они ехали быстро, то ли уж очень захватили юношу рассказы Гали-абзы, но дорога в Бугульму показалась на этот раз Газинуру очень короткой. И когда только они промахнули колхоз «Алга», когда осталась позади «Красная горка»! Впереди в белёсой мгле уже начали вырисовываться фабричные трубы, громада элеватора, высокие здания Бугульмы, её мельницы.
Гали-абзы принялся рассказывать Газинуру историю старой Бугульмы:
– Знаешь, это один из наиболее высоко расположенных городов европейской части СССР, – сказал он. – Лет двести назад здесь была просто маленькая деревушка, затерянная в степи. Её считали краем света. Сюда ссылали людей, которые посмели подняться против царя, против помещиков… До революции в Бугульме хозяйничали помещики Елачичи и Шкапские, миллионеры Хакимовы. Чуть ли не всё население городка с крестьянами ближних деревень работало на них. А они наживались на винокурнях, мельницах, трактирах, лавках…
На окраине Гали-абзы передал вожжи Газинуру. По дороге сплошным потоком двигались машины, цокали подковами лошади. Пыль стояла такая, что глаз не открыть.
Они въехали в Бугульму со стороны Бавлов. На площади Четырнадцати павших героев Газинур обратил внимание на группу школьников – они стояли возле огороженных решёткой братских могил; в центре огороженного пространства поднимался скромный памятник. Обступив старика-учителя, детвора звонкими голосами наперебой забрасывала его вопросами.
– И с чего эти галчата подняли такой шум? – усмехаясь, сказал Газинур.
Сказал будто в шутку, но внимательный Гали-абзы сразу подметил огонёк интереса, загоревшийся в глазах юноши. Он вынул часы. До начала бюро райкома ещё оставалось время.
«Детям историю этого памятника рассказывает учитель, а кто расскажет её тебе? – подумал он. – Сотни раз проезжал ты по этой дороге туда и обратно, а вдумался ли хоть раз по-настоящему, что за священное место лежит на твоём пути? Наверное, нет».
Гали-абзы велел Газинуру остановить коня.
Войдя за ограду, они долго в молчании стояли перед высоким гранитным постаментом, увенчанным красным знаменем. Худое лицо Гали-абзы было задумчиво и грустно. Вдруг он поднял голову, и в чуть прищуренных, устремлённых вдаль глазах его Газинур заметил нечто такое, что заставило его вспомнить бушующее в раздуваемом горне пламя.
Глубокое волнение, охватившее Гали-абзы, передалось и Газинуру. Так молча простояли они несколько минут: один – захваченный нахлынувшими воспоминаниями прошлого, другой – готовый впитать своим чистым сердцем всю красоту и величие давно минувших дней борьбы за свободу молодой Советской республики.
– Трудно, Газинур, говорить спокойно о тех, кто лежит здесь, в этих могилах, – сказал Гали-абзы, показывая рукой на зелёные холмики. – Как живые, стоят они перед моими глазами, беззаветные солдаты революции.
Газинур почувствовал, что горло Гали-абзы сдавили спазмы и он с трудом овладевает собой. Не раз приходилось юноше слышать от стариков, что время рассеивает тягчайшее горе, притупляет остроту боли, оставляя лишь грусть воспоминаний. Да, верно, ошибались старики. Не может, видно, забыть Гали-абзы своих боевых товарищей.
– Так-то, Газинур, – заговорил наконец Гали-абзы. – И в Бугульме, как и всюду, установление советской власти не далось без борьбы. Пришлось драться и против внутренних врагов, и против интервентов. Организованный англо-американскими империалистами мятеж чехословацких офицеров, белые банды Колчака… дважды заливали они кровью Бугульму. Потом кулаки… в самой Бугульме и в окрестностях… Все, кто лежит здесь, все они, – показал Гали-абзы на обложенные зелёным дёрном могилы вокруг памятника, – жертвы их кровавых дел.
Рассказывая, Гали-абзы вышел из ограды, сел в тарантас.
Подъехали к райкому. Напротив райкома, в городском саду, стоял другой памятник. Туда-то и повёл Гали-абзы Газинура.
Там, под большим серым камнем с изображением красной звезды на одной стороне и якоря на другой, были погребены члены Бугульминского ревкома Петровская и Просвиркин, и вместе с ними – неизвестный матрос.
– Я хорошо знал товарищей Петровскую и Просвиркина, – Гали-абзы положил руку на плечо юноши. – Работал под их началом. Они были настоящие люди, жизни своей не пожалели для народа. Иначе и нельзя, Газинур. Люди с заячьей душонкой никогда не побеждают. Борцу за революцию нужно иметь сердце горного орла.
…Как сейчас стоит у меня перед глазами и матрос. Он появился в Бугульме в самое трудное время. Как удалось ему прорваться через вражеское кольцо, плотно охватившее тогда Бугульму, этого я не знаю. В ревкоме готовились к последнему бою. В это время он и ввалился, волоча за собой пулемёт. Молодой, здоровущий. По поясу гранаты, пулемётные ленты через плечо, на голове бескозырка. «Я от Ленина, – сказал он, улыбаясь. – Разрешите встать на вахту за советскую власть». И стал прилаживать свой пулемёт у окна. На улице уже поднялась стрельба…
Но пали они не в этом бою. Это произошло на глухом разъезде между станциями Ютаза и Туймаза. Окружённые многочисленными врагами, они отбивались до последнего патрона, до последней гранаты. Уже пала бесстрашная коммунистка Петровская, уже истекал кровью Просвиркин. Матрос выхватил из рук погибшего товарища винтовку и бросился в штыки. Только когда он рухнул, обессилев от ран, враги смогли подойти к нему…
Газинура захватил рассказ Гали-абзы. Все они – и Просвиркин, и Петровская, и неизвестный матрос, и другие безымянные герои – казались ему в эту минуту дороже отца и матери, дороже жизни. Дороже, роднее стал и Гали-абзы, в нём Газинур видел теперь живого героя Гражданской войны.
Гали-абзы помолчал несколько минут и добавил:
– Если придётся тебе с оружием в руках отстаивать честь родины, вспомни об этих людях, Газинур.
– Всегда буду помнить, Гали-абзы, – тихо, как самое заветное, произнёс юноша.
У основания памятника лежал тяжёлый ствол старинной пушки. Много лет тому назад пугачёвское войско стояло лагерем в горах возле Бугульмы. С тех пор и хранится здесь ствол этой чугунной, стрелявшей ядрами пушки.
– Испокон веков народ боролся за своё освобождение, Газинур, – продолжал Гали-абзы, присев на скамейку неподалёку от памятника. – Вся история человечества – это история борьбы за свободу. Этого тоже никогда не забывай, Газинур.
Ночью, возвращаясь домой, Газинур не мог оторваться мыслями от того, что услышал от Гали-абзы. А так как у него была привычка изливать все свои думы и переживания в песне, он почти всю дорогу пел. Пел он о батырах, которые презрели смерть ради счастья народа. К удивлению Газинура, протяжные напевы старинных песен зазвучали на этот раз необычно бодро и горячо.
Подъезжая к колхозу, Газинур запел о своём колючем цветочке, о своей дикой розе – любимой Миннури, сердцем чуя, что она уже здесь, в деревне, и ждёт его. В городе он дважды приходил к дому, где она жила, но оба раза дверь оказалась на замке.
Тарантас въехал на конный двор. Распрягая лошадь, Газинур оживлённо переговаривался с вышедшим навстречу старшим конюхом Сабиром-бабаем. Весёлые прибаутки, казалось, сами слетали с его языка. Взяв Чаптара за повод, он отвёл его в сторону. Конь потоптался, обнюхал землю и повалился на спину. Когда, досыта навалявшись, конь встал и отряхнулся, Газинур тщательно обтёр его рукавицей, почистил и отвёл в конюшню.
– Спокойной ночи, дружок Чаптар, – сказал он, набив кормушку душистым сеном, и, прежде чем уйти, любовно провёл ладонью по гладкой, лоснящейся шее коня.
Во дворе Сабир-бабай, пыхтя, подталкивал тарантас к навесу. Газинур поспешил к нему на помощь.
Установив тарантас под навесом, Газинур с Сабиром-бабаем уселись рядышком на пороге амбара.
Сабир-бабай, несмотря на летнее время, был в малахае и шубе: любят тепло старые кости. Этот невысокий старик с круглой седой бородой, побывавший в своё время на солдатской службе, а потом измеривший вдоль и поперёк российские просторы в поисках заработка, знал много удивительных вещей. Газинур любил слушать его. «Сабир-бабай, расскажи о своей службе на Карпатах…», «Сабир-бабай, а как вы отказались стрелять в рабочих…» – просил он старика. И, чуть приоткрыв свои по-детски пухлые, полные губы, ночи напролёт слушал солдатскую повесть о далёких, даже летом покрытых снегом Карпатских горах, о солдатах «мятежного» полка, присланных для усмирения восставших рабочих и отказавшихся стрелять в своих братьев.
– Так-то, Газинур, сынок! Много перенёс на своём веку Сабир-бабай. В России, похоже, нет места, где бы он не побывал, не найдётся такой реки, откуда бы он не испил водицы, – заканчивал обычно старик.
И, погрузившись каждый в свои думы, оба долго молча курили.
Но сегодня разговор пошёл совсем о другом.
– Как, Газинур, благополучно довёз Ахмет-Гали? – спросил старик.
– Довёз – лучше не надо, Сабир-бабай. Как на машине… – Газинур улыбнулся, блеснув в темноте ровными белыми зубами, и восторженно воскликнул: – Золотой человек наш Гали-абзы!
– Что верно, то верно, – согласился старик. – Много полезного сделал Ахмет-Гали для района и для нашего колхоза. Это он организовал наш колхоз и название ему хорошее нашёл. Ахмет-Гали – человек партии… большой человек, Газинур.
– Вот и я тоже хочу сказать, Сабир-бабай, – подхватил Газинур, – что большой он человек… Я даже не знал, какой большой, хотя вырос у него на глазах, и считал, что всё о нём знаю. Куда там!
И взволнованный Газинур рассказал старику, как Гали-абзы гнал на тачанке польских панов, рассказал о безногом пулемётчике, о матросе, приехавшем от Ленина.
Сабир-бабай украдкой взглянул на Газинура и ласково усмехнулся. Вот что значит молодое сердце! Всё-то горячит его…
– Понимаешь, Сабир-бабай, – мечтательно сказал Газинур, – какие замечательные есть люди на свете! – И с восторженным удивлением добавил: – Подумаешь – и диву даёшься: откуда такие берутся?
Некоторое время оба молчали. Мимо них, оставляя тонкий блестящий след, проносились светлячки. Гудели майские жуки. Тёмное небо изредка прорезали падающие звёзды.