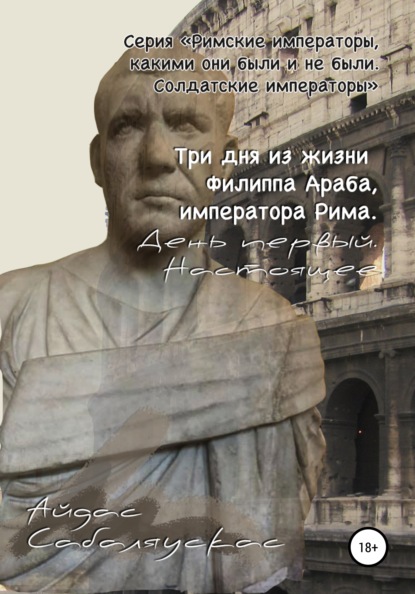Три дня из жизни Филиппа Араба, императора Рима. День первый. Настоящее
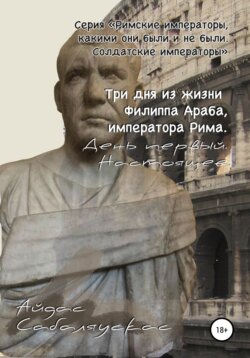
000
ОтложитьЧитал
Планировал написать о римском императоре Марке Юлии Филиппе в жанре небольшой новеллы, однако «новелла» разрослась сначала до трёх, а затем и до четырёх связанных меж собой, но при этом самостоятельных романов. Тому, что в итоге получилось, на мой взгляд, очень соответствуют стихи жившего в первой половине VIII века японца Ямабэ Акахито (в разных переводах), придворного поэта императора страны восходящего солнца Сёму. Творец писал в том числе в стихотворной форме «танка» («короткая песня»).
А поскольку имеющегося на русском материала от Ямабэ Акахито на «всё-про всё» не хватило (не осилил сию ношу, не потянул!), то поначалу я присмотрел ещё одного японца, который и сам творил, и поэзию других собирал: Отомо Якамоти (тут переводчик единственный – А.Глускина). Типа: и сам жил, и другим жить давал.
Если первые три книги (части) вытянули на своём горбу двое японских стихотворца, то для последней их сил уже не хватило. Потому и пришлось привлечь третьего, но не лишнего – Отомо Табито (в разных переводах).
Скажете, эклектика: лебедь, рак да щука? Типа совпадение? Не думаю! Во-первых, это красиво. Дальше можно было бы и не продолжать, однако мы не привыкли отступать, потому продолжу. Во-вторых, Бог любит троицу. А в-третьих, Отомо Табито не абы кто, а отец Отомо Якамоти – куда иголка, туда нитка, нельзя их разлучать.
Втроём ребята и потянули, и всю ношу целиком осилили, но не как лошадка, поднимающаяся медленно в гору и везущая хворосту воз, а как птица-тройка, мимо которой летит всё, что ни есть на земле.
…Соблюдая правила хорошего тона, также хотелось бы передать приветы и высказать признательность всем друзьям, а также непричастным за неоценимую помощь, оказанную в подготовке рукописи данной книги: Геродоту, Гераклиту, Гомеру, Павсанию, Апулею, Еврипиду, Овидию, Плутарху, Цицерону, Ливию Андронику, Ювеналу, Флавию Вописку Сиракузянину, Гаю Азинию Квадрату, Юлию Капитолину, Сексту Аврелию Виктору, Флавию Евтропию, Стефану Византийскому, Зосиму, Зонаре, Никострату Трапезундскому, Феликсу Якоби, Дмитрию Брауну…
Впрочем, стоп! Всех перечислять здесь не буду, а то на роман места не останется, отошлю к ранее опубликованным частям книги о другом римском императоре – о Галерии. Там все великие мира сего за личные заслуги и консультации мне (во сне и наяву) поименованы и отблагодарены.
Рим у его ног
«Пышной вишни цветы,
При расцвете которых
Я любил тебя, друг мой,
Прошедшей весной,
Верно, это тебя здесь приветствуют ныне!..»
Ямабэ Акахито
Солнце было совершенно красно, как чистая кровь. События падали, как камни, прыгали в глазах, то расширяясь, то скукоживаясь. Мужчина восточного вида зажмурился и потряс головой. Затем осторожно открыл глаза. Прыжки прекратились, а солнце стало огненно-жёлтым с белой короной.
Преторианцы, легионеры и просто зеваки, рассыпавшиеся кто в одиночку, кто гроздьями по крепостным стенам города, смотрели, как из-за горизонта одна за другой сначала выныривали морды лошадей, а потом и восседающие в седлах фигуры то ли катафрактариев, то ли клибанариев. А затем снова всадники, всадники, всадники. И пешие, пешие, пешие. И повозки, повозки, повозки.
Окрестные пространства огласились лязгом, ржанием и прочим шумом передвигающегося войска. Всё кричало, орало, вопило, и-го-гокало, бренчало и дребезжало.
*****
…В самом конце лета 244 года нашей эры Марк Юлий Филипп, ещё недавно носитель державного звания «префект претория», а ныне фактический владыка громадной раскинувшейся в Европе, Азии и Африке империи, въехал сначала в пределы Италийского полуострова, а затем и в Рим, столицу мира, приветствуемый экзальтированной толпой свободных, не совсем и совсем не таковых граждан:
– Да здравствует император! Ave Caesar! Ave Augustus!
Индивидуальное в стародавние времена прозвище-когномен «Caesar», уже даже к моменту рождения Юлия Цезаря ставшее прозвищем целой патрицианской семьи, к настоящему времени (когда на арену истории вышел Филипп) превратилось в императорский титул. Почётное имя «Augustus» («Божественный»), дарованное когда-то сенатом Октавиану, к сегодняшнему дню тоже стало не просто эпитетом, а высшим титулом римских владык. Потому толпа в своих стадных инстинктивных воплях нисколько не смущалась громкоголосо льстить:
– Да здравствует император! Ave Caesar! Ave Augustus!
Публике вообще было не привыкать ни к экзальтации, ни к приветствиям: с тех пор, как девять лет назад легионерами вместе с его матерью был без какой-либо жалости отправлен на тот свет последний император из династии Северов Александр, против своей воли друг за дружкой или вообще одновременно ушла из жизни ещё пятёрка римских государей – и это если не считать мятежника-узурпатора Сабиниана и законного императора Гордиана III-предшественника Филиппа. Четверых из пятёрки вооружённая и разнузданная полевая солдатня (в одних случаях) или паркетные преторианцы (в иных) зарезали, словно баранов, а пятый, не пожелав себе участи жертвенного животного и почуяв приближение киллеров, самоубился – повесился на первом же попавшемся под руку шерстяном поясе от чужой туники.
Каждого ушедшего к праотцам властителя публика порицала и хулила. Всякого вновь приблизившегося к трону, а тем паче на него взобравшегося, усевшегося и свесившего оттуда ноги, толпа славила во всю Ивановскую, ибо любой новоиспечённый император поначалу кормил, развлекал, а зачастую и поил задарма (пусть и вином-кислятиной).
*****
В сердце имперской столицы Марк Юлий Филипп внедрялся со стороны Квиринала, самого высокого из семи римских холмов – через легендарные северные Коллинские ворота Сервиевой стены. Так сам пожелал, прослышав однажды об одном древнем и уникальном девичьем феномене.
Сидя верхом на коне, император с неподдельным интересом вертел вокруг себя головой, пытаясь самостоятельно распознать, в каком же конкретно месте находилось тут прежде то самое Campus Sceleratus (Злодейское поле, Кладбище для преступниц), где много веков подряд заживо замуровывали в землю монахинь-весталок, в глубоком девчоночьем детстве давших клятву целомудренно служить Богине Весте, но, повзрослев, нарушивших обет и осквернивших своё тело и междуножье бесстыжим соитием с мужчинами.
«Может, и мне весталку помоложе охмурить и вторым браком взять в жёны, как это сделал задолго до меня император Гелиогабал? Пусть только попробует своему повелителю отказать! Да и не откажет она – сама мне на шею вешаться станет, только чтобы её не повесили! С такой супругой я в один присест приближусь к Богам! К самому Олимпу! На его вершину воссяду!» – подумал Филипп, но вскоре забыл об этом: сразу, как только Коллинские ворота оказались за спиной. С глаз долой – из сердца вон! Впечатлений от сегодняшнего дня было такое множество, что мужчина не успел вспомнить даже о сабинянах, которые по легенде являлись первыми известными жителями этого холма и поклонялись Богу войны Квирину (в честь которого к холму и приклеился топоним «Квиринал»).
В Риме его новый хозяин оказался впервые. Впрочем, если и бывал тут прежде, в младенчестве или в мальцовстве, то давно об этом факте запамятовал – словно из извилин Филиппового мозга кто-то скальпелем важный кусочек его серого вещества аккуратно вырезал, а крохотную ранку залил расплавленным воском, ошкурил мелкой наждачкой, зачистил и отполировал…
*****
Императора сопровождала конная когорта осанистых и атлетически сложенных телохранителей с хмурыми и, судя по всему, восточными лицами, но с кривыми дугой ногами, словно они с самого малолетства даже по ночам с коня не слезали, а так и спали в седле.
«Мавры! Сарацины! Арабы! Головорезы!» – подумала римская чернь.
Однако рядом с Филиппом гарцевали не только смуглолицые южане, но и большая придворная свита европейцев, преимущественно эллинов: всезнающая плеяда советников, советников-наушников и просто наушников, мечтающих о высоком статусе – выбиться в чистые советники.
Император мечтает
«Я у дома
Посеял, взрастил карааи, —
И увяли её лепестки…
Но не будет мне это уроком сейчас,
Я посею опять карааи!..»
Ямабэ Акахито
Ещё едва-едва приблизившись к столице империи, Филипп для себя уже решил, что въедет не просто в Рим, а в Вечный град. Мысленно постановил, что именно на этой маркетинговой фишке он выстроит своё великое царствование, которое навечно впишется и в анналы, и на скрижали истории – о нём сложат легенды, мифы, былины, баллады и песни и даже, изобразив складные сюжеты пластичными движениями тела, спляшут (но не на Филипповой могиле). Убедил себя, что, единожды ослеплённые великолепием этой придуманной лично им блескучей обёртки, римляне до конца его правления не посмеют упрекнуть Филиппа в том, что он – «как все»: что, как и его предшественники, взошёл на трон в результате очередного дворцово-военного переворота, умертвив предыдущего императора-принцепса. Римляне непременно проникнутся его искренностью, умеренностью, аккуратностью и правдой-маткой, поверят в то, что Филипп – особенный, единственный и неповторимый в своём роде, что никого не свергал и что в тёмной нощи, аки тать, не душегубствовал!
III век нашей эры давно уже был таким периодом развития государства, когда топоним Рим приобрёл своё второе значение и звучание: стал не только городом, пусть и великим, но и названием громадной державы.
«Империя моя велика, она опоясывает Средиземное море, ставшее внутренним озером Рима. Mare Internum! Наше ромейское море! Mare Nostrum! Эх, так и хочется внести новацию: a mari usque ad mare, od morza do morza – от моря до моря! Intermarium! Междуморье! Империя моя велика, а порядка в ней нет! Будет порядок! Я его наведу и кнутом, и пряником! У меня и воля, и хватка – железные! Стальные! А сталь – дамасская! Я всех выстрою и сам выстою! Вся надежда всех патриотичных римлян отныне только на меня! Они давно ждали такого императора!» – густая муть из обрывков чужих, хотя и не чуждых ему, мыслей вдруг всплыла на поверхность головного мозга Филиппа, оплела извилины и серое вещество в них, полностью застив разум мужчины.
Впрочем, ненадолго.
– Риму грядёт тысяча лет! Мы отметим это историческое событие так, что весь мир восхитится, а народы содрогнутся! Как вспомнят, так и вздрогнут! У варваров затрясутся поджилки, и они рухнут пред Римом… на колени, пораскрывав от изумления свои гнилозубые рты. А мы им – по мордасям, по мордасям, по мордасям! По челюстям, по челюстям, по челюстям! Справа и слева… синее небо! Все зубы повыбиваем, чтоб не кусались! Пусть дёснами шамкают! Пройдёт почти две тысячи лет, прежде чем на краю северо-восточной земли кто-то осмелился встать с колен! Но, даже поднявшись, и через десять тысяч лет никто не забудет наш праздник и наши мощь и величие! Да здравствует Вечный град и великая нация – римляне! – словно рекламой предваряя грядущее событие и переключаясь на свою волну, прокричал Филипп в толпу загодя заученное, используя народную латынь.
Десятки и сотни глашатаев, прибывших вместе с императором с азиатского Востока, эхом разнесли эту весть по всему Риму: уже не в вульгарном её варианте, а на чистой, не замутнённой варваризмами державной мове.
Толпа любит величие и пафос, которые предваряют материальный стимул, посему и сейчас вовсю ликовала…
Это триумф, или Император – иноплеменник?
«Вот и бухта Акаси!
Отхлынул прилив на дороге,
Завтра, завтра
Наполнится радостью сердце:
Я всё ближе и ближе к родимому дому!..»
Ямабэ Акахито
Солнце, посылая императору-принцепсу один воздушный поцелуй за другим и вдобавок к этому лучи добра (плюс света и тепла), внезапно золотой диадемой опустилось на его голову. Особо впечатлительным, однако, показалось, что это не дневное светило и не корона, а подлинный небесный нимб. Филипп – помазанник Бога: конечно же, Юпитера.
– Да здравствует император! Ave Caesar! Ave Augustus! – раскатистым грозовым громом, а следом и эхом, как в горах, снова огласился город и его окрестности. Где-то в вышинах даже пару-тройку раз для вящей убедительности сверкануло: то ли молнией, то ли прямо посреди дня – огненными багряными зарницами.
Что это? У императора широко распахнулись глаза и расширились зрачки. В спешке, словно опаздывая на любовное свидание или, напротив, торопясь жить, распускались цветки смоковниц: сотни и тысячи крохотных зелёных шариков с отверстиями на маковках – их обычное время цветения было в апреле-мае, но точно никак не в конце августа.
«Боги ниспослали мне приветствие! Пометили… эээ… отметили меня», – проникся император знаком свыше: знал, как толковать Божественное.
Будто бы вторя или подражая смоковницам, вспыхнули собственным цветом и оливы.
Филипп Араб зажмурил глаза: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
Но стоило ему опять приподнять веки, как буйство весенних красок прекратилось – словно ничего не было.
Неужели почудилось? Не сходит ли он с ума?
«Клянусь смоковницей и оливой, они цвели, как весной!» – занервничал мужчина, заёрзав в седле и отрываясь своими пятками на жеребцовых боках.
Прищурился – без толку: не было цветения.
Ещё раз – тот же отрицательный результат. Хоть всю растительность в округе уничтожь!
Римский народ, как будто намекая на скорейшую сытную обильную пищу и зрелищное развлекательное шоу, никак не унимался:
– Да здравствует император! Ave Caesar! Ave Augustus!
«Я на поле боя добыл диадему и пурпурный плащ. Легионы императором меня уже провозгласили. Теперь надо понудить к этому римский сенат. Вернее, тихим добрым словом убедить его членов в неизбежности произошедшего. Пряником! Впрочем, коли не убедятся, то, чего уж лукавить, и понудить. Кнутом! Бичом! Поркой! Упали – отжались! А если не понудятся, то и повыгонять. Проветрить и почистить сей орган от затхлости, плесени, пыли, грязи и скверны… языческой! Разжалую упрямцев… эээ… да хоть в рядовые легионеры, как это делаю со своими нерадивыми офицерами… Да, собственно говоря, и куда эти родовитые мажоры-бездельники денутся?! Стоит мне явить им себя, возлюбят меня, как миленькие. У меня авторитет! И харизма – ого-го какая! Кроме всего прочего, я же им всем только добра желаю! А от добра добра не ищут! Per aspera ad astra! Через тернии к звёздам! Sic itur ad astra! Таков к путь звёздам! Тернист, извилист и неказист…»
Будучи уроженцем провицнии Аравия и обладая о внутренней жизни Рима и его верхушки лишь теоретическими познаниями, напитавшись сплетнями и слухами из уст советников, советников-наушников, просто наушников и наперсников разврата, в своих мыслях Филипп явно приукрашивал и переоценивал родовитость и мажористость нынешней плеяды сенаторского сословия. Даже коренные римляне в …дцатом поколении стали как допотопный воспринимать тот период истории, когда один из сенаторов заявил: «Нога неиталийского варвара переступит порог римского Сената только через мой труп!» Пришлось ли первому сенатору-этническому неофиту перешагнуть чьё-либо мёртвое туловище, осталось вне скрижалей и вне анналов истории – за её рамками. Однако сейчас бывших варваров и их потомков в сенате было достаточно.
*****
Сенат, в стародавние времена действительно патрицианский (чуть позже – нобилитетский) и действовавший прежде как закрытый элитарный клуб, каждое новое столетие уже даже в свой республиканский период неоднократно разбавлялся пришельцами: провинциалами из италийских муниципиев и новыми гражданами из числа романизированных граждан – особо в карьерном смысле активничали лохматые галлы и испанцы разных этнических групп. С момента реформ Юлия Цезаря и Октавиана Августа в сенат опять вплеснулись десятки крупных прибоев и мелких волн: не только самих италиков, но и выходцев с Запада, Севера и Востока империи. Вон откуда чужие воды добивали!
Вот, к примеру, династия императоров Флавиев шибко полюбила назначать сенаторами провинциальных выскочек, безродных (с точки зрения консервативного Рима), но порой сказочно богатых лимитчиков – через них легче было как манипулировать древним державным институтом, так и управлять захваченными территориями. Род Антонинов от Флавиев не отставал: уже к концу правления этой династии уроженцы варварских ранее регионов составляли больше половины от числа всех римских сенаторов. Причём, росла в основном доля тех, кто прибыл с восточных провинций: не только из культурной Эллады или с воинственной Македонии, но и из азиатской Сирии и африканского Египта. Пятидесяти лет не прошло, как романизированные выходцы «откуда попало» стали преобладать даже над сенаторами-италиками (не говоря уж о коренных римлянах-горожанах). Лишь уроженцев Аравийского полуострова в сенат до сих пор не просачивалось. Ни единого!
«А надо бы! – подумал Филипп. – Пробил час! Пора искоренить дискриминацию! Для начала – араб-император, а потом и все сенаторы маврами заделаются! Сами попросятся в моё семя… эээ… племя! По доброй воле сменят этническую окраску. Не ориентацию же!»
…Полуденное римское солнце продолжало имитировать яркий свет, а во всём римском мире – бесноваться август: новый властитель Рима щурился и иногда, словно козырьком, прикрывал ладонью глаза. Они сейчас слезились, как у умудрённого возрастом старца, утомлённого пройденным жизненным путём. Однако император был не дедом, а мужчиной хоть куда и в полном расцвете лет. Ну, в крайнем случае если это и была старость, то она оказалась изобильными процентами на щедрые вклады, сделанные в детстве и юности.
*****
На улицах шастало множество котов и кошек разных расцветок: и в одиночку, и по парам, и группами. Но, словно почувствовав значимость момента, они юркали сейчас в стороны или, вовремя не сообразив ускользнуть, напыженные и фырчащие жались к стенам римских домов.
«Сами по себе гуляют! – зачем-то подумал Филипп, взглянув со своего седла, словно свысока, на размазывающиеся по стенам шёрстки и на разлетающиеся в проулки и закоулки хвосты. И домыслил: – Все кошки и коты отчасти являются жидкостью и способны затечь куда угодно».
Внезапно из перпендикулярного переулка метнулось, испугавшись чего-то (явно не Араба со спутниками), чёрное мяукало: перебежало дорогу прямо перед жеребцом императора.
Конь не обратил на мелкое животное никакого внимания, продолжив свой путь в прежнем ритме, а Филипп, не успевший затормозить и остановить жеребца, занервничал, готовый искостерить котяру такими словами, которые не найдёшь ни в одном римском словаре классической латыни.
– Не страшитесь, мой государь! – подсуетился успокоить своего повелителя один из оказавшихся рядом императорских наушников. – У нас, римлян, нет такой суеверной приметы!
– Какой «такой»?
– Как у варваров!
– Ааа, ну, варвары всякое могут себе удумать… – пробурчал Филипп, но тут же вернулся к мысли о мяукалах, особенно чёрных, подобных безлунным ночам. – И чего этим мохнатым тварям дома не сидится?
– У римских котов и кошек нет дома!
– Как так?
– Они не являются домашними животными! Коты и кошки – существа свободные! Они любят вольность и в Риме на каждом шагу. Им всё позволено. Такова наша традиция…
Араб или… просто голый? Король или император?
«Там, где остров на взморье,
У брегов каменистых,
Поднялись над водою жемчужные травы морские…
И когда наступает прилив и от глаз их скрывает,
Как о них я тогда безутешно тоскую!..»
Ямабэ Акахито
Конь внезапно остановился и заплясал на одном месте. Сам: никто его не шпынял, не подначивал, не пугал, а император узду, рвущую в кровь губы и весь рот животного, к своему животу не подтягивал.
Выпрямив спину, выпятив грудь колесом и привстав на стременах, Филипп Араб изобразил императорское величие и теперь резко побеспокоил жеребца: ткнул пятками в его бока. Вперёд! Но арабский скакун то ли изменил, то ли проявил норов и уже стоял (на своём), как вкопанный, словно чего-то ждал. Какого-то знака или сигнала. Человечьего или Божественного участия. Вещий конь?
Вдруг кто-то, кажется, маленький мальчик, воскликнул:
– А король-то голый!
Император чуть не задохнулся. То ли от животной ярости из-за наглости неблагодарного ребёнка, то ли от дикого внутреннего хохота, то ли просто от нехватки кислорода в воздухе. Горбатая спинка носа да и весь выступающий профиль южанина очертились ещё чётче, резче, ярче и выпуклее: это увидели все, даже те, кто прежде не римских черт государева лица не замечал. Даже те, кому всё это было глубоко без разницы, по барабану, до фонаря или до лампочки. Филипп успел подумать: «Когда придворный скульптор придёт ваять мой бюст, надо не забыть подсказать ему, чтобы мой нос в граните или мраморе не обратился крючком для ловли мелкой рыбёшки! Одно из двух: или нос прямой, или рыба крупная! Так или сяк! Либо то, либо другое! Однозначность! Никаких парадоксов, неуловимостей мутностей и смутностей или сидения на двух стульях!.. Только трон! Я император, а потому не должен сидеть даже на скамейках!»
Мерин под седоком вдруг встал на дыбы, потом на все четыре копыта и… тронулся, но не умом, а шагом: его опять никто не шпынял, не подначивал и не пугал.
Из толпы прозвучал то ли повтор, то ли напоминание:
– А король-то голый! И никуда от этого факта не деться! Голый! Голый! Голый!
В гробовой тишине теперь уже кто-то явно повзрослей грубоватым… тенором поправил запальчивого и несмышлёного мальца:
– Короли бывают только у северных варваров… у германцев… Наш владыка не такой! Он чтит традиции! Он истый ромей! Хлеба и зрелищ!!!
– Хлеба и зрелищ!!! – поддержали тенора толщи римского плебса, залегшие пласты самого глубинного народа.
Филипп словно впал в ступор, в прострацию, растерялся и, будучи в шоке, не отреагировал то ли на тонкий намёк, то ли на толстую обстоятельную подсказку, то ли на прямой призыв к нему прислушаться и услышать базовые народные чаяния.
– Император – араб! – опять воскликнул кто-то, кто, конечно же, был тем самым маленьким мальчиком. Или некто своими истиной и глаголом маскировался под уста и голос ребёнка и жёг сердца людей.
В одно мгновенье в державе назрел римский бунт, бессмысленный и беспощадный. Толпа – она ведь непредсказуемая стихия и извечно готова вырывать корни зла уже только потому, что они питательные и сладкие.
Император поднял руку вверх.
Галдёж людских масс стих.
*****
– Даже у самого плохого дитя всегда можно найти что-то хорошее, если его отыскать и тщательно обыскать. И в первую очередь – его родителей! Предки за потомка ответственны – плохо воспитывали! Это совсем не тот случай, когда сын – за отца..! – собирая в кулак всю свою арабскую храбрость и волю, повелел римский владыка, хотя в его голове заводопадили и захороводили, как стайки ласточек над домом, шальные мысли: «Неужели же это всё? Неужели мне пришёл конец? Так вот где таилась погибель моя – мне смертью малец угрожает! А ведь у меня было планов громадьё! Целое Средиземное море! Эх! Ни перед сенатом выступить не успел, ни диадему поносить, ни скипетр в руке подержать, ни на троне в курии Юлия посидеть!»
Возмутителя спокойствия не нашли – иголкой в стоге сена оказался малец. Да и был ли вообще тот мальчик? Поскольку наглость цвета детской неожиданности больше не повторялась, императору доложили, что заговор раскрыт, все мятежники числом превеликим схвачены и наказаны будут не обыском, но распятием на крестах, как это бывало в старые добрые времена: при Нероне, Домициане и Траяне. Или же во времена не столь давние и с высоты дня сегодняшнего хорошо обозримые: при Септимии Севере.
– Panem et circenses! Хлеба и зрелищ!!! – уже более слаженно, настойчиво и грозно потребовал римский глубинный люд, помнивший Ювенала, автора этих бессмертных строк, поэт ведь в Риме больше, чем поэт: всегда так было, есть и будет!
Римская нация, словно чёрной тучей, надвинулась, сплотившись, на новую, если не укрепившуюся на своём Олимпе, вертикаль власти.
До императора, наконец-то, дошло: он вспомнил, что где-то далёко на озере Чад изысканный бродит жираф.
«Я вовсе не длинношеее животное! Для начала откуплюсь от черни дармовой жратвой, раз она привыкла к халве… эээ… к халяве и клянчит-попрошайничает! Ах, да —традиция, которую надо чтить!» – подумал Филипп Араб и тут же, не отходя от кассы, отдал недвусмысленный приказ изъять из державных и частных закромов не только чёрный хлеб самого низшего пошиба (panis plebeius), как раз и предназначенный для бесплатной раздачи римской бедноте и голытьбе, и даже не только абы какой белый хлеб второго и третьего сортов (panis secundarius), но и белый высшего качества (panis candidus) – тот самый, которым питались избалованные и изнеженные римские верхи.
– Да-да! Всё отовсюду реквизировать и раздать моему народу! Выполнять! Не возражать! – повелел Филипп. – Государство – это я, а потому частникам и инвесторам, сейчас вкладывающим в социальные проекты, всё потом возмещу деньгами из державной казны, никого сестерцием не обижу. Не обделю… лишним сестерцием! Надеюсь, мои предшественники не успели пустить всю казну на ветер или по миру! Если не успели, то всем всё компенсирую!.. Я знаю, что при Юлии Цезаре в Риме было… эээ… много пекарен… ну, не столь много, сколь будет при мне… с сего момента и вовеки веков! Радуйтесь, люди, каждому дню… моего правления!
К императору на интеллектуальную подмогу тут же ринулся и к его уху прильнул штатный знаток-наушник.
– При Юлии Цезаре в Риме было двести тысяч пекарен! – выслушав шепоток, ещё громче огласил римский властитель.
Уста наушника опять слились воедино с ушной раковиной римского государя, словно эти губы и ухо с детства были неразлучными друзьями.
Император внимательно выслушал знатока и шлёпнул его по губам: мол, чересчур-то не зарывайся, парень, не заговаривайся и государево ухо без нужды не терзай, а тем паче не кусай!
– Двести пятьдесят пекарен! То бишь к двум сотням надо прибавить пять десятков, но без тысяч! – поправился Филипп и, выдержав паузу, как ни в чём не бывало продолжил: – Слушайте меня, свободные граждане Рима! Слушайте и не говорите, что не слышали! При моём благословенном правлении выпекать хлеб в столице будет пятьсот пекарен… или пятьсот тысяч! Статистика сроду не лгала: ни в один из веков. Так было, так есть и так будет!
Десятки и сотни глашатаев, прибывших вместе с императором с азиатского Востока, эхом разнесли эту весть по всему Риму: уже никто не разобрал, да и значения не имело, на вульгаризированной ли латыни или на чистой державной мове.
– Мой народ! Я также ведаю, что при Юлии Цезаре бесплатный хлеб в Риме никогда не лежал в мышеловках, ибо это не сыр. Хлеб прямо со складов отгружали… эээ… получали… эээ… – император будто замялся, а может, в очередной раз выдерживал паузу, чтобы его последующие слова прозвучали весомей, грубей и зримей и произвели эффект разорвавшегося греческого огня.
К государеву уху тут же услужливо склонился знаток-наушник, теперь много о себе возомнивший и завитавший в облаках: представлял, какая стремительная и блестящая карьера эффективного державного менеджера ожидает его, начиная прямо с завтрашнего утра.
– При Юлии Цезаре бесплатный хлеб получали триста тысяч граждан Рима, – прогромогласил Филипп Араб, дослушав шепотливый бубнёж.
Всплеснув руками, скривившись и изобразив недовольную гримасу, уха римского владыки снова коснулся знаток-наушник. В этот раз именно коснулся, а хотелось если не оттяпать совсем, то укусить – и побольней.
– Триста двадцать тысяч! – поправился властитель после очередного шёпота, но шестым чувством прочухал, что если и дальше будет путаться в цифрах, фактах и показаниях, то граждане Рима засомневаются в его императорских компетенциях, а потому резко сменил тему: – А завтра… завтра… завтра устроим гладиаторские бои в Колизее! С морским боем и охотой людей на хищников. И наоборот: зверей на человеков. Организуем поединки и мужчин, и женщин… эээ… они не друг с дружкой драться будут, а меж собой!
– В том смысле, что масло масляное? – невежливо полюбопытствовал кто-то из толпы.
– Каждый гладиатор и всякая гладиаторша будут рубиться внутри своей весовой… эээ… гендерной категории, не выходя за границы приличий и дозволенного! А в дружеском союзе оба пола по одну сторону баррикад станут биться со львами и крокодилами!.. Бойцы потом годами и долгими зимними вечерами будут вспоминать минувшие дни, где вместе рубились и бились они! Праздник пройдёт на ура, с песнями и плясками… в честь меня. Делу – время; потехе – весь завтрашний день с утра до позднего вечера!
– Зрелищ!!! – взревела благодарная публика, не успев пока даже покормиться.
На голодный желудок взревела.
Император заставил себя улыбнуться, дивясь простому здравомыслию и живой оригинальности простых неграмотных горожан.
– Это ещё не всё! – перекрикивая толпу, внезапно возопил штатный знаток-наушник, с перекошенного лица которого так и не сползло недовольство. – Только я ведаю, что ещё хотел сказать наш величайший император! И я поделюсь с вами этим сокровенным и сакральным знанием! Император назначил меня любимой женой… эээ… император доверяет мне, как себе самому!
«То, что я желаю сказать, и произносить имею право лишь я сам! Только своими устами и языком! Даже если пересказанные мной знания будут чужими!» – недовольно поморщился владыка Рима, мысленно решив судьбу наушника, вернее, уже уготовав ему незавидную участь. И ещё точнее, оставлял его в живых до поры до времени, намереваясь истребить при более верной оказии.
- Три дня из жизни Филиппа Араба, императора Рима. День первый. Настоящее
- Три дня из жизни Филиппа Араба, императора Рима. Продолжение дня первого. Прошлое
- Три дня из жизни Филиппа Араба, императора Рима. День второй. Опять настоящее
- Три дня из жизни Филиппа Араба, императора Рима. День третий. Будущее