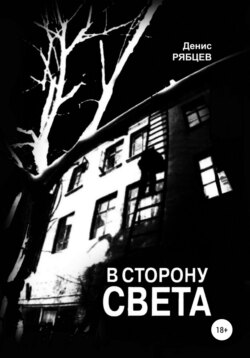Эта книга, как на Руси уже повелось с талантливыми трудами, издавалась долго и тяжко. Но не спеши, читатель, жалеть автора. Он не нуждается в сочувствии, ибо Бог одарил его щедро: он отлично владеет не только пером, но и кистью. И в его новеллах вы сразу уловите рассказчика, и поэтику сюжета, и живописность образов.
Денис Рябцев – журналист, поэт, художник – никогда не искал и не ищет легких путей. Он всегда принципиален (что в наше время ему часто вредит), а потому, вероятно, выбрал в литературе самый сложный жанр – новеллу. У великого И.В. Гете есть специальное произведение, озаглавленное «Новелла», в котором он, по собственному признанию, хотел представить новеллу как «неслыханное происшествие» в отличие от рассказа. В русской литературе в этом жанре виртуозно «работали» А.П. Чехов и И.А. Бунин, К. Паустовский и В. Лидин. Соревноваться с такими мэтрами уже требует мужества и таланта.
Денис Рябцев, как классики, берет темы из повседневной жизни и старается в, казалось бы, случайной сценке показать потаенный смысл извечных библейских проблем. Не случайно на титульном листе книги указано: «новеллы, рассказы, притчи». Я бы здесь выделил «День возмездия настал», где, на мой лично взгляд, Денис Рябцев наиболее полно выразил свое видение мира.
Денис Рябцев никому не подражает. Не старается “угодить моде”. Пишет о том, что хорошо знает. Иногда излишне лаконичен, излишне, быть может, доверяет вкусу читателя.
Мне кажется, что автор удачно продвигается к новелле-притче. Кстати, притча в последние времена переживает новое возрождение в рассказах Ч. Айтматова, Ф. Кафки, пьесах Ж. Ануя, романах К. Абэ своеобразно обнажаются жанровые особенности притчи. По-своему идет к философскому осмыслению русского сегодняшнего бытия в этом русле и Денис Рябцев.
Как художник, он пишет то, что видит, чем взволнован. Он правдив, иногда правдив до жестокости. Вспоминаются рассуждения Г. Флобера: «Художник, по моему мнению, есть чудище, нечто неестественное, и все несчастия, которые провидение валит на него, проистекают от упрямства, с которым он отрицает эту аксиому – он страдает от этого сам и причиняет страдания другим». Ему вторит Т. Готье, когда в заметке о великом Бодлере замечает: «Какому существованию печальному, не говоря уже о денежных затруднениях, предает себя тот, кто вступает в скорбный путь, именуемый… литературой. С этого дня он может считать себя вычеркнутым из числа людей; больше он не живет; он зритель. Всякое чувствование становится поводом к анализу…»
Возьмем из сказанного классиками одно: становится писателем тот, кто сам умеет глубь чувствовать, кто пишет, как говорится, кровью. Тогда его волнения через мертвые символы букв могут передаться читателю. Не боюсь перехвалить Дениса Рябцева, если скажу, что в его новеллах найдена душевная связь автора с читателем, а это значит, что они выписаны профессионально. Сегодня, в очередную «перестройку», мы вновь и вновь ищем новых путей и новых вождей, а, как всегда в смутное время, попутно создается вневластная, «вакуумная» атмосфера, когда разводятся проходимцы, мошенники, рвачи, коррупционеры, вся номенклатурная рать. Наряду с фальшивыми ваучерами и долларами плодится и окололитературная макулатура. Добыл денег – издавай что хочешь! Из-за падающего уровня культуры редко кто отличит «золото» от настоящего, купит не детективное чтиво, а умную книгу. На этом, будем надеяться – временном, фоне духовного упадка такие книги, как данная – «В сторону света» – производит отрадное впечатление. Ибо ее чтение и ведет нас от мрака к свету разума. Трудной своей дорогой идет к философскому осмыслению российского сегодняшнего бытия Денис Рябцев. Истинная литература, я убежден, обязана чувства добрые пробуждать, удивляя и восхищая. Новеллы Дениса Рябцева отвечают этим высоким канонам. Пожелаем же ему удачи и трудолюбия, а также принципиальной стойкости в капризном мире Великого Слова.
Лев Бураков,
председатель Союза литераторов Оренбуржья.
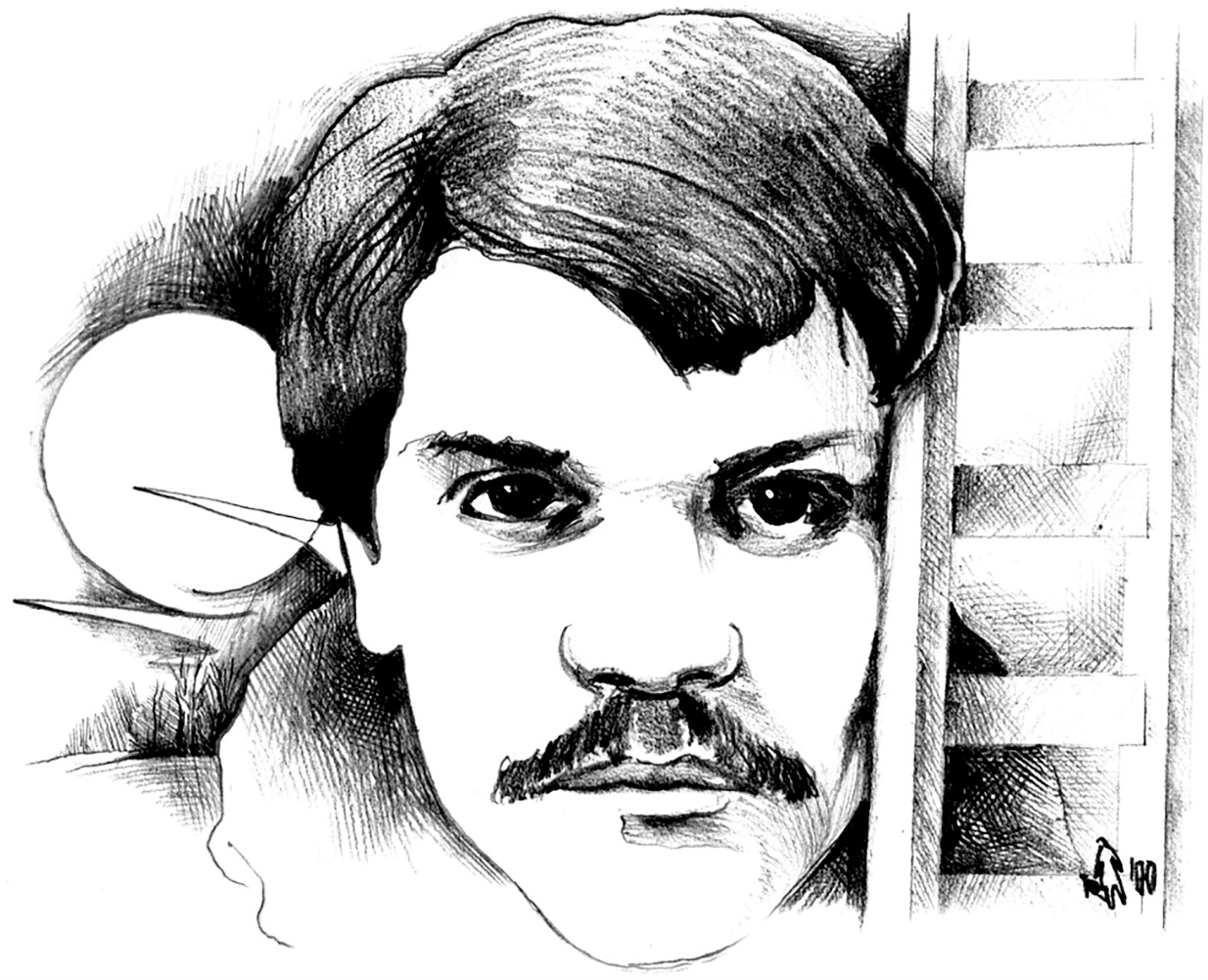
Я вернусь…
Электронное табло часов показывает полночь. Плащ, изрядно вымокший, прилипает к пустому желудку. Дорога к дому, тебя там ждут: "Мам! Я хочу есть и спать". Тарелка горячего супа, в которой отражается люстра. Веки отяжелели.
Сон поможет мне встать завтра на ноги и уйти. Уйти в день: "Моя дорога ведет к Солнцу!" Я путник…
Мама, корвалол стал твоим повседневным блюдом. Твой сын идет к свету, прости, если сможешь. Он забыл, когда последний раз помогал тебе. Приходя домой, разувался в зале, чтобы не шлепать по коридору босиком. Он не помнит, когда последний раз заглядывал в учебники. Зачем?
– Мама! Я ищу себя.
Слезы скоро проделают бороздки на твоих щеках. Дождь разбил сердце. Знай, сын ищет свой путь. Он вернется с запахом ночи и на все твои вопросы будет отвечать односложными предложениями. Не ругай его. Он создан Богом. Он не от мира сего. Он ищет себя… Сон поставит его на ноги, чтобы завтра он продолжил путь. Сын живет так, а твоя участь…
Я врал тебе. Помнишь, сказал, что в кино задержался? Нет! Я лгал. А синяк под глазом – это не комары покусали. Если бы ты знала все… Мама! Ты всегда думаешь о сыне лучше, чем он есть на самом деле. Я… чадо.
Вернусь сегодня позже обычного. Приготовься…
В моей лестнице не хватает всего лишь ступеньки, чтобы доползти до Солнца, но я добьюсь своего.
Не плачь. Я вернусь…
Май. 1993 год.
Хочется света, но нет его вовсе
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли…
Откровение Иоанна Богослова. (20; 7)
Темный грот. Я иду по влажным камням в надежде найти выход. Но сбитые в кровь ноги перестают слушаться, а скользкая плесень на булыжниках не способствует быстрому ходу. Неожиданно жалкий свет моего факела вырывает из серой стены какую-то надпись. Напрягаю уставшие глаза. Полустертые буквы сливаются в слово "понедельник".
Вижу, юноша в костюме за тысячу баксов, с ценником вместо медали тащит за волосы слепую старуху. Впрочем, та тоже не промах. Плюется с чувством в разные стороны, надеясь попасть на столь аккуратный костюмчик. Сотовое сердце юнца не терпит обиды. Он не хочет залезть в автобус последним.
Вижу свой дом. У калитки злой пес по кличке Пеня подавился моим пустым портмоне и ищет услады для бурно текущей из пасти слюны.
За поворотом вторник. Факел изрядно потрепан, но продолжает коптить, освещая дорогу. Выхода по-прежнему нет из темного грота, и не видно даже намека на оный.
Девочка лет восьми тычет палкой в раздавленный белым "Пежо" труп несчастной синицы. Смех разносит по улице ее маленький ротик.
Дальше среда, но силы уже на исходе. Вижу на площади шоу и сотни различных плакатов.
Здесь же от голода умер старый Учитель и оказался он втоптанным в белые плиты. С ним и погибла великая тайна науки. Но никто не заметил, все ждали шамана и бубен. Ритм – это жизнь, и неважно, откуда он льется.
Вот и четверг, по-прежнему черные стены вокруг. Хочется Света, но нет его вовсе. Мир исчерпал батарею на этот момент. Хочется быть оптимистом в свои небольшие года, но кажется это самым наивным и сложным.
Где же ты, птица, что в сердце вонзаешь надежду? Может, тебя подкупили те кони, что держатся стаей? Их не прельщает убогость и серость темницы. Им безразлично, что место их в стойле. Все повылазили в хаосе этом из дырок. Это хозяева мрака, их тени повсюду. Вот они шествуют важно к священному месту. Путь их отмечен смердящею лентой лепешек. Боязно встретиться с сим табуном на темной дороге. Меры их коротки, зубы остры, а копыта вмиг превращаются в когти при встрече с добычей.
В пятницу понял, что выход всегда существует. Вера людская спасала веками народы. Чувствую, гаснет мой факел и мрак наступает с львиным оскалом. Ноги работать совсем отказались, ползу. Запах кадила доносится с каждой секундой яснее. Вижу священника с очень недоброй улыбкой.
– Что тебе, сын? – вопрошает он, нагибаясь.
– Веры, отец! Мой факел погас, я погибну!
– Веры? Прости, я с детства был атеистом.
Р.S. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно делам своим»…
Боль
Опять дождик. Старая плотинка, не успев просохнуть после вчерашнего ливня, впитывает новые струи. Чертова слякоть! Хлюпанье под ногами раздражает слух. Вот обидно, вчера только прикрепил новые погоны на рубаху. Теперь их покорежит от влаги и они потеряют весь свой крутой вид.
– Пароль? – доносится из-за двери.
– Замена, сколько ног тебе выдернуть? – почти кричит в закрытую дверь Фикса.
Скрипя, металлическая калитка открывается.
– Как дела, замена?.. в целом?..– переступив порог спрашивает Фикса, умудряясь правой рукой сжимать трудовую Володину руку, а левой стряхивать воду с промокшей фуражки.
– Служу, – отвечает молодой и смеется.
– Замена, я очень злой и голодный, – грубо заявляет дембель.
– Сейчас разогрею фламинго под ананасовым пюре…
– А я еще промок! – почти кричит Фикса, приблизив свое лицо к лицу Вовы.
Последний, растерявшись, переминается с ноги на ногу. Старый мгновение наслаждается сконфуженностью молодого и, по-доброму рассмеявшись, добавляет:
– Служи…
***
Сержант, распевая что-то про "губ твоих холод", вваливается в бойлерную.
– Что, Фикса, скоро задница станет квадратной?
Сергей отрывает глаза от книжки.
– Толстый, ты меня достал.
Андрей хватает книгу и отгибает титульную страницу.
– "За-писки сле-дователя", – по слогам читает он. – Интересная?
– Дерьмо! – отвечает Фикса.
– А Хемингуэя прочел?
– Угу.
– Тоже дерьмо?
– Конечно, только более высокохудожественное, – дембель опять опускает глаза в книгу.
– Я хотел поговорить с тобой. Ты замену свою совсем достал. Фикса.
– Злее будут.
– Дурак ты. Я вот сержант, а такого себе не позволяю. Ты заставлял Вовку выучить наизусть "Старика и море"?
– И что?.. Это же классика, баран. Нобелевская премия. Весь мир читает. Кому будет хуже, если замена этот текст будет наизусть знать?
– Уставы пусть лучше учит. Не забивай ему голову ерундой. Ты только лишнюю боль человеку причиняешь.
Фикса вскочил на ноги и заорал сержанту в лицо:
– Да что ты знаешь о боли? Ты же дальше своего носа не видишь. Тебя только тряпки интересуют, во что бы упрятать свой жирный мамон, когда на ДМБ пойдешь. О чем ты вообще можешь знать?
***
Андрею стало плохо после ужина. Его лицо и без того вечно красное налилось каким-то багровым соком. Он свалился в форме на свою койку и застонал. Через час с трудом перебрался на табурет перед телевизором. Казарма молча смотрела на его муки, не в силах облегчить страдания
– Надо в госпиталь, – компетентно определил Фикса, – замена, кто свободен? Бегом в автопарк за машиной. Или сам дойдешь Андрей?
– Я сам не дойду, – процедил сержант, – Очень живот болит. Вот… А ты, жук упрямый, говорил, мол: что я не знаю боли
– Это не боль, это неудобная тяжесть в брюхе. Не дрейфь, сейчас подгоним машину, отвезем, кишки тебе прочистят и будешь бегать как новенький. Только не подыхай раньше времени. И хватит тоску нагонять ладно?
***
Сержанта взяли под руки и помогли спуститься к подъезду, где уже стоял, отплевывая едкий дым. старым комдивский "уазик". На казарму снизошел сон, но Фикса не мог найти себе места. Нет, это не было переживание за Андрея. Это была тоска по неосязаемому, нематериальному. Приступ, согнувший сержанта, вдруг неожиданно поразил старого, – а жизнь-то хрупкая штука.
Фикса достал из тумбочки лист бумаги и стержень. Долго смотрел на белый прямоугольник, затем начал чертить фигурки. Неожиданно на листе появилась строчка, написанная неряшливыми, острыми буковками: "Сколько буду я пахнуть ваксой… ". Далее прилепилась вторая строка, еще более безобразная каллиграфически, третья, пятая…
Сколько буду я пахнуть ваксой,
День живуч и похож на икоту,
За окном неотмытой кляксой
Продолженье все той же субботы.
Черным рядом стоят столбы,
И безглазые щерят плафоны,
Я иду по проспекту войны,
А на плечи давят погоны…
Светало. Фикса подошел к окну, открыл старую скрипучую раму. Свежий ветер приятно дунул в лицо и позвал за собой.
Фикса не спеша, будто во сне, взгромоздился на подоконник и, оттолкнувшись ногами, вылетел вон. Он мог сразу полететь домой, но неожиданно решил не спешить. Сильный ветер сдувал дембеля в сторону леса, но солдат одним лишь усилием воли разворачивал тело в сторону стихии. Неожиданно ветер умолк и Фикса почувствовал себя свободным. Он кружил над казармой, подобно мотыльку, стремящемуся загасить пламя электрической лампы. В глазах срочника горел металл, кожа плавно обрастала огромными шипами.
– Я птица! – орал безумец, и снова поднимался ветер. Его порыв срывал шифер с убогого строения. Здание медленно разваливалось по кирпичику.
Внезапно из хаоса пыли и почти материального рева выпорхнул сержант, его маленькие крылышки еле тянули тучное тело.
– Вот видишь, чем меньше боль, тем меньше крылья! – ревел Фикса.
– Ну зачем ты это устроил? Я так хотел выспаться.
– Сейчас не время! – голос старого утраивали молнии, он был великолепен в своей одержимости.
Сержант опять нырнул в хаос, но через минуту появился с чемоданом.
– Я. Сережа, лечу домой. А ты плохо кончишь, ты всегда был идиотом.
Фикса совсем выбился из сил. Вены на шее вздулись.
Подул Северный ветер, и солдат понял, что нужно решаться.
Турбодвигатель сердца взрывается от усилия воли – вперед! В небе завертелась огромная бетономешалка. Фикса в битве со стихиен теряет уши и голову, ноги и туловище. Сергея нет, осталась лишь арматура из крыльев, глотки и сердца. Он парит и видит, как тщетно пытается оторваться от земли его пурпурный от страха командир.
– А! – кричит глотка с крыльями. – Это ты говорил про боль? Я все это устроил для тебя! Наслаждайся!
Фикса уже не видит, ибо у него нет глаз, но он чувствует…
Июнь 1996 – сентябрь 2000

Плохой солдат
Капитан резво соскочил со своего стула и бросился к телефону.
– Алло! Кто-кто? А! У нас тут солдатика нужно посадить на гауптвахту… Что? Записку об аресте подготовим позже. А пока пришлите патруль, пусть его отведут в задержку. Немедленно, слышите?
***
Патруль в лице молодого прапорщика пожаловал минут через десять.
– Где у вас тут провинившийся? Кого сажать? Капитан пальцем указал на меня:
– Вот этого сажайте,
Я встал, не торопясь накинул шинель и небрежно стал нахлобучивать шапку, затем окинул все таким взглядом, будто шел не на "губу", а на виселицу.
Прапорщик терпеливо ждал, очевидно зная, что в этот момент лучше не лезть под руку.
***
Начальник патруля с интересом изучал свои записи. Затем поднял глаза от талмуда и, обращаясь к прапорщику, весело заметил:
– Ага! План по задержанию выполнили! Поработали на славу!
Прапорщик тоже улыбнулся, а затем доложил, что привел меня. Майор первый раз кинул взгляд в мою сторону.
– Провинился, да?
– Так точно, товарищ майор, провинился. А что натворил? Плохой я солдат, товарищ майор. Не соответствую военной доктрине РФ.
– О-о. – присвистнул майор, – Так что же в журнале задержек записать, за что тебя посадили?
– Да что хотите, товарищ майор. Можете записать, что голова у меня не из дерева, запишите, что думаю чаще, чем раз в сутки…
– Э-э, солдат! Запишу, что не выполнял требования Устава.
– Вот-вот, я всегда знал, что майоры – башковитый народ.
– Ладно, не умничай. Снимай ремень, шапку, выкладывай все содержимое карманов. Живее, у меня есть другие дела.
Я быстро стянул ремень с шинели, брючной – из штанов, снял галстук, шапку, часы, вытащил военный билет. Наверное, только я мог в этой дивизии прийти в задержку в парадной форме. Прапорщик учтиво отпер дверь клетки.
– Вот здесь, солдат, ты будешь сидеть!
– Спасибо, товарищ прапорщик! А я-то, дубина, думаю, зачем же вы открыли мне эту каморку.
Прапор взял меня за плечо и подтолкнул. Да я и сам понял, что здесь команды лучше выполнять молча.
***
В камере не было пусто. На единственной скамейке восседал солдатик, усиленно изображая, будто меня не замечает. Он смотрел в пустоту и его большое, вскипевшее мельчайшими пупырышками лицо сохраняло совершенно единообразное выражение.
Я знал, что первый момент знакомства всегда определяет дальнейшее отношение и поэтому решил показать, что я не молодой воин, а как раз наоборот – очень бурый и сильный. Я не торопясь, расстегивая на ходу рубашку, сделал шаг вперед и со всего размаха плюхнулся на скамейку. Мой сосед продолжал сидеть подобно каменному изваянию. Я стал нагло в упор рассматривать его. Солдатик моргнул несколько раз глазками. Это весьма определенно дало понять мне, что он нервничает и тогда я начал:
– Да не бойся, братец, не буду я тебя бить. Расслабься! – сосед удивленно измерил меня глазами. Я резко выпрямился и протянул ему руку:
– Дима меня зовут! Солдат повернулся ко мне и еще раз хлопнув глазами, произнес:
– Коля.
Я как можно увереннее сжал его руку и успел заметить наколку на его пальцах – "Таня".
– Невеста? – спросил я, указывая на наколку.
– Да так… – стушевался Коля.
– Давно служишь? – продолжил я свой расспрос.
– Я дембель. – ответил Николай и с гордостью, испытующе посмотрел на меня. Я понял, что если промолчу, то положение мое полетит к черту. А врать о том, что я тоже дембель не хотелось. И тогда я извернулся совсем по-другому:
– Ой, Колян! Среди вашего призыва столько уродов. Я еще никогда не видел таких дембелей.
Солдатик опять стушевался, так как моя реплика относилась в равной мере и к нему.
– Да, ладно… – произнес он через некоторое время. Я стал рассматривать камеру. Собственно, сидел в ней уже второй раз. В августе прошлого года залетал сюда за нечищеные сапоги. Тогда меня вытащили через два часа после задержания. Теперь, чувствуется, так легко не отделаться.
Камера маленькая, по периметру два на два метра, метра три в высоту, одно маленькое окошечко у потолка зарешечено стальными прутьями, над окном – круглосуточно горящий фонарь. Стены покрыты цементом, который образовал такой неприятный пещерный рельеф, что становилось жутковато. Цементные наплывы окрашены известкой, поэтому солдаты после задержки долго отмывают от формы белые пятна.
Дембель встал со скамейки и подошел к двери.
– Семь часов пятнадцать минут, – произнес он. – Вон, видишь в щелку видно настенные часы.
Я развалился на скамейке, подложив под голову аккуратно свернутый китель.
– Коля, спокойной ночи! Делать нечего, буду спать.
– Давай, Дима, покурим. – предложил дембель, так как он уже сутки сидел и спать ему не хотелось.
– Я бросил курить.
– Черт! А у меня и спичек нет.
Я развернул китель и стал рыться в карманах. За подкладкой завалялось несколько спичинок.
– Ладно, Коля, выручу тебя. Держи.
Дембель достал из внутреннего кармашка мятую папироску, кусочек чиркаша и стал громко кашлять, при этом зажигая спичку, так, чтобы из-за кашля ее не было слышно. Дело в том, что в задержке курить строго запрещено, а сутки сидеть без перекуров просто невыносимо. Поэтому солдатики, зная, что попадут сюда, прячут сигареты в одежде, разрывают спичечную коробку и отдельно складывают в кармашки формы спички и чиркаш. При таком хранении спички обнаружить трудно.
В камере воцарилось молчание. Коля сидел на корточках, нервно вытягивал дым из папиросы и очень осторожно выпускал его через нос, при этом часто оборачиваясь, он заглядывал в щель между косяком и металлической дверью. Дембель волновался, как бы начальник патруля не учуял, что в камере кто-то закурил. Я пытался уснуть, то и дело поправляя свернутый китель под головой, разглядывал стены, пробовал вспомнить что-нибудь приятное, но тщетно – сон не приходил. Дембель докурил папироску до половины, оторвал обслюнявленный кончик и протянул ее мне.
– Покури! Я по твоим глазам вижу, что хочешь.
Я сел и взял протянутый мне чинарик. Сделал это скорее подсознательно и спохватился только тогда, когда в мою изголодавшуюся по табачному дыму глотку влетело несколько затяжек. Тут же по телу моему побежали мурашки, в голове помутнело, и меня повело вбок. Тем не менее я встал, шатаясь приблизился к стенке, раздавил папиросу ногой, и аккуратно свернув ее пополам, засунул в дырочку между наплывами цемента.
Время остановилось. Безумная клетка была придумана очень мудро: даже поспать в ней нельзя было по-человечески. Меня неожиданно начали доставать стены, казалось, они с каждой минутой сдвигаются, уменьшая размеры камеры. В голову лезли самые неприятные мысли. Зачем все это? Дело даже не в армии, ее я пройду рано или поздно. Как же страшен этот вопрос – "А зачем? Что толку?'' Вон сколько тех, кто ничего не добился ни своим трудом, ни талантом. Утром подобными весь транспорт забит, они едут завинчивать гаечки, вытачивать болваночки, чертить, писать. На головах у них пушистые кепочки и лица у них в морщинках. А в каждой морщинке по трупу нереализованной надежды. И я буду таким же?
***
Начальник патруля встал из-за своей стойки.
– Ну что, "задержка", кушать будем? Сегодня ели вообще или нет? Дембель прилип носом к двери:
– Никак нет, товарищ майор, не ели. А кушать очень хочется.
Мне неожиданно стало противно от того, что вот сейчас меня поведут без ремня на шинели через весь городок в столовую.
– Товарищ майор! – заявил я. – Если еду не доставят в мои апартаменты, я объявлю голодовку.
– Это кто там такой умный? Голодовку захотел? Да хоть сдохни там без еды – мне плевать, веришь?
Коля резко повернулся ко мне и грозно зашипел:
– Молчи, дурак! Ведь сейчас правда на пайку не поведут.
Я плюхнулся на скамейку и опять ушел в свои дурацкие размышлизмы.
Из-за двери доносился голос прапорщика, который рассказывал очень забавную историю: "А я, мужики, все Ару вспоминаю с нашей роты. Тупой был боец. До безобразия. Но здоровый, гад – природа не обидела. Я как-то дежурным по части заступил. Вызываю его к себе и топор прошу в автопарк отнести. Еще его подгоняю: быстрей беги, топорик во как нужен. Он подорвался, схватил топор со щита и бегом в автопарк. А я со спокойной рожей звоню туда дежурному и говорю, что у Ары крыша поехала. Сижу и серьезно рассказываю, что, мол, в столовой стекло пожарным топором разбил, газику командирскому капот в двух местах продырявил, а сейчас в автопарк побежал с топором. Дежурным по парку, мужики, Семеныч стоял, ну, этот, с батальона старший прапор. Ты его должен помнить, Вовка. Он "Жигули" в прошлом году из оврага вытащил в одиночку. Ну и вот… Семеныч мне-то поверил. Приготовил двухметровую дубину и ждет Ару, а тот, дурачок, действительно с топором бежит. Семеныч не долго думая, выскакивает со своей палкой и… хряк! У Ары, бедолаги, искры из всех щелей посыпались. Шишка на башке не проходила целый месяц, пилотка сваливалась.
Дружный офицерский смех потряс караулку.
Дембель подглядывал за офицерами, затем резко обернулся и очень зло изрек:
– Ну ты посмотри, какая сука! Солдатика разыграл. Шакалы, поубивал бы их!
Мне тоже стало неприятно. Захотелось как-то отыграться на майоре и прапорщиках. Но ничего подходящего не нашлось.
Я встал и постучал в дверь.
– Товарищ майор, я в туалет хочу, очень-очень.
– Ну вот, своди вас на ужин, так покоя не будет. Одни проблемы с вами.
Через некоторое время дверной засов все-таки открыли.
– Кому?
Я просунулся в приоткрытую дверь и дыхнул свежего воздуха. Надо же, как это оказывается приятно – дышать.
Майор кивнул прапорщику весельчаку, чтобы тот проводил меня. Вот это честь мне оказали – целого прапора ради моей нужды выделили!
– Товарищ прапорщик, вы представляете, бумагу в этом месяце не приобрел. Прямо напасть какая-то! Вы не выручите меня листочком? Пожалуйста, товарищ прапорщик!
Конвоир потупил взор, очевидно соображая, стоит ли ради меня стараться. Мой искренне просящий вид, чувствуется, его убедил, что стоит. Прапорщик полез в карман и вытащил маленький блокнотик:
– Все для вас делаем…
Затем "спонсор" щедро оторвал от блокнота листик формата сторублевой купюры и небрежно протянул мне. Я принял подачку и слащаво, пытаясь скрыть иронию, произнес: "Спасибо, товарищ прапорщик, выручили! Очень вам признателен. Правда, большое спасибо!"
Затем я резко обернулся и скрылся за туалетной дверью. Здесь висело старое облезлое зеркало, и я от нечего делать стал разглядывать свое лицо и корчить рожи. Тут я услышал удаляющиеся шаги. Не выдержал конвоир, ушел. Как же я теперь один смогу до камеры дойти? Стараюсь не скрипеть, открываю дверь и пробираюсь к маленькому окошку разводящего, стучу. Дверку открывает мой старый дружок Нефед.
– Привет! – обрадовался он. – А ты что тут делаешь?
– Тише ты! – цыкнул я. – Дай нам в задержку сигарет и спичек, а то я там с ума сойду.
Нефедов порылся в карманах и выудил початую пачку "Бонда" и зажигалку.
– Спасибо, Нефед! – сказал я и прикрыл окошко, затем смачно смяв листик, который дал прапорщик, выкинул его в урну и побрел обратно.
***
Утром я подорвался очень рано. Стрелка настенных часов едва доползла до пяти, и я долго наблюдал через трещину в двери, как секунда за секундой приближается мой ДМБ.
***
Ближе к восьми утра дверь нашей камеры отварилась, на пороге показался майор.
– Так, мужики, доброволец нужен.
Дембель вскочил с полной готовностью на лице. Он, наверное, подумал, что его на пироги приглашают.
Через минуту я из своей камеры услышал, как стучит металлическое ведро. Ну, Коля, перед дембелем решил в комендатуре полы помыть. В армии работа дураков любит. Впрочем, зачем я так? Он ведь не меньше меня ЧЕЛОВЕК.
Через час после возвращения Коли я опять провернул трюк с туалетом. Дверку в окошке, соединяющей задержку и гауптвахту открыл Нефед.
– Привет, – Я вытащил и протянул ему зажигалку.
– Что, тебе больше не нужна?
– Да я надеюсь, что нет. Судя по всему, меня в части простили. А то бы давно уже к тебе наверх подняли. Скоро, наверное, и из задержки отпустят. Спасибо тебе, Нефед! – я протянул свою руку в окошко.
– За что спасибо?
– За то, – ответил я, – что не пожалел для меня.
– Да брось… Что за чепуху ты несешь?
– Я прав, нужно уметь ценить доброе…
***
Весеннее светило плавило бетонные плиты плаца. По ним гулко топая, шествовал рядовой, а над его головой, весело переливаясь на солнце цветом хаки, кружили в весеннем вальсе военные вертолеты.