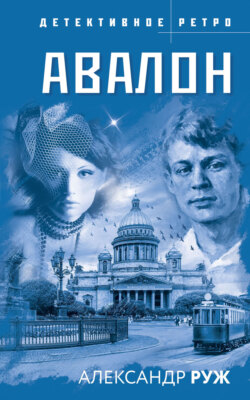«Экий реприманд!» – выразился бы незабвенный шеф Александр Васильевич.
В каморке было темно – хоть глаз выколи. Но для Вадима наличие или отсутствие света не играло никакой роли: он прекрасно ориентировался в любых оптических условиях. Сейчас, правда, эта способность не могла ему помочь абсолютно ничем. Его заперли, как презренного грызуна в мышеловке.
Он непечатно выругался, встал, потер ушибленную коленку и толкнулся в дверь. Закрыта намертво. И надо же было так глупо влипнуть! Тип, которого он преследовал, юркнул в соседнюю подсобку, а потом вышел из нее и оставил своего противника в дураках.
Вадим саданул в дверь плечом – она не поддалась. Разбежаться бы, но загроможденное пространство не позволяло. Он поискал в подсобке топор или что-нибудь наподобие, однако, кроме моюще-чистящих приспособлений, ничего не нашел, а они для взлома явно не годились. Не придумав другого выхода, Вадим загремел кулаками в дверь.
– Откройте! Есть кто-нибудь?
В создавшейся ситуации он будет выглядеть стопроцентным болваном, но это лучше, чем сидеть взаперти.
– На помощь!
Шаги. Крадущиеся, почти невесомые. Вадим прекратил стучать. Звук этих шагов ему не понравился. Нельзя исключать возможности, что злодей передумал убегать и вернулся, чтобы прикончить балбеса, которого он так сноровисто упрятал в западню.
Вадим взял первую попавшуюся швабру, но она показалась ему чересчур легковесной. Отшвырнул, вооружился полотером. Эта штуковина поувесистее, можно огреть так, что черепушка разлетится, как яичная скорлупа.
Вжикнула щеколда. Вадим отступил на шаг, поднял над головой длинную рукоять с тяжелым набалдашником.
Дверь открылась – в проеме стояла Эмили. Вадим пришел в замешательство, устыдился своей воинственной позы и поскорее уронил полотер за спину. Тот звонко брякнулся о ведра, и они раскатились по подсобке.
Эмили поглядела на запыленную одежду Вадима, задержала взгляд на мокрых и грязных штанах, скакнула глазами выше – туда, где на лбу запечатлелась внушительная ссадина.
– Ты крейзи? – Она вымолвила это с оттенком удивления, но без особых эмоций. – Как ты сюда попал?
Он не стал юлить – любая выдумка выставила бы его в еще более невыгодном свете. Рассказал про липучую мелодийку, про человека в коридоре, про фатальное невезение. Думал, что Эмили обрушит на него весь свой англичанский сарказм, но на ее губах-ниточках не отразилось даже подобия усмешки.
– Мьюзик? – переспросила она и неожиданно чистым голоском напела, ювелирно попадая в ноты: – «Ай фаунд май лав ин Авалон, бисайд зе бэй. Ай лэфт май лав ин Авалон…» Не это?
– Оно! – поразился Вадим. – Как ты угадала?
– Я тоже слышала. Здесь, в гостинице. Где-то внизу, в холле.
– Значит, ты и того субчика видела?
– Нет. Я же не знала, что это так важно.
– А что за песенка? Откуда?
– Кажется, из бродвейского мюзикла. Мне один знакомый пластинку давал послушать… – Эмили сама себя оборвала и круто сменила тему. – Ты долго языком чесать собираешься? Тебе бы отсюда выйти поскорее.
Вадим пробкой вылетел из подсобки и закрыл за собой дверь. Эмили продолжала критически рассматривать его костюм.
– Бэд… В таком виде на люди нельзя.
– А что?
– Вон зеркало, глянь. Твои шузы нуждаются в клининге, все остальное тоже. Про фейс я уже молчу…
Одежду и обувь Вадим отдал прачке, пострадавшее надбровье затонировал мучной пудрой. Инцидент можно было считать исчерпанным, но разве такое забудешь? Сто против одного, что исчезновение есенинского портсигара, бродвейская шансонетка и этот гусь в коридоре – звенья неразрывной цепи. Схватишься за нее – и вытянешь отгадку. Ту самую, ради которой прибыли в Ленинград гонцы Менжинского.
Закавыка лишь в том, что цепь ускользнула, словно шустрая змея в нору. Ни одного звена нет на виду – за что хвататься? И все же надежда не покидала Вадима. Ловкач, заперший его в подсобке, имеет доступ в ведомственную гостиницу ОГПУ. Швейцар Евдокимов, стоявший у входа, как солдат на часах, божился, что без пропуска в здание и комар не пролетит. А если б пролетел, то на нижнем этаже дежурили двое в штатском, изображали из себя технический персонал, но фактически охраняли отель от вторжений. На ночь «Англетер» и вовсе запирался. Вадим доподлинно установил: в тот момент, когда приключился камуфлет с ловушкой, парадная дверь была закрыта на два замка и в придачу к ним на пудовый засов. Окна всюду целы, по зимней поре задраены и проложены паклей, открываются только форточки, но в них не пролезть и самому дистрофичному беспризорнику.
Из всего этого явствовало, что нехорошую хохму с московским гостем учинил кто-то из тех, кто ночевал в гостинице. Вадим прошерстил списки: двадцать восемь съемщиков, среди которых большей частью представители иностранных держав, плюс девятнадцать человек обслуги. Это не считая Назарова и столичной троицы. Вычленить из пяти десятков подозреваемых нужного гаврика – шарада непростая. Но посильная. Думая о пяти десятках, Вадим не сбрасывал со счета и своих провожатых. С того же Петрушки станется устроить какой-нибудь вахлацкий финт. Просто так, для смеха. А может, и еще для чего… Да и Эмили не вызывает доверия. Почему первой на выручку прибежала именно она? Ее номер от подсобки не очень близко.
Наметив основное направление поисков, Вадим не отказался и от побочных линий. Переговорил с ленинградскими знакомцами Есенина – Эрлихом и Устиновым, которые видели поэта в последние часы жизни. Нового они не сообщили. Рассказали, что, приехав из Москвы 24 декабря, Есенин вел себя шумно и порывисто, все его четыре предсмертных дня сопровождались перепадами настроения: он то делился планами относительно коренного поворота в жизни, обещал бросить пить и собирался уехать в Европу, то впадал в беспросветный сплин, грустил и пророчествовал о скорой погибели. Но такие перепады случались с ним и раньше, причем, по словам Устинова, они обострились летом, после возвращения Есенина из Закавказья.
Вадим направился в Обуховскую больницу, в морге которой вскрывали тело повешенного. Обошелся бы без сопровождения, но куда там… Увязался докучный Горбоклюв, всю дорогу выедал мозги, рассказывая несмешные побасенки, которых его память хранила, к сожалению, несметное множество.
– Идет, значица, война. Приходят в город супостаты, всех подряд убивают, насилуют… Заходят, значица, в один дом, а там юница… вся такая краля, натуральный изюм в шоколаде. Она им, значица, бух в ноги и блажит: делайте со мной что хотите, но старушку-мать не трогайте. И тут, значица, из спаленки выкатывается карга дряхлее дряхлого, да как завопит: это как, то есть, не трогайте? Война так война! Хо-хо-хо!
Горбоклюв трещал без умолку и ржал, как мерин, над своими пошлыми байками, совсем не замечая, что Вадим морщится хуже, чем от зубной боли.
Обуховская больница находилась на набережной Фонтанки и считалась одним из лучших лечебных учреждений Северной Пальмиры. Вошедший в историю доктор Пирогов распиливал в ней замороженные внутренности бесхозных бродяг, составляя анатомический атлас, а три года назад там без малого месяц выставляли на всеобщее обозрение убитого налетчика Леньку Пантелеева, дабы убедить горожан в его безоговорочной кончине.
Шли по проспекту Майорова. Грянуло потепление, с крыш срывались свинцовые капли талой воды, под ногами чавкало кисельное месиво. Вадим провел в Питере детство и юность, любил этот город, но зимы здесь переносились тяжело. Ветры, дувшие с Финского залива, наполняли воздух сыростью, от нее першило в горле, сбивалось дыхание, а лицо дубело, как в сибирскую стужу.
– Надо было на колесах. Непогодь! – посетовал Горбоклюв, завязывая под подбородком тесемки мужицкого треуха.
Но Вадиму после сидения в кутузке хотелось простора, и он пользовался любой возможностью, чтобы пройтись пешком. Народу попадалось немного. Четверг, будний день, все по конторам да по фабрикам.
Когда перешли по мосту через Мойку, ему показалось, что позади, среди редких фигур, окутанных волглым туманом, бредет какой-то человечек, которого сложно отнести как к праздношатающимся, так и к спешащим по трудовой надобности. Он двигался, пригнув голову и низко надвинув шапку-кубанку. Едва Вадим полуобернулся, человечек сбавил шаг и пропустил вперед дородную бабу, которая скрыла его из виду.
Возле Дома городских учреждений с его лепным декором, грифонами и готическими башенками Вадим подзадержался, прикинулся, будто поправляет сползшую с пятки галошу, и снова увидел кубанку, мелькнувшую за извозчичьей коляской, что сворачивала на улицу Третьего июля, сиречь Садовую.
Кто этот топтун, откуда нарисовался? Послан здешними особистами для прикрытия московских эмиссаров? Но к чему организовывать слежку, если достаточно приставить охрану? Разве что ленинградцы ведут какую-то свою игру, о которой неведомо даже всезнающему Менжинскому. Нельзя исключать, однако, что проявилась третья сила, скрытая от официальных органов, но имеющая отношение к Вадиму и – как знать! – к злосчастию в «Англетере».
Горбоклюв шпика не узрел и нес привычную околесицу. Вадим не стал его просвещать – пусть себе калякает, пустомеля. И как такого дурня приняли в политуправление?
Последний раз Вадим засек кубанку на подходе к Сенной площади. Она еще некоторое время выдергивалась из-за плеч прохожих, а потом затерялась среди бедняцких трущоб, возле которых копошились увальни в телогреях. Ленинградские власти постановили облагородить этот район, пользовавшийся при царизме дурной славой, и теперь активно сносили прилепившиеся к площади кабаки и притоны.
На берегу Фонтанки Вадим поправил вторую галошу, но филера уже не увидел. Тот либо прекратил наблюдение, либо понял, что его заприметили, и стал шпионить более искусно. Его наличие следовало держать в уме, но мозговать по этому поводу сейчас недосуг.
Наконец они дошагали до пункта назначения и окунулись в больничную атмосферу.
Судебного медэксперта Гловского они застали на рабочем посту – в мертвецкой. Он согласился побеседовать без отрыва от производства. Вспарывал полуразложившегося забулдыгу, вонь от которого не перебивал даже запах карболки. Перемежая фразы глубокомысленными «м-м-м», Гловский посвятил прибывших в детали вскрытия Есенина.
– Это было третьего дня, я все отлично помню… м-м-м… Общий фон покровов бледный, зрачки равномерно расширены, цвет нижних конечностей темно-фиолетовый…
– Александр Георгиевич, – вмешался Вадим, – акт, подписанный вами, я читал. Меня больше интересуют выводы. Он был сильно пьян, когда вешался?
Сухонький седоусый эксперт поиграл в воздухе ланцетом, которым взрезал, наверное, уже не одну сотню бездушных телесных оболочек, подтянул заляпанный бурым рукав халата и неуверенно промычал:
– М-м-м… в желудке найдены остатки пищи, от них слегка пахло вином. Предполагаю, что он употреблял спиртное часа за три-четыре до смерти, но не в таком количестве, чтобы ум зашел за разум. Хотя… м-м-м… я ведь не знаю его психологических характеристик. Это не моя область, обратитесь к другим специалистам.
Гловский оттянул рассеченную кожу на животе забулдыги, добрался ланцетом до осклизлого комка – печени – и стал кромсать его отточенным лезвием. Он работал артистично, его ухоженная дворянская рука с татуированным пернатым змеем, выглядывавшим из-под рукава, изгибалась, как баядерка в танцевальной пантомиме.
От вида распотрошенного мертвяка и витавших в покойницкой ароматов Горбоклюва затошнило. Вадим еле успел подхватить его под руки и вывести наружу, где горемыка опорожнился над больничным водостоком.
Вадим не прочь был взглянуть на бренную плоть поэта, с которым рок свел его так странно, но тело сразу после вскрытия увезли в Москву и сегодня, 31 декабря, предавали земле на Ваганьковском кладбище. Надо думать, народу соберется прорва. Все-таки кумир, властитель дум, без пяти минут классик…
Вернувшись в отель, Вадим не пошел сразу в номер, а пофланировал немного в нижнем вестибюле, прошел по этажам. Со стороны смотрелось так: слоняется лодырь, не знает, чем себя занять, изнывает от ничегонеделания. Знавшие о принадлежности гостя к ОГПУ дежурные поглядывали с затаенной завистью: везет же приезжему – груши околачивает, а мы тут без продыху…
Но Вадим не лентяйничал – он выискивал среди попадавшихся в гостинице людей того, по чьей милости был уловлен вчера, как муха в паучьи тенета. Своего недоброжелателя он мог признать только со спины, но скоро понял, что это гиблая затея. Сходных по телосложению попадалось немало, поди вычисли, кто из них тот самый. Одежда? На вчерашнем, помнится, болталась шинелишка, навевавшая ассоциации с гоголевским Акакием Акакиевичем, но таких и в Питере, и в отдельно взятом «Англетере» пруд пруди, через одного в них ходят, мода, устоявшаяся еще в эпоху военного коммунизма. Других примет нет, и тягучей мелодии из капиталистического мюзикла больше не слышно. Если враг не остолоп, то запрятал портсигар подальше и сам затаился. Нет, таким манером его не захомутаешь.
Удрученный, Вадим поплелся к себе. Войдя в номер, застал не только Горбоклюва. Управляющий Назаров приволок откуда-то кучерявую елочку, поставил ее в кадку с песком в центре комнаты и с помощью горничных украшал стеклянными шарами и цветастыми бумажными лентами.
В начале и середине двадцатых Новый год еще не был заклеймен как буржуазная утеха, в его праздновании власти не видели ничего предосудительного, сам Ильич при жизни ездил к детишкам на елку в Сокольники. Вот и Назаров подсуетился, чтобы задобрить московскую делегацию, которая, как ему казалось, проявляла недовольство. Из буфета были доставлены деликатесы: балык, запеченный судак, соленые грузди, а также две бутылки водки-рыковки. К казенным яствам он присовокупил сваренный супругой домашний студень.
Вадим воспринял праздничные приготовления с безразличием киника Диогена, для которого мир сузился до размеров бочки, и все происходящее за ее пределами его нисколько не занимало. Мысли вертелись вокруг одного и того же: что случилось в пятом номере «Англетера» в ночь с 27-го на 28-е? И каким образом это связано с августовским убийством в Чабанке и с октябрьской хирургической неудачей в Солдатенковской больнице Москвы? Назаров, Гловский, участковый надзиратель, товарищи из Ленинградского ОГПУ – все они были уверены, что комиссия из столицы интересуется только Есениным. Но Вадим держал в уме наказ Вячеслава Рудольфовича и пытался перебросить между тремя смертями логические мостки. А они, черт бы их побрал, не перебрасывались.
Часам к одиннадцати вечера пришла Эмили. Где она пропадала весь день, Вадим не знал. Как всегда чопорная, расфранченная, в затейливых кружавчиках, делавших ее похожей на провинциальную компаньонку зажиточной леди, она подсела к накрытому столику, брезгливо покосилась на студень с бляшками жира и облепленные репчатым луком грузди, вынула из сумочки пачку английских галет и стала их грызть. Вадим поймал на себе ее взгляд, не сомневаясь, что прочитает в нем издевку, но ее глаза с кобальтовым отливом оставались серьезными и приобрели некую томность, каковой в них раньше не замечалось. Вадим сделал вывод, что Эмили перед приходом на пиршество начиталась Байрона.
Горбоклюв, сам себя назначивший тамадой, беспрерывно травил махровую похабщину:
– Приходит, значица, еврей в лекпункт. Там табличка: «Гигиеническое обрезание». А чуть пониже приписано: «Партнер – пельмени „Загадка“». Хо-хо-хо!
– Заткнись, Косорыл, – лениво процедила Эмили. – Обеспечь нам сайленс.
С полчаса сидели в гробовой тишине. Праздник не ладился, Назаров чувствовал себя неловко. Без пяти двенадцать он встал со стаканом в руке, произнес панегирик прозорливому вождю советского народа Сталину и всему Совнаркому, выпил и откланялся, сославшись на то, что семейный долг зовет домой. Его никто не удерживал.
Почти сразу после отбытия Назарова засобиралась и Эмили. Вадим уговаривал ее задержаться, хотел обсудить рабочие вопросы, в особенности главное: целесообразно ли далее прожигать госфинансы в Ленинграде или пора двигать назад, в Москву?
Эмили, надменно оттопырив губу, вытянула алебастровый пальчик в сторону наклюкавшегося Петрушки.
– Не с кем обсуждать. Видишь, он не в кондиции… Морнинг ивнинга мудренее.
И удалилась в свои покои.
Одна бутылка рыковки стояла опустошенная. Горбоклюв потянулся за второй, нераспечатанной, но Вадим убрал ее со стола.
– Обойдешься. Завтра, может быть, в Москву поедем. Ты нам с бодуна все купе заблюешь.
Горбоклюв повел замутненными зенками, оскалился.
– Гы… Пошел, значица, император Николаша со своей Шуркой в Летний сад мослы поразмять…
Вадим уже знал, что монарший променад в изложении Петрушки не закончится ничем иным, кроме свального разврата, поэтому не стал дослушивать и вышел из пропахшего столовкой номера в прохладный коридор. Он отдышался, расправил затекшие от застольного бдения плечи. Вразвалочку пошел вперед – ноги сами понесли к пятому номеру, все еще опечатанному и незаселенному.
Гостиница сегодня не спала, из-за многих дверей доносились хмельные выкрики и звяканье посуды. Тоже Новогодие отмечают. Смерть поэта, будоражившая всех и вся, отходит на второй план, жизнь продолжается. Ругать ли людей за то, что не думают о вечном? Скорбь преходяща, а если потеря, которой она вызвана, впрямую тебя не касается, то и скоротечна.
Философствуя, Вадим неспешной походкой продолжал путь по коридору и вдруг уловил звуки, разительно отличавшиеся от тех, что сопровождали его до сих пор. Сквозь произносимые заплетающимися языками тосты и стаканный перезвон прорезалось совсем другое – сиплое сопение, шорох, похрустывание досок пола под передвигаемой мебелью…
Вадим встал посреди коридора как вкопанный. Тренированный слух молниеносно отсеял все ненужное, определил вектор. По загривку пробежал холодок, потек ниже. Сопение и шорох исходили не откуда-нибудь, а из злополучного пятого номера, в котором, по идее, никого не должно быть!
Преодолев оцепенение, Вадим сделал еще пяток шагов, затаил дыхание. Так и есть! За дверью комнаты что-то происходило. Вот грюкнул стул, зашелестел ковер, раздался сдавленный выхрип… при этом ни шагов, ни голосов…
Клок бумаги с сургучной печатью, который Назаров повторно налепил вчера после осмотра номера, валялся на полу. Вадим потрогал замок. Признаков взлома нет, дверь отперли ключом.
Кто внутри и что он там делает? Вряд ли ворюга. Номер обшарен милицией и чекистами сверху донизу, брать там нечего, это должен понимать даже непроходимый тупица.
Вадим медлил. В воображении соткался мертвый желтоволосый, чья неприкаянная тень зачем-то оставила надмирье и пожаловала туда, где она покинула земную юдоль. Подмывало сбегать к себе, вооружиться. Горбоклюв наверняка уже отключился, храпит, уткнувшись носом в скатерть. Револьвер у него в походном вещмешке. Вытащить – и бегом назад. Тогда не так жутко будет входить в комнату, где хозяйничает неизвестно кто.
С другой стороны, «наган» хорош против обыкновенного смертного. Нелюдя с его помощью едва ли одолеешь. Если только серебряной пулей зарядить, но где ее возьмешь? Да и бегать туда-обратно – значит терять драгоценное время. Тот, кто в номере, может в любой момент улетучиться… в прямом или в переносном смысле.
Все эти рассуждения проскочили в голове Вадима с быстротой искры, бегущей по проводам. Собравшись с духом, он рванул на себя дверь и переступил порожек.
В комнате все было не так, как прежде. Тумба сдвинута, на нее водружен канделябр, в нем зажженная свечка. Худосочное пламя рассеивало вокруг чахлый молочный свет. Но Вадим и без него разглядел бы высунутый из-под стола и обтянутый ватными шароварами зад, над которым топорщилась знакомая шинель.
Он! Тот, что шел накануне по коридору и скрылся в подсобке… Хоть столешница и свисавшая с нее бахрома скрывали всю верхнюю половину тулова, ошибки быть не могло.
Вадим, не раздумывая, цапнул бронзовый канделябр, смахнул с него свечу. Теперь у него были все преимущества: оружие в руке и дезориентирующий противника мрак. А еще как будто камень с души упал. Кто бы ни был этот возюкающийся на полу, происхождение у него земное. Выходит, можно и без серебряных пуль.
– Вылезай! Ты кто?
Сопение сменилось рычанием. Стол шатнулся, а затем взлетел, вскинутый мощным толчком. Вадим отскочил вбок, ударился лодыжкой о тумбу.
Перед ним возникла ощетинившаяся колючей бородой рожа. Взлохмаченные патлы, налитые багрянцем глазищи, ноздри, раздувшиеся, как у бешеного быка…
– Евдокимов?!
Да, это был швейцар, каждый день истуканом стоявший при входе в «Англетер». Но что с ним сталось! Всегда приторно-услужливый, вышколенный, сейчас он шел на Вадима враскачку, растопырив лапищи, точно шальной медведь, разбуженный посреди зимы. Вместо слов он исторгал животный рык, его рот скособочился, в буркалах – нездоровый блеск.
Вадима взяла оторопь, он вжался в стену и выставил канделябр, как саблю.
– Что с тобой? Очумел?..
Швейцар вострубил луженой глоткой и, изловчившись, боднул Вадима макушкой в грудь. Тот услышал, как затрещали ломающиеся ребра, и грудную клетку наискосок прорезала жгучая боль. Он успел звездануть бородатого канделябром по зашейку, но это не произвело ровно никакого действия. Евдокимов разогнулся, плеснул из глазниц алой жижей, и две его огромные клешни сомкнулись под скулами Вадима. И такой геркулесовой силой налились эти клешни, что ни рыпнуться, ни вздохнуть, ни даже в харю перекошенную плюнуть.
– У-у-у! – хлестнул по ушам звериный вой.
Вадим ощущал себя куренком, которого поймали во дворе и вот-вот свернут шею, чтобы бросить безжизненную тушку в котел, где уже бурлит, закипая, вода для будущего супа.
Все потускнело, расползлось, а потом и вовсе пропало, как изображение на киноэкране, когда плавится застрявшая в проекционном аппарате пленка.