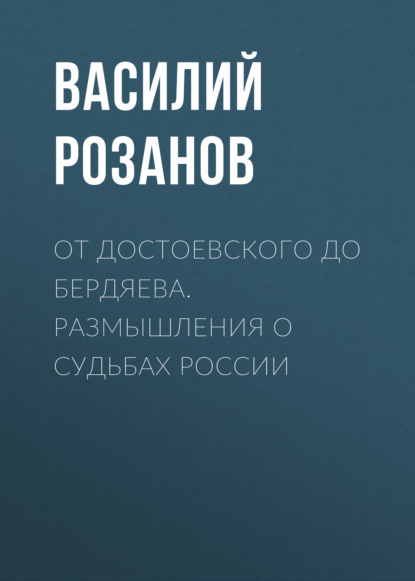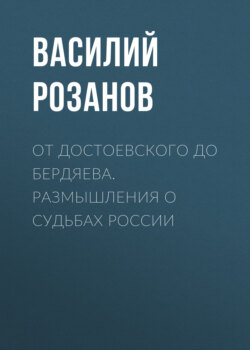
000
ОтложитьЧитал
© ООО «ТД Алгоритм», 2017
B.B. Pозaнов среди философов
Был ли Василий Васильевич Розанов философом или писателем? До сих пор мнения об этом расходятся. Сам он, конечно, начинал как философ в первой и единственной философской своей книге «О понимании» (1886) с длинным подзаголовком: «Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания».
Окончив в 1882 году историко-филологический факультет Московского императорского университета, Розанов захотел дать «план наук не только сущих, но и всех будущих», самой возможности науки, всех возможных наук, выведя эти возможности из потенциальности разума, его «живой потенциальности». Это называл он своим «открытием» на Воробьевых горах, где жил летом. Книга писалась без подготовки, без справок, без «литературы предмета». Работал легко и радостно в годы службы в прогимназии в Брянске, куда он попал после университета. «Обыкновенно это бывало так, – вспоминал Розанов через тридцать лет. – Утром, в «ясность», глотнув чаю, я открывал толстую рукопись, где кончил вчера. Вид ее и что «вот сколько уже сделано» – приводил меня в радость. Эту радость я и «поддевал на иголку» писательства»[1].
Эту книгу, в основе которой лежит идея зерна и вырастающего из него дерева, идея «живого роста», Розанов считал определяющей для всего своего мировоззрения. В письме К. Н. Леонтьеву он говорил, что книга «О понимании» «вся вылилась из меня, когда, не предвидя возможности (досуга) сполна выразить свой взгляд, я применил его к одной части – умственной деятельности человека. Утилитаризм ведь есть идея, что счастье есть цель человеческой жизни; я нашел иную цель, более естественную (соответствующую природе человека.), более полную во всех отношениях, интимную и общественную»[2].
Книга направлена против профессоров философии Московского университета, которые чтили лишь позитивизм. Вместе с тем автор видел и слабые стороны своего труда, о которых позднее говорил: «Мне надо было вышибить из рук, из речи, из «умозаключений» своих противников те аргументы, которыми они фехтовали. Надо было полемизировать не с Парменидом, а с Михайловским. Конечно – это слабая сторона книги»[3].
Когда нынешняя герменевтическая критика утверждает, что важно не само литературное произведение, а его восприятие читателем и что вообще реально существует лишь восприятие, – это не вызывает недоумения. Иное дело столетие назад. Когда молодой Розанов выдвинул категорию «понимание», связующую человека с наукой, как системой знаний, то все смеялись над таким «трюизмом». Герменевтический аспект книги не заинтересовал современников. Рецензент «Вестника Европы» Л. Слонимский ядовито заметил, что автор разумеет под «пониманием» совсем не то, что принято разуметь под этим словом. «Для него это не психологический процесс, а какая-то новая всеобъемлющая наука, призванная восполнить собою недостатки и пробелы существующих знаний. Для нас этот «полный орган разума», выдуманный г. Розановым остается неразрешимою загадкою»[4].
Провал первой книги (часть тиража была возвращена автору, а другая часть продана на Сухаревке на обертку для серии современных романов) изменил всю судьбу Розанова. Много лет спустя он заметил: «Встреть книга какой-нибудь привет, – я бы на всю жизнь остался «философом». Но книга ничего не вызвала (она, однако, написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было «не то». Это не настоящее мое»[5].
Вслед за книгой «О понимании» Розанов собирался писать такую же большую по величине под названием «О потенциальности и роли ее в мире физическом и человеческом». Потенция – незримая, неосуществленная форма около зримой, реальной. Мир – лишь частица «потенциального мира», который и есть настоящий предмет философии и науки. Законы и условия перехода из потенциального мира в реальный заполняли розановскую мысль и воображение. Однако замыслу не суждено было воплотиться. Новые проблемы захватили Василия Васильевича, перешедшего в 1887 году на службу в Елецкую гимназию.
В Ельце он тайно венчался с вдовой Варварой Дмитриевной Бутягиной (первая жена Аполлинария Суслова не давала развода). Здесь он вместе с учителем Елецкой гимназии Г1Д. Первовым перевел первые пять книг «Метафизики» Аристотеля (отдельное издание СПб., 1895), а 1 октября 1888 года на публичном акте Елецкой гимназии произнес речь по поводу 900-летия крещения русского народа, напечатанную в январе 1890 года в «Русском Вестнике» и вышедшую в том же году в Москве отдельной брошюрой под названием «Место христианства в истории». Основная мысль этой речи сводится к тому, что арийский склад души определяется объективностью, а склад души семитских народов – субъективностью. Христианство же явилось синтезом, гармоническим сочетанием этих двух как будто противоположных начал.
Летом 1891 года, во время короткого пребывания в Москве, «случайно» началась газетная публицистика Розанова. Он опубликовал в «Московских Ведомостях» несколько статей о «наследстве 60–70-х годов». Появление их (затем собранных в книге Розанова «Литературные очерки») настолько впечатлило современников, что годы спустя Н.К Михайловский, а за ним В. И. Ленин (в работе «От какого наследства мы отказываемся?») вновь и вновь пытались опровергнуть мысли Розанова.
Что же такое сказал Розанов, что всполошило весь демократический лагерь – от народников до марксистов? Молодой публицист не сделал никакого открытия, не провозгласил новой философской доктрины и не перевернул с головы на ноги какую-либо старую. Поздние народники, а затем социал-демократы объявили себя наследниками «великих шестидесятников», призывавших Русь к топору, к революционному переустройству общества. Дети и внуки на себе испытали острие этого топора, скосившего не только дворян, офицеров, помещиков, но и духовенство, крестьянство, казачество, интеллигенцию – русскую культуру в се цвете и плодоношении. Когда же наконец открылись пустынные «сияющие вершины», то вспомнили пророческие слова Розанова в «Уединенном», что повое здание социализма, «с чертами ослиного в себе, повалится в третьем – четвертом поколении».
В «шестидесятниках» Розанов усматривает великую вину целого поколения, идеи которого через десятилетия обагрили кровью Россию и отбросили ее к мраку и ужасу средневековых застенков, к террору – сначала индивидуальному, а затем, когда «пошли другим путем» – массовому. Дело в том, что в русском народе они усматривали лишь средство для построения «светлого будущего». И потому Розанов писал в своей программной статье «Почему мы отказываемся от “наследства 60–70-х годов”?»: «И если мы видим, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отвратиться от поколения, которое все это сделало?»
Когда Розанов учился в нижегородской гимназии, он стал зачитываться Достоевским, который оказал удивительное воздействие на юную душу. Чем же, собственно, Достоевский стал так дорог с первой строки и с первой минуты знакомства с ним? «Пришел и сел в комнату», «пришел и сел в душу». «Достоевский есть самый интимный, самый внутренний писатель, так что его читая – как будто не другого кого-то читаешь, а слушаешь свою душу, только глубже, чем обычно, чем всегда… Чудо творений Достоевского заключается в устранении расстояния между субъектом (читающий) и объектом (автор), в силу чего он делается самым родным из вообще сущих, а, может быть, даже и будущих писателей» (статья «Чем нам дорог Достоевский?»)
В Ельце была создана первая литературная книга Розанова – «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1890). Философские размышления о Достоевском, начатые в счастливые годы в Ельце, продолжались всю жизнь писателя. «Я потому так и люблю Достоевского, потому смерть его так страшно поразила меня, что он понял не только светлое, но и все темное в подростках наших, и это темное обвил такою любовью, таким состраданием», – писал он Н. Н. Страхову 3 февраля 1888 года. Постоянно вчитываясь в книги Достоевского, он говорил, что это – «гибкий, диалектический гений, у которого едва ли не все тезисы переходят в отрицание»[6] (вот где истоки антиномического мышления и самого Розанова).
«Легенду о Великом инквизиторе», сочиненную Иваном Карамазовым, Розанов считает душой романа, все действие которого «только группируется около него, как вариации около своей темы». В критике давно утвердилась мысль, что в этой книге Розанова дана религиозная трактовка творчества Достоевского. Однако было бы точнее сказать, что Розанов проанализировал «Братьев Карамазовых» и центральную в философском плане главу романа в контексте христианских размышлений и сомнений Достоевского.
Одна из главных идей книги Розанова заключается в том, что Достоевский, Толстой, Тургенев и другие писатели противодействовали «отрицательному» гению Гоголя. «Правда, взор его и их был одинаково устремлен на жизнь: но то, что они увидели в ней и изобразили, не имеет ничего общего с тем, что видел и изображал он». Знаменитый розановский апофеоз «мертвечины Гоголя» предстает отправным пунктом всей книги, столь необычного по тому времени исследования: «Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидел он в ней. Вовсе не отразил действительность он в своих произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд карикатур на нее: от этого-то и запоминаются они так, как не могут запоминаться никакие живые образы».
Прочитав первые главы «Легенды…» Розанова в «Русском Вестнике», К. Н. Леонтьев писал автору 13 апреля 1891 года из Оптиной пустыни:
«Читаю Ваши статьи постоянно. Чрезвычайно ценю ваши смелые и оригинальные укоры Гоголю; это великое начинание. Он был очень вреден, хотя и непреднамеренно. Но усердно молю Бога, чтобы вы поскорее переросли Достоевского с его «гармониями», которых никогда не будет, да и не нужно»[7].
Статьи о Достоевском Розанов писал к 20-летию, к 25-летию, к 30-летию его кончины. Писал бы и далее, если бы не революция и собственная смерть. Он как бы жил «по часам» Достоевского, был весь в движении его идей.
В 20-ю годовщину смерти Достоевского Розанов пророчески писал о грядущем мировом признании великого писателя: «Достоевский – это для Европы революция, но еще не начавшаяся, хотя и совершенно приготовленная. В час, когда era идеи станут окончательно ясными и даже только общеизвестными… начнется великая идейная революция в Европе»[8].
В конце жизни в письме к Э. Голлербаху 9 мая 1918 года Розанов определяет путь своих философских искании двумя именами, оказавшими решающее воздействие на него, – К. Леонтьева и Достоевского. «Лишь то, что у них было глухо или намеками, у меня становится ясною, сознанною мыслью. Я говорю прямо то, о чем они не смели и догадываться». Главное в философии Леонтьева Розанов определяет как поиск «красоты действительности»: не в литературе, не в живописи или скульптуре, а в самой жизни. «Прекрасный человек» – вот цель, «прекрасная жизнь» – вот задача.
Леонтьев разошелся со всеми и вся и ушел в монастырь, сначала на Афон, затем в Оптину Пустынь. «То, что он остался отвергнутым и непризнанным, даже почти непрочитанным (публикою), и свидетельствует о страшной новизне Леонтьева. Он был «не по зубам» нашему обществу, которое “охает” и “ухает” то около морали Толстого, то около героев Горького и Л. Андреева. Леонтьев гордо отвернулся и завернулся в свой плащ. И черной фигурой, – именно как “Некто в черном”, – простоял все время в стороне от несшейся мимо него жизни, шумной, отвратительной и слепой».
В глазах Розанова Леонтьев предстает как защитник юности, молодости, «напряженных сил и трепещущих жизнью соков организма», как провозвестник «космического утра и язычества». Особенно привлекает Розанова плюрализм мышления Леонтьева, столь близкий и понятный ему самому. «Права старость. Права юность. Правы мы, прав он. Тут некуда уйти. Право христианство со страховским “смирением” и “ничего не хочу”, и прав Леонтьев, с его языческим – “всего хочу”, “хочу музыки”, “игр”… и – “нарядов”. Это писатель, выразивший в стремлениях человечества нечто такое, что до него не выразил никто».
Леонтьев потерпел поражение, и Розанов глубоко переживал трагедию его судьбы. «Он, бедный идеалист, держал древко покинутого знамени, он хватал его мотающиеся, простреленные в боях шелковые лоскутки… Бедный! Конечно, он был раздавлен, и все его сочинения – только крик раздавливаемого человека о правде его знамени, покинутого всеми знамени его родины…»[9]
Непросто складывались отношения Розанова с философом Владимиром Соловьевым. После его смерти в предисловии ко второму изданию своей книги «Природа и история» Розанов назвал его «самою яркою философскою фигурою за XIX век у нас… Гнездо родной земли уже не держало его; однако полета сколько-нибудь правильного и цельного, сильного и далекого у него не вышло. Он более шумел крыльями, чем двигался».
Отрецензировав брошюру Розанова «Место христианства в истории», Соловьев писал К. Леонтьеву: «Насколько могу судить по одной прочитанной брошюре, он человек способный и мыслящий». Но для Соловьева Розанов едва ли когда-либо был больше, чем «способным и мыслящим человеком». Он считал себя выше всех окружающих людей, даже выше России, выше церкви, чувствовал себя «Моисеем», которому не о чем говорить с людьми, потому что он говорил с самим Богом.
Хорошо знавшие Соловьева люди говорили, что его глубокомыслие часто соседствовало с юмором и смехом. Впервые Соловьев «пошутил» над Розановым, когда за статью «Свобода и вера», появившуюся в январской книжке «Русского Вестника» за 1894 год, обозвал его именем щедринского героя – Иудушкой Головлевым. Личное знакомство двух писателей состоялось поздней осенью 1895 года по инициативе Соловьева. Однако речи о жестокой и грубой полемике между ними больше не заходило, все просто «прошло»: «Я думаю, – писал Розанов, публикуя в 1905 году письма Соловьева к себе, – ни он не настаивал бы на своих определениях меня, ни я не думал ничего из того, что высказал о нем».
Поэзия Соловьева, так же как его человеческие качества, привлекали Розанова подчас больше, чем его философия. Мировоззрение Соловьева называют «философией конца». Розанов обратил на это особое внимание. «Известно, что и Вл. Соловьев, – писал он в предисловии к публикации писем К. Леонтьева, – посмотрел на фазу нашей истории, как на предсмертную, – в последние дни своей жизни».
Национальное значение философии Соловьева Розанов определяет как «начальное» и в силу этого неопределенное. Он принадлежал к «начальным умам», а не к умам завершающим или оканчивающим какое-либо направление или течение. «Философия русская отсутствует, – полагал Розанов, – на этой обширной площади с надписью: “Предмет отсутствует” – появление Соловьева с его плаванием туда и сюда, с его расплескиванием волн во всевозможных направлениях – весьма естественно. Полезно ли? На это ответит будущее».
Итоговую характеристику Соловьева и своего отношения к нему Розанов высказал в «Мимолетном»: «Многообразный, даровитый, нельзя отрицать – даже гениальный Влад. Соловьев едва ли может войти в философию по обилию в нем вертящегося начала: тогда как философия – прибежище тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов… Самолюбие его было всепоглощающее: какой же это философ? Он был ПИСАТЕЛЬ – с огромным вливом литературных волнений своих, литературного темперамента – в философию». Проза Соловьева, говорил Розанов, «вся пройдет», просто не будет читаться иначе как для темы «самому написать диссертацию о Соловьеве». Но останутся вечно его стихи, в которых он и благороден и мудр, а в некоторых даже «единственно прекрасен».
Вспоминая о русском духовном Возрождении начала XX века, Н. А. Бердяев рассказывал о возникновении «нового религиозного сознания»: «Основным было влияние проблематики В. Розанова. Он был самой крупной фигурой собраний. В сущности, произошло столкновение Розанова, гениального критика христианства и провозвестника религии рождения и жизни, с традиционным православием, монашески-аскетическим сознанием. Были поставлены проблемы отношения христианства к полу и любви, к культуре и искусству, к государству и общественной жизни»[10].
Называя Розанова одним из «самых необыкновенных, самых оригинальных людей», каких ему приходилось в жизни встречать, Бердяев утверждал, что Розанов написал о его книге «Смысл творчества» четырнадцать статей. «Он разом и очень восхищался моей книгой и очень нападал на нее, усматривая в ней западный дух. Но никто не уделял мне столько внимания»[11].
В статье о книге Бердяева, напечатанной в «Новом Времени», Розанов высмеивает притязания мессианизма – тема весьма важная для многолетнего хода мыслей Василия Васильевича о «русской земле и литературе». Розанов предостерегает от опасности мессианизма, в каком бы народе он ни проявлялся. «У русских – мессианизм славянофилов и главным образом Достоевского, сказавшийся в знаменитом монологе Ставрогина о “народе-Богоносце”, и в речи самого Достоевского на открытии памятника Пушкину. Удивительно, что никому не пришло на ум, как это место опасно. Т. е. как опасно вообще и всемирно стремиться к первенству, исключительности, господству».
В реплике «Апофеоз русской лени» Бердяев отвечает Розанову, что тот «восстает против идеи мессианизма народов, против всяких универсальных притязаний, мировых миссий, исторических величий, против всякого водительства и господства»[12]. Вместе с тем Бердяев отмечает: «Розанов сейчас – первый русский стилист, писатель с настоящими проблесками гениальности. Есть у Розанова особенная, таинственная жизнь слов, магия словосочетаний, притягивающая чувственность слов. У него нет слов отвлеченных, мертвых, книжных. Все слова – живые, биологические, полнокровные. Чтение Розанова – чувственное наслаждение. Трудно передать своими словами мысли Розанова. Да у него и нет никаких мыслей. Все заключено в органической жизни слов и от них не может быть оторвано. Слова у него не символы мысли, а плоть и кровь»[13].
В очерке «О типах религиозной мысли в России» (1916) Розанов характеризует положение, сложившееся в философской мысли в Москве к началу мировой войны. В религиозно-философском книгоиздательстве «Путь» образовались две группы философов: левое течение, руководимое кн. Е. Н. Трубецким, около которого стоит и Бердяев; и более крупное правое течение, представленное П. А. Флоренским, В. Ф. Эрном и С. Н. Булгаковым. Последние и образуют собою «молодое славянофильство», которое вызывало особый интерес Розанова, укреплявшийся и личными контактами. Этот «философско-поэтический кружок», как называет его Розанов, являет собой «самое крупное умственное течение в Москве». Все юное и возрождающееся, говорит он, притягивается, нравственно влечется к этому течению.
«Изданные уже теперь «Путем» книги гораздо превосходят содержательностью, интересом, ценностью «Сочинения Соловьева» (вышла деятельность из «Кружка Соловьева»)»[14], – писал он в «Опавших листьях».
Главой московского славянофильства Розанов считал Флоренского, книгу которого «Столп и утверждение истины» Бердяев назвал «самым значительным явлением в этом течении». Розанов же писал, что громадный труд Флоренского «стал в этом кружке «столпом» отправления дальше, а для иных – «столпом возврата», во всяком случае – пунктом, куда собираются люди».
Сопоставляя влияние Д. С. Мережковского, которое распространялось преимущественно на тех, кто «находится на первых стадиях религиозного пути и обладает небольшим еще религиозным опытом», с глубоким воздействием книги Флоренского, Розанов замечает: «Странно сравнивать ту утонченную ученость, какою, например, пропитан от первой до последней страницы знаменитый «Столп и утверждение истины» профессора и священника П. А. Флоренского с «жидким трепетанием» собственно брошюрок и статеек Мережковского»[15].
«Густой книгой» назвал Розанов труд Флоренского: «Тут все трудно, обдуманно; нет строки легкой, беглой. Вообще – ничего беглого, скользящего, мелькающего. Каждая страница не писалась, а выковывалась… Это – “столп” вообще русский, чего-то русского». «Он ползет, как корни дерева в земле»[16], – сказал Розанов о народных, почвенных, коренных основах мышления Флоренского. Он видел в книге Флоренского «дружбу к человечеству». И как далеко это было от дышащих злобой и ненавистью «философских» книг социал-демократов, печатавшихся в те годы и переиздававшихся позднее миллионными тиражами.
А. Н. Николюкин
- Национальная Россия. Наши задачи (сборник)
- От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России