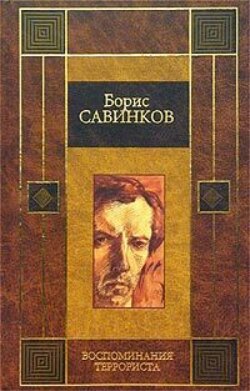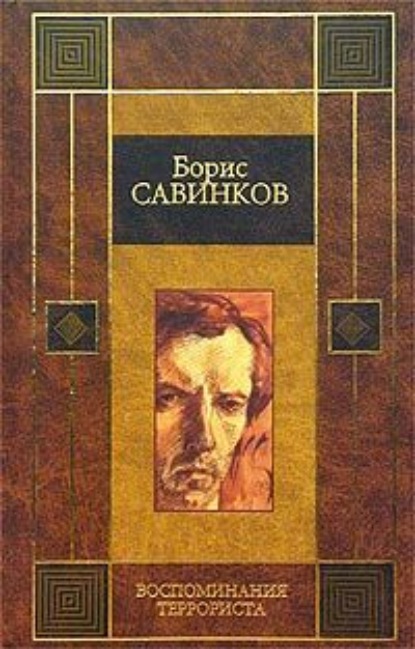– Кто первый?
– Ваня.
– Ваня?
– Да, Ваня.
Мне неприятны ее большие руки, неприятен ласковый голос, неприятен румянец щек. Я отворачиваюсь.
Она долго курит. Потом встает и молча ходит по комнате. Смотрю на ее волосы. Они льняные и вьются на висках и на лбу. Неужели я мог ее целовать?
Она останавливается. Засматривает мне робко в глаза:
– Ведь ты веришь в удачу?
– Конечно.
Она вздыхает:
– Дай Бог.
– А ты, Эрна, не веришь?
– Нет, верю.
Я говорю:
– Если не веришь – уйди.
– Что ты, Жоржик, милый. Я верю.
Я повторяю:
– Уйди.
– Жорж, что с тобою?
– Ах, ничего. И оставь меня ради Бога.
Она опять прячется в угол, снова кутается в платок. Не люблю этих женских платков. Молчу.
Тикают на камине часы. Я боюсь: я жду жалоб и слез.
– Жоржик.
– Что, Эрна?
– Нет. Ничего.
– Ну, так прощай. Я устал.
В дверях она шепчет грустно:
– Милый, прощай.
Ее плечи опущены, губы дрожат.
Мне ее жаль.
8 мая.
Говорят, где нет закона, нет и преступления. В чем же мое преступление, если я целую Елену? В чем моя вина, если я не хочу больше Эрны? Я спрашиваю себя. Я не нахожу ответа.
Если бы у меня был закон, я бы не убивал, я, вероятно, не целовал бы Эрны, не искал бы Елены. Но в чем мой закон?
Говорят еще: нужно любить человека. А если нет в сердце любви? Говорят, нужно его уважать. А если нет уважения? Я на границе жизни и смерти. К чему мне слова о грехе? Я могу сказать про себя: «я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть». Где ступает ногой этот конь, там вянет трава, а где вянет трава, там нет жизни, значит, нет и закона. Ибо смерть – не закон.
9 мая.
Федор продал на Конной свой выезд. Он уже офицер, драгунский корнет. Звякают шпоры, звенит сабля по мостовой. В форме он выше ростом и походка у него увереннее и тверже.
Мы сидим с ним на пыльном кругу. Поют в оркестре смычки. Мелькают мундиры военных, белые туалеты дам. Солдаты отдают Федору честь.
Он говорит:
– Слышь, как по-твоему, сколько плачено за этот костюм?
Он тычет в нарядную даму за соседним столом.
Я пожимаю плечами:
– Не знаю. Рублей, вероятно, двести.
– Двести?
– Ну да.
Молчание.
– Слышь.
– Что?
– А я вот работал – целковый в день получал.
– Ну?
– Ну, ничего.
Вспыхивают электрические огни. Низко над нами сияет матовый шар. На белой скатерти синие тени.
– Слышь.
– Что, Федор?
– А что думаешь, если, к примеру, этих?
– Что этих?
– Ну, известно…
– Зачем?
– Чтобы знали.
– Что знали?
– Что рабочие люди как мухи мрут.
– Ну, Федор, это ведь… Мы не анархисты.
Он переспрашивает:
– Чего?
– Анархизм это, Федор.
– Анархизм?… Экое слово… Вот за этот костюм плачено двести рублей, а дети копеечку просят. Это как?
Мне странно видеть его серебряные погоны, белый китель, белый околыш. Мне странно слышать эти слова.
Я говорю:
– Чего ты сердишься, Федор?
– Эх, нету правды на свете. Мы день-деньской на заводе, матери воют, сестры по улицам шляются… А эти… Двести рублей… Да… Всех бы их, безусловно.
Тонут во мраке кусты, жутко чернеет лес. Федор облокотился о стол и молчит. В его глазах злоба.
– Всех бы их, безусловно.
10 мая.
Осталось всего два дня. Через два дня…
Образ Елены заволокло туманом. Я закрываю глаза, хочу его воскресить. Знаю: у нее черные волосы и черные брови, у нее тонкие руки. Но я не вижу ее. Я вижу мертвую маску. И все-таки в душе живет тайная вера: она будет моею.
Мне теперь все равно. Вчера была гроза, гремел первый гром. Сегодня трава умылась, расцветает сирень. На закате кукует кукушка. Но я не замечаю весны. Я почти забыл о Елене. Ну, пусть она любит мужа, пусть она не будет моею. Я один. Я останусь один.
Я так говорю себе. Но знаю: уйдут короткие дни и опять буду мыслью с нею. Жизнь замкнется в кованый круг. Если только уйдут эти дни…
Сегодня я шел по бульвару. Еще пахло дождем, но уже щебетали птицы. Справа на мокрой дорожке рядом со мной я заметил какого-то господина. Он еврей, в котелке, в длинном желтом пальто. Он стал на углу и долго смотрел мне вслед.
Спрашиваю себя опять: не следят ли за мною?
11 мая.
Ваня все еще извозчик. Он по-праздничному пришел ко мне на свидание. Мы сидим на скамье, у собора, в сквере.
– Жоржик, вот и конец.
– Да, Ваня, конец.
– Как я рад. Знаешь, вся жизнь мне чудится сном. Будто я на то и родился, чтобы умереть и…
Белый храм уходит главами в небо. Внизу на солнце блещет река. Ваня спокоен. Он говорит:
– Трудно в чудо поверить. А если в чудо поверишь, то уже нет вопросов. Зачем насилие тогда? Зачем меч? Зачем кровь? Зачем «не убий»? А вот нету в нас веры. Чудо, мол, детская сказка. Но слушай и сам скажи, сказка или нет. И быть может, вовсе не сказка, а правда. Ты слушай.
Он вынимает черное, в кожаном переплете Евангелие. На верхней крышке тисненый позолоченный крест.
«Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе.
Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?
Итак, отняли камень, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что Ты услышал Меня.
Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.
Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон.
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет».
Ваня закрыл Евангелие. Я молчу. Он задумчиво повторяет:
– «Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе…»
В синем воздухе вьются ласточки. За рекою в монастыре звонят к вечерне. Ваня вполголоса говорит:
– Слышишь, Жоржик, четыре дня…
– Ну?
– Великое чудо.
– И Серафим Саровский чудо?
Ваня не слышит.
– Жорж.
– Что, Ваня?
– Слушай.
«Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб.
И видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса.
Они говорят ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.
Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус.
Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему: Господин! если Ты вынес Его, скажи мне, где Ты положил Его, и я возьму Его.
Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! что значит Учитель!»
Ваня умолк. Тихо.
– Слышал, Жорж?
– Слышал.
– Разве сказка? Скажи.
– Ты, Ваня, веришь?
Он говорит наизусть:
«Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.
Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: мир вам!
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри на руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои и не будь неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил потому, что увидел Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие».
– Да, Жорж, «блаженны не видевшие и уверовавшие».
Тает день, вечернею тянет прохладой. Ваня встряхивает кудрями.
– Ну, Жоржик, прощай. Навсегда прощай. И будь счастлив.
В его чистых глазах печаль. Я говорю:
– Ваня, а «не убий»?…
– Нет, Жоржик, – нет…
– Это ты говоришь?
– Да, я говорю. Чтобы потом не убивали. Чтобы потом люди по-божьи жили, чтобы любовь освящала мир.
– Это кощунство, Ваня.
– Знаю. А «не убий»?…
Он протягивает мне обе руки. Улыбается большой и светлой улыбкой. И вдруг целует крепко, как брат.
– Будь счастлив, Жоржик.
Я тоже целую его.
11 мая.
У меня было сегодня свидание с Федором в кондитерской. Мы сговаривались о подробностях.
Я первый вышел на улицу. У соседних ворот я заметил трех сыщиков. Я узнал их по быстрым глазам, по их напряженным взглядам. Я застыл у окна. Сам превратился в сыщика. Ищейкой следил за ними. Для нас они или нет?
Вот вышел Федор. Он спокойно пошел по улице. И сейчас же один из шпионов, высокий, рыжий, в белом фартуке и засаленном картузе, бросился на извозчика. Двое других побежали за ним бегом. Я хотел догнать Федора, остановить его. Но он взял случайного лихача. За ним помчалась вся свора – стая борзых. Я был уверен, что он погиб.
Я тоже был не один. Кругом какие-то странные люди. Вот человек в пальто с чужого плеча. Голова низко опущена, красные руки сложены на спине. Вот какой-то хромой в рваных заплатах, нищий с рынка. Вот мой недавний знакомый, еврей. Он в цилиндре, с черной подстриженной бородою. Я понял, что меня арестуют.
Бьет двенадцать часов. В час у меня свидание с Ваней в переулке. Ваня еще не продал пролетки. Он извозчик. Я втайне надеюсь, что он увезет меня.
Я иду на главную улицу. Хочу затеряться в толпе, утонуть в уличном море. Но опять впереди та же фигура: руки сложены на спине, ноги путаются в полах пальто. И опять рядом черный еврей в цилиндре. Я заметил: он не спускал с меня глаз.
Я свернул в переулок. Вани там нет. Я дошел до конца и повернул круто обратно. Чьи-то глаза гвоздями впились в меня. Кто-то зоркий следит, кто-то юркий не отстает ни на шаг.
Я опять на проспекте. Помню: там за углом Пассаж, двери в переулок. Я вбегаю, прячусь в воротах. Прижался спиною к стене и застыл. Длятся минуты – часы. Знаю: тут же рядом черный еврей. Он караулит. Он ждет. Он – кошка, я – мышь. До дверей четыре шага. И вдруг – одним прыжком я в переулке. Ваня медленно едет навстречу. Я бросаюсь к нему.
– Ваня, гони!
Стучат колеса по мостовой, на поворотах трещат рессоры. Мы сворачиваем за угол. Ваня хлещет свою лошаденку. Я оборачиваюсь назад: пустой переулок коленом. Никого. Мы ушли.
Итак, нет колебаний: за нами следят. Но я не теряю надежды. А если это только случайное наблюдение? Если они не знают, кто мы? Если мы успеем закончить дело?
Но я вспоминаю: Федор. Что с ним? Не арестован ли он?
12 мая.
Федор ждет меня в ресторане. Я должен увидеть его. Если он окружен, дело погибло. Если ему удалось уйти, мы дотянем до завтра и завтра же победим.
Я за трактирным столом, у окна. Мне видна улица, виден городовой в намокшем плаще, извозчик с поднятым верхом, зонтики редких прохожих. Дождь барабанит по стеклам, уныло струится с крыш. Серо и скучно.
Входит Федор. Звякают шпоры, он здоровается со мной. А на улице под дождем вырастают знакомые мне фигуры. Двое, спрятав мокрые лица в воротники, караулят подъезд. С городовым на углу начеку еще двое. Один из них вчерашний хромой. Я ищу глазами еврея: вот, конечно, и он – под резным навесом ворот.
Я говорю:
– Федор, за нами следят.
– Чего ты?
– Следят.
– Не может этого быть.
Я беру его за рукав:
– Ну-ка, взгляни.
Он пристально смотрит в окно. Потом говорит:
– Глянь-ка, вон этот хромой, ишь, пес, как вымок… Да-а… Дела… Чего делать-то, Жорж?
Дом оцеплен. Нам едва ли уйти. Нас схватят на улице.
– Федор, револьвер готов?
– Восемь патронов.
– Ну, брат, идем.
Мы спускаемся с лестницы. Ливрейный швейцар почтительно распахнул перед нами дверь.
Мы идем плечо о плечо. Звеня, волочится сабля. Я знаю: Федор решился. Я решился давно.
Вдруг Федор локтем толкает меня. Он шепчет скороговоркой:
– Гляди, Жорж, гляди.
На углу одинокий лихач.
– Барин, вот резвая… Барин…
– Пять целковых на чай. Шевели.
Призовой рысак мчится крупною рысью. Нам в лицо летят комья грязи. Сетка дождя затянула небо. Где-то сзади слышно: держи!
От коня валит густой пар. Я трясу кучера за плечо:
– Эй, лихач, еще пять рублей.
В парке соскакиваем в кусты. Мокро. Брызжут деревья. Дождь размыл все дорожки. Мы бежим по лужам бегом.
– Федор, прощай. Уезжай сегодня же.
Его форменное пальто мелькнуло в зеленых кустах и скрылось. Под вечер я в городе. В гостиницу не вернусь. Дело погибло бесповоротно. А что с Ваней? С Генрихом? С Эрной?
У меня нет ночлега, и я долгую ночь брожу по улицам. Тает лениво время. До рассвета еще далеко. Я устал и продрог, и у меня болят ноги. Но в сердце надежда: упованье мое со мною.
13 мая.
Я сегодня вызвал Елену запиской. Она пришла ко мне в городской сад. У нее сияющие глаза и черные кудри. Я говорю:
– Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть… Елена, скажите, и я брошу все. Я буду вашим слугою.
Она смотрит на меня улыбаясь. Потом задумчиво говорит:
– Нет.
Я наклонился к ней близко. Я шепотом говорю:
– Елена… Вы любите его?… Да?
Она молчит.
– Вы не любите меня, Елена?
Она вдруг сильным движением протягивает ко мне свои длинные, тонкие руки. Она обнимает меня. Она шепчет мне:
– Люблю, люблю. Люблю.
Я услышал ее слова, я почувствовал ее тело. Живая радость вспыхивает во мне, и я говорю с усилием:
– Я уезжаю, Елена.
Она бледнеет. Я смотрю ей прямо в глаза:
– Вот что, Елена. Вы не любите меня. Если бы вы любили, вы бы мучились мною. Вот за мною следят. Я на одном волоске. Но мне все равно: вы не любите меня.
Она переспрашивает с тревогой:
– Вы сказали: за вами следят?
Сухо шепчет вечерний ветер, пахнет дождем. В парке нет никого: мы одни. Я говорю громко:
– Да, следят.
– Жорж, милый, уезжайте скорее, скорее…
Я смеюсь:
– И больше не возвращайтесь?
Она говорит:
– Я люблю вас, Жорж.
– Не смейтесь. Как смеете вы говорить о любви? Разве это любовь? Вы с мужем, я для вас чужой и разве любимый?
– Я люблю вас, Жорж.
– Любите?… Вы ведь с мужем.
– Ах, с мужем… Не говорите же про него.
– Вы любите его? Да?
Но она снова молчит.
Тогда я ей говорю:
– Слушайте, Елена, я люблю вас, и я вернусь. И вы будете моею. Да, вы будете моею.
– Милый, я с вами, я ваша…
– И его? Да, – и его?
Я ухожу. Гаснет вечер. Желтым светом горят фонари. Гнев душит меня. Я говорю себе: его и моя, моя и его. И его, и его, и его.
15 мая.
Сегодня в газетах напечатано, что «было обнаружено приготовление к покушению на жизнь губернатора», что «благодаря своевременно принятым мерам преступной шайке не удалось привести свой злодейский умысел в исполнение, члены же ее скрылись и до сих пор не задержаны. К розыску их также приняты меры».
«Приняты меры». Разве мы не приняли своих? Победа не за нами, но в этом ли поражение? Федор, Эрна и Генрих уже уехали, Ваня и я уезжаем сегодня. Мы вернемся обратно.
II
4 июля.
Прошло шесть недель, я снова в N. Это время я прожил в старой дворянской усадьбе. От белых ворот – лента дороги: зеленый большак с молодыми березками по краям. Справа и слева желтеют поля. Шепчет рожь, гнется овес махровой головкой. В полдень, в зной, я ложусь на мягкую землю. Ратью стоят колосья, алеет мак. Пахнет кашкой, душистым горошком. Лениво тают облака. Лениво в облаках парит ястреб. Плавно взмахнет крыльями и замрет. С ним замрет и весь мир: зной и черная точка вверху.
Я слежу за ним прилежным глазом. И мне приходит на память:
…Всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет.
А в городе едкая пыль и смрад. По пыльным улицам тащатся вереницы ломовиков. Тяжело грохочут колеса. Тяжело везут тяжелые кони. Стучат пролетки. Ноют шарманки. Звонко звонят звонки конок. Ругань и крик.
Я жду ночи. Ночью город уснет, утихнет людская зыбь. И в ночи опять заблещет надежда:
Я дам тебе звезду утреннюю.
6 июля.
Я больше не англичанин. Я купеческий сын Фрол Семенов Титов, лесной торговец с Урала. Стою в дрянных номерах и по воскресеньям хожу к обедне в приходскую церковь. Самый опытный глаз не узнает во мне Джорджа О’Бриена.
В моей комнате на столе грязная скатерть, у стола хромоногий стул. На подоконнике – куст увядшей герани, на стене – портреты царей. Утром шипит нечищеный самовар, хлопают в коридоре двери. Я один в своей клетке.
Наша первая неудача родила во мне злобу, и злоба владеет мною. Я живу нераздельно с ним, с губернатором. Ночью я не смыкаю глаз: шепчу его имя, утром – первая мысль о нем. Вот он, седой старик с бледной улыбкой на бескровных губах. Он презирает нас.
Я ненавижу его белый дом, его кучера, его охрану, его карету, его коней. Я ненавижу его золотые очки, его стальные глаза, его впалые щеки, его осанку, его голос, его походку. Я ненавижу его желания, его мысли, его молитвы, его праздную жизнь, его сытых и чистых детей. Я ненавижу его самого – его веру в себя, его ненависть к нам. Я ненавижу его.
Уже приехали Эрна и Генрих. Я жду Ваню и Федора. В городе тихо, о нас забыли. 15-го он поедет в театр. Мы застигнем его на дороге.
Снова приехал Андрей Петрович. Я вижу его лимонного цвета лицо, седую бородку клином. Он в смущении мешает ложечкой чай.
– Читали, Жорж?
– Читал.
– Да-а… Вот вам и конституция…
На нем черный галстук, старомодный грязный сюртук. Грошовая сигара в зубах.
– Жорж, как дела?
– Какие дела?
– Да вот… мало ли…
– Дела идут по-хорошему.
– Что-то уж очень долго. Теперь бы вот… Самое время…
– Если долго, Андрей Петрович, поторопитесь.
Он сконфузился – барабанил пальцами по столу.
– Слушайте, Жорж.
– Ну?
– Комитет постановил усилить.
– Ну?
– Я говорю: решено ввиду данных обстоятельств усилить.
Я молчу. Мы сидим в грязном трактире «Прогресс». Хрипло гудит машина. В синем дыму белеют фартуки половых.
Андрей Петрович ласково говорит:
– Скажите, Жорж, вы довольны?
– Чем доволен, Андрей Петрович?
– Да вот… усиленьем.
– Чего?
– Боже мой… Я же вам говорю.
Он искренно рад сделать мне удовольствие. Я смеюсь:
– Усиленьем? Что ж. Дай Бог.
– А вы что думаете об этом?
– Я? Ничего.
– Как – ничего?
Я встаю.
– Я, Андрей Петрович, рад решению комитета, но усиливать ничего не берусь.
– Но почему же, Жорж? Почему?
– Попробуйте сами.
Он в изумлении разводит руками. У него сухие желтые руки и пальцы прокопчены табаком.
– Жорж, вы смеетесь?
– Нет, не смеюсь.
Я ухожу. Он, наверное, долго сидит за стаканом чая, решает вопрос: не смеялся ли я над ним и не обидел ли он меня. А я опять говорю себе: бедный старик, бедный взрослый ребенок.
11 июля.
Ваня и Федор уже здесь. Я подробно условился с ними. План остается тот же. Через три дня, 15-го июля, губернатор поедет в театр.
В семь часов Эрна отдаст мне снаряды. Она приготовит их в гостинице, у себя. Она высушит на горелке ртуть, запаяет стеклянные трубки, вставит запал. Она работает хорошо. Я не боюсь случайностей.
В восемь часов я раздам снаряды. Ваня станет у одних ворот, Федор у других. Генрих у третьих. За нами теперь не следят. Я в этом уверен. Значит, нам дана власть: острый меч.
14 июля.
Помню: я был на севере, за полярным кругом, в норвежском рыбачьем поселке. Ни дерева, ни куста, ни даже травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаных куртках тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. Все кругом мне чужое. И небо, и море, и скалы, и ворвань, и эти хмурые люди и их странный язык. Я потерял самого себя. Я сам себе был чужой.
И сегодня мне все чужое. Я в Тиволи, против открытой сцены. Лысый капельмейстер машет смычком, уныло свистят в оркестре флейты. На освещенных подмостках акробаты в розово-бледных трико. Они, как кошки, взбираются вверх, кружатся в воздухе, перелетают друг через друга и, яркие в ночной темноте, уверенно хватаются за трапеции. Я равнодушно смотрю на них – на их упругое и крепкое тело. Что я им и что они мне?… А мимо скучно снует толпа, шуршат шаги по песку. Завитые приказчики и откормленные купцы лениво бродят по саду. Они, скучая, пьют водку, скучая, ругаются, скучая, смеются. Женщины жадно ищут глазами.
Темнеют вечерние небеса, набегают ночные тучи. Завтра наш день. Остро, как сталь, встает четкая мысль. Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. Смерть – венец, и смерть – терновый венец.
Вчера с утра было душно. В парке хмуро молчали деревья. Предчувствовалась гроза. За белою тучей прогремел первый гром. Черная тень упала на землю. Зароптали верхушки елей, заклубилась желтая пыль. Дождь прошумел по листьям. Робко, синим огнем, сверкнула первая молния.
В семь часов я встретился с Эрной. Она одета мещанкой. На ней зеленая юбка и вязаный белый платок. Из-под платка непослушно выбились кудри. В руках – большая корзина с бельем.
Я бережно кладу то, что она принесла, в портфель. Тяжелый портфель больно тянет мне руку.
Эрна вздыхает.
– Устала?
– Нет, ничего, Жоржик…
– Ну?
– Жоржик, можно мне с вами?
– Эрна, нельзя.
– Жорж, милый…
– Нельзя.
В ее глазах несмелая просьба. Я говорю:
– Иди к себе. В 12 часов приходи на это же место.
– Жорж…
– Эрна, пора.
Еще мокро, дрожат березы, но уже заревом горит вечернее солнце. Эрна одна на скамье. Она до ночи будет одна.
Ровно в восемь часов все на своих местах. Я брожу около. Жду, когда подадут карету…
Вот вспыхнули во тьме фонари. Стукнули стеклянные двери. По белой лестнице мелькнула серая тень. Черные кони шагом обходят крыльцо, медленно трогают рысью. На башне поют куранты… Губернатор уже у третьих ворот…
Я жду.
Идут минуты, идут дни, идут долгие годы.
Я жду.
Тьма еще гуще, площадь еще чернее, башни выше, тишина глубже.
Я жду.
Снова поют куранты.
Я побрел к третьим воротам. Вот Генрих. Он в синей поддевке и в картузе. Неподвижно стоит на мосту.
– Генрих.
– Жорж, это вы?
– Генрих, проехал.
– Где?… Кто проехал?
– Губернатор проехал… Мимо вас.
– Мимо меня?
Он побледнел. Лихорадочно блестят расширенные зрачки.
– Мимо меня?
– Где вы были? Да, где вы были?
– Где?… Я был здесь… У ворот…
– И не видели?
– Нет…
Над нами тусклый рожок фонаря. Ровно мигает пламя.
– Жорж.
– Ну?
– Я не могу… уроню… Возьмите… скорее…
Мы стоим под газовым фонарем и смотрим друг другу в глаза. Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы.
– До завтра.
Он в отчаянии машет рукой.
– До завтра.
Я ушел к себе в номер. В коридоре шум, пьяные голоса. Я один в темноте.
17 июля.
Генрих, взволнованный, говорит:
– Я сначала стоял у самых ворот… Минут десять стоял… Потом вижу: заметили. Я пошел по улице… Вернулся обратно. Постоял. Губернатора нет… Снова пошел… Вот тут он, наверное, и проехал.
Он закрывает руками лицо:
– Какой позор… Какой стыд…
Он не спал всю ночь напролет. Под глазами у него синяя тень, на щеках багровые пятна.
– Жорж, вы ведь верите мне?
– Верю.
Пауза. Я говорю:
– Слушайте, Генрих, зачем вы идете? Я бы на вашем месте оставался в мирной работе.
– Я не могу.
– Почему?
– Ах, почему?… Нужно это или нет? Ведь нужно…
– Ну так что ж, что нужно?
– Так не могу же я не идти. Какое право имею я не идти?… Ведь нельзя же говорить, а самому не делать… Ведь нельзя же… Нельзя?
– Почему нельзя?
– Ах, почему?… Ну я не знаю, может быть, другие и могут… Я не могу…
Он опять закрыл руками лицо, опять шепчет, будто во сне:
– Боже мой, Боже мой…
Молчание.
– Жорж, скажите прямо, верите вы мне или нет?
– Я сказал: я вам верю.
– И дадите мне… еще раз?
Я молчу.
Он медленно говорит:
– Нет, вы дадите…
Я молчу.
– Ну тогда… Тогда…
В его голосе страх. Я говорю:
– Успокойтесь, Генрих, вы получите все, что нужно.
И он шепчет:
– Спасибо.
Дома я спрашиваю себя: зачем он здесь? И чья в этом вина? Не моя ли?
18 июля.
Эрна жалуется. Она говорит:
– Когда же это все кончится, Жорж?… Когда?…
– Что кончится, Эрна?
– Я не могу жить убийством. Я не могу…
Мы сидим вчетвером в кабинете в грязном трактире. Мутные зеркала изрезаны именами, у окна расстроенное пианино. За тонкой перегородкой кто-то играет матчиш.
Жарко, но Эрна кутается в платок. Федор пьет пиво. Ваня положил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец Федор сплевывает на пол и говорит: