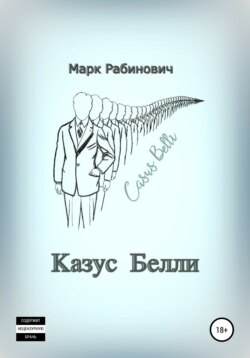Возвращение
Рассвет разгорался медленно, понемногу высвечивая верхушки леса. Не тропики, понял он, ты попал куда угодно, Сева, но только не в тропики, ведь там, согласно всем книжкам с яркими обложками, светает сразу и быстро. Как жаль, а ведь он так хотел попасть именно в тропики. Видно, не судьба. Но где же он?
Жаловаться, однако, не стоило, ведь то, что он вернулся, само по себе было фантастической удачей. Тогда, перед полетом, Клаус не обещал ничего, лишь угрюмо стращал всевозможными опасностями, озвучивая самые неожиданные страхи. Иногда Всеволоду даже казалось, что немец и сам не понимает, как работает его двигатель и в глубине души искренне сомневается в том, что из его затеи получится что-либо путное. Впрочем, у Всеволода не было иного выхода и все: и Клаус, и Феликс, и Зяма, и Клим прекрасно понимали это. Однако, несмотря на все страхи, несмотря на недомолвки Клауса, невзирая на мрачные предчувствия, аппарат сумел подняться. Поднялся он, судя по всему, достаточно высоко, так что Всеволод начал задыхаться и пришлось выпустить немного воздуха из пристроенного под ногами баллона с кислородом. А потом, что было совсем уже невообразимой удачей, аппарат умудрился сесть. Правда, падал он круша ветки, а потом еще и сполз вниз по склону, наверняка заработав не одну вмятину на гофрированных бортах. И все же он сел, вопреки мрачным предчувствиям и не менее мрачным предсказаниям. Причем посадка была настолько щадящей, что Всеволод отделался лишь парой синяков.
Теперь надо было понять, где именно он сел. Лишь бы не СССР, подумал он, лишь бы не одна шестая суши. Господи, боже, если ты есть, то будь снисходителен к комсомольцу, честно платившему взносы и исправно поднимавшему руку на общих собраниях. Впрочем, это не помогло, и из комсомола тебя вычистили, также как и из Политеха да и из жизни как таковой. И все же, пять шестых суши, это ведь не так мало. Разве я прошу так уж многого? Мне нужен лишь маленький-премаленький кусочек этой огромной планеты. И пусть это будет такое место, где нет высоких вышек, людей в фуражках с малиновым околышем и злобного собачьего лая. Вот и все, а больше мне ничего не надо. Господи всемилостивый, помоги атеисту! Впрочем, если верить Клаусу, то Германию тоже следовало бы исключить из этих пяти шестых. А вместе с Германией неплохо бы было исключить также и Италию, и Румынию, и Венгрию и, вместе с ними, большую часть Европы, стремительно становящейся красно-коричневой. Привлекательные пять шестых стремительно скукоживались. Плохо мое дело, подумал он. Но где же я, черт побери?
А рассвет продолжал свою утреннюю работу. Крепнущий солнечный свет старательно выдавливал ночную тьму леса, прижимая ее к земле, постепенно высвечивая голые стволы деревьев, белые с темной штриховкой на коре. Березы! Вот это было уже совсем плохо. Но все еще оставалась призрачная надежда на Финляндию или Швецию. Ах, если бы Швеция – эта прекрасная и такая нейтральная страна. Однако становилось очевидным, что ему в очередной раз не повезло. Зяма называл это "еврейским счастьем", но, по-видимому, перепадало и неевреям.
Он давно уже выбрался из аппарата. От двигателя, давно заглушенного и не подающего признаков жизни, можно было, тем не менее, ожидать любых сюрпризов. Чего именно следовало опасаться, он не знал, но помнил поведение Клауса, который очень странно относился к своему изобретению, как будто и сам не до конца ему доверял. Невольно ему вспомнилась туманная фраза судетца, произнесенная им совсем недавно. Странно, подумал он, прошла всего неделя, а мне почему-то кажется, что это было в иной, бесконечно давней жизни.
…В тот день на пороге их лаборатории появился необычный посетитель. Гость был совсем из другой другого места, далекого московского ЦКБ-29, в просторечье называемого "аэродинамической шарагой". Таких гостей, как правило, размещали в отдельном относительно благоустроенном бараке на территории, и, в отличие от "местных", водили под конвоем. Таким образом, приезжий мог перемещаться по территории только в сопровождении красноармейца с отвратительным малиновым околышем на фуражке. Сам же гость был хорошо знаком Всеволоду еще по ВладЛагу, где они оба мерзли на лесоповале и вместе варили в дырявом котелке украденные картофелины. Так и осталось неизвестным, что привело старого знакомого в их "шарагу", но Всеволод подозревал, что это был двигатель Райхенбаха, слухи о котором передавались тихим шепотом, не достигая ушей НКВД-шного начальства. Ну а найти повод посетить "моторную" шарагу из "аэродинамической" не составляло труда. Поэтому, когда на пороге их лаборатории появился Сергей в сопровождении вооруженного красноармейца, удивился один только Зяма, который удивлялся всегда и всему.
Конвойный вел себя свободно и расслабленно, он даже перевесил карабин за спину, перекинув ремень через грудь, что уставом не допускалось, зато было много удобнее. Со своим подконвойным он вел себя по-дружески, смеялся его шуткам и даже сам рассказал замшелый анекдот про петлюровца и раввина. Сергей, однако, слушал его невнимательно и все посматривал краем глаза на аппарат. Когда боец, совсем уже игнорируя устав, ушел по нужде, он заявил громким шепотом:
– Не полетит!
Клаусу бы следовало возразить, что тут ничто летать и не должно, но глаз у Сереги был наметан и обмануть его, когда дело касалось летательных аппаратов было трудно, если вообще возможно. Однако все они Сереге доверяли, поэтому Зяма нервно спросил:
– Почему не полетит?
– Ну, мужики, это же азы! Таких вещей стыдно не знать – безапелляционно выдал Сергей – Да потому, хотя бы, что снаряд с ракетным двигателем должен быть симметричным, а не то его будет произвольно болтать вокруг центра массы.
С центром массы дела действительно обстояли неважно. Аппарат представлял из себя несимметричную коробку из тонкой гофрированной стали, закругленную с одной стороны и плоскую с другой. На самом деле, это была жесткая гондола небольшого дирижабля, полученная их группой под липовый проект аэросаней, впоследствии благополучно похеренный.
– С чего ты взял, что двигатель реактивный? – усмехнулся Клим – Уж не потому ли, что ты сам на них помешался?
– А какой же еще? – Серега искренне удивился – Пропеллера-то нет.
– Плохой ты диалектик, Королев – поддел его Феликс – Нет в тебе широты мысли. Узко ты мыслишь
Королев окинул взглядом компанию. Зяма смотрел на него с грустной улыбкой, впрочем Зяма на всех так смотрел. Феликс ухмылялся во весь рот, наслаждаясь веселой перепалкой. Клим был серьезен, но он тоже всегда был серьезен. А вот Клаус смотрел в сторону и Серега не видел его лица, а зря. Всеволод был занят, он гнул на верстаке кронштейны для баллонов с кислородом и поэтому хорошо видел Клауса через пустые полки стальной лабораторной этажерки. Судетца явно что-то терзало, казалось он пытается что-то сказать, но не может на это решиться.
– Безынерционный двигатель Райхенбаха – хмыкнул Королев – Полет в эфире силой мысли. Слышали, как же. Это ж какую мысль надо иметь, чтобы поднять такую дуру в воздух!
– С мыслями у нас все в ажуре – Феликс явно пытался отвлечь гостя от Клауса – Особенно, после второй чекушки.
– А ты что скажешь, геноссе? – было заметно, что под шутливой формой вопроса кроется беспокойство и искренний интерес.
Клаус повернулся.
– Он полетит – спокойно сказал он.
– Так просто? – восхитился, не то искренне, не то притворно, Королев.
– Да! – отрезал Клаус – А вот куда прилетит? Это-то как раз и непросто.
Серега открыл было рот, наверное, чтобы сказать нечто убийственно-ироничное, но тут как раз вернулся конвойный и увлекательную перепалку пришлось прекратить. Вот только Всеволоду показалось, что для Клауса это было совсем не забавно. Когда Райхенбах проходил мимо верстака, можно было слышать, как он бормочет под нос:
– …И когда прилетит? Вот это уже совсем непросто.
Что Клаус имел ввиду Всеволод так и не понял… Но сейчас не следовало отвлекаться на вопросы, не имеющие ответа, а следовало как можно быстрее замаскировать аппарат. Самодельный финский нож, тщательно таимый от нечастых в их шараге шмонов, оказался неожиданно острым. К тому же аппарат и так сел в глубине небольшого распадка, густо заросшего ельником. Аэростат совсем сдулся, потерял весь гелий и висел вялым, бесформенным мешком. Поэтому замаскировать его оказалось несложной технической задачей. Именно так выражался Феликс, который был физиком-теоретиком и любую практическую проблему называл "несложной технической задачей". То, как Вуколов попал в их шарагу, осталось тайной, покрытой мраком, но Всеволод подозревал, что Феликса сумел вытащить с лесоповала Клим. Надо полагать, Звягинцев воспользовался тем, что НКВД-шное начальство не способно было отличить теоретическую физику от прикладной, да и о физике вообще имело весьма смутное представление. Сейчас же, точнее – неделю назад, Феликс рассчитывал нагрузки для нового, звездообразного авиадвигателя, еще не получившего кодовое имя.
Скорее всего, подумал он, из этого места надо срочно бежать, снова подняв аппарат и надеясь, что в баллонах хватит кислорода. И все же это место могло быть Швецией. О, как я хочу, чтобы это была именно Швеция. Пусть меня встретят неулыбчивые темно-русые мужчины в вязаных свитерах, бородатые, но без усов, как и полагается в Скандинавии. Пусть там будут степенные, румяные фрёкен и вежливые полицейские в синих мундирах. Пусть меня даже арестуют, пусть посадят в чистую скандинавскую тюрьму. Лишь бы только не малиновые околыши, лишь бы только не мерзлый ад лесоповала или кисло пахнущий смертью подвал.
Так он думал, пробираясь через сосняк, разбавленный мелким ельником. Зелень еще более редких берез подернулась желтизной и намекала на сентябрь. Странно, подумал он, ведь я взлетел в конце мая. Ничего не понимаю. И снова ему припомнился тихий голос Клауса. Что же он тогда сказал? Но мысли путались и память подводила. Было по-утреннему прохладно и телогрейка оказалась не лишней, так же как и вторые обмотки на ботинках. Холодно, однако, не было и не было промозглой сырости ленинградской осени. А вот осенняя листва была. Всеволод нагнулся и подобрал несколько желтых и буро-красных листьев. Когда он выпрямился, ему в глаза бросился робкий просвет за редкой полосой верб. Так и не выпустив из левой руки разноцветный букет, он осторожно вышел на дорогу. Шоссе? Да, шоссе. Но какой удивительный асфальт! Неужели на одной шестой бывает такое покрытие – без выбоин и колдобин? Настоящий германский автобан, истинно европейское шоссе. Может быть, действительно, Швеция и ему наконец-то повезло? Вдали послышался шум мотора. Странно, таких моторов он не слышал, а ведь именно он, Всеволод Ланецкий, был известен тем, что мог на слух легко отличить "Форд" от "АМО" и посольский "Майбах" от наркомовского "Паккарда". Незнакомый мотор гудел на удивление ровно, как будто какой-то автомобильный бог создал идеально отрегулированные цилиндры и божественный карбюратор. Всеволод остановился и стал ждать. Это было опасно, ведь в неизвестной машине запросто могли оказаться малиновые околыши. Но хотелось верить, что он все же в Скандинавии. А еще, ему очень и очень хотелось увидеть автомобиль с удивительным двигателем.
Машина выскочила из-за поворота и только тогда он сообразил, что стоило бы укрыться в кустах. Но было уже поздно и автомобиль заскрипел тормозами и остановился, странно припав на передние амортизаторы. У "эмки" подвеска бы не выдержала, подумал Всеволод. Но столь странного авто он никогда не видел и даже не слышал про что-либо подобное. Все, буквально все в нем было как-то неправильно, начиная от неестественно маленьких колес, запрятанных куда-то внутрь кузова, до ветрового стекла, не обнаруживающего каких-либо признаков совершенно необходимой обрезиненной окантовки. Заляпанная грязью снизу до верху приземистая конструкция была когда-то, вероятно, белого цвета. Стекло странно-темного тона со стороны водителя опустилось и Всеволод с облегчением увидел на заднем сиденье женщину с ребенком на коленях. Может быть, все же, Швеция?
– Ты что, мужик, совсем обалдел? – неожиданно заорал водитель, разом разрушая все его надежды – Сейчас здесь такое начнется, а он икебану собирает.
Вот теперь следовало немедленно вернуться в распадок, разбросать наваленные на кабину еловые лапы и снова поднять аппарат в воздух. Куда угодно, только подальше отсюда! В этот момент из-за поворота выскочил совсем уже несуразный автомобиль. Маленький и угловатый, с огромными для его размеров колесами, он был столь-же грязен, как и первый. Взвизгнув тормозами, он юзом развернулся поперек шоссе. В маленьком кузове стояли двое с короткими карабинами в руках.
– Садись, придурок, если жить хочешь – прошипел водитель.
Из кузова ударила пулеметная очередь и раздался диких хохот. Палили, судя по всему, в воздух, но пулемета не было видно.
– Садитесь – тихо сказала женщина на заднем сиденье, раскрывая неестественно большую дверцу и сдвигаясь назад.
Ничего уже не соображая, Всеволод плюхнулся на сиденье. Машина резко рванула с места. Слишком тихо работает мотор, отметило непослушное подсознание. Такого просто не может быть!
– Дверь, сука, закрой! – проорал водитель, не отрывая взгляда от дороги и вжавшись плечами в руль.
Дверца поддалась на удивление легко и закрылась до странности тихо. Авто уже разгонялось и разгонялось оно тоже неестественно быстро. Всеволод повернул голову назад: дорога снова делала поворот и маленький грузовичок со стрелками в кузове скрылся за вербами.
– Кто это был? – спросил он.
Признаться честно, то был не самый подходящий вопрос в данный момент, но никакой другой он просто не смог бы сформулировать.
– Говнюки это были! – прохрипел водитель – Дорвались до стволов и палят теперь во все, что движется.
– А откуда у них пулемет? – вопросы из него по-прежнему выскакивали самые несуразные, не иначе как – от волнения.
– Какой еще тебе пулемет? – возмутился водитель – Ты что, глухой? Ведь до боли же знакомый звук. Я "калаш" всегда по звуку узнаю. Постой, ты что, не служил?
Всеволод отрицательно помотал головой и пробормотал: "Нет". Он хотел добавить, что закончил курсы Осоавиахима и не раз стрелял из трехлинейки, но ни о каком "калаше" слыхом не слыхивал.
– Извините, а вы кто? – неожиданно спросила женщина.
Этот вопрос застал его врасплох. Действительно, кто же он? Назвать свою фамилию? Это несложно. А вот какой эпитет к ней добавить? Комсомолец Ланецкий, инженер Ланецкий или заключенный Ланецкий? Из комсомола его вычистили, с работы уволили, а из заключения он бежал. Так что ничто из перечисленного не годилось.
– Меня зовут Сева, Всеволод – ответил он, лихорадочно думая, что бы еще сказать, но женщина сама ему помогла.
– А я Марина. Мы из Александровки, бежим от бомбежек. Вы сами откуда? Местный? Я смотрю, вы так, в чем были и бежите.
Он судорожно кивнул. Под телогрейкой у него был вполне приличный светло-бежевый свитер ангорской шерсти, купленный им в автолавке. Фургон приезжал в их шарагу дважды в месяц и от щедрот НКВД перепадало достаточно, чтобы скромно приодеться. Ботинки на нем тоже были почти новые, а вот серую вязаную шапку верблюжей шерсти ему прислала мать в передаче. Брюки, правда, подкачали. Это были рабочие брюки с пятнами солидола и смазки. Обмотки тоже выглядели не слишком прилично, но выбора не было, так как все носки он давно порвал, а новых не завозили уже давно.
– Вас бомбили? – продолжала допытываться женщина.
– Один раз – сказал он наугад, лишь бы только хоть что-нибудь сказать.
Вряд ли это удовлетворило женщину, но в этот момент у нее на коленях заворочался спящий ребенок и она сразу забыла о подозрительном попутчике. Минут двадцать загадочный автомобиль двигался в полном молчании, если не считать фантастически тихого звука работающего мотора. Внезапно, машина начала тормозить. Но это не было резкое торможение перед внезапным препятствием, когда визжат тормоза и приседают подвески. Нет, то было осторожное снижение скорости опытным водителем, который увидел впереди нечто непонятное и не знает, что предпринять.
– Блин! – непонятно произнес водитель – Все, приехали! Здравствуй, бабушка!
Было совершенно неясно, какое отношение имеет бабушка водителя к происходящему, но его беспокойство легко можно было понять. Дорогу перегораживала невысокая баррикада из дощатых щитов, щедро обвитых колючей проволокой.
– Опять блокпост. Кто на этот раз? – нервно спросила женщина.
– Это ж укропы! – произнес голос с правого переднего сиденья – Ты что, не видишь, мама?
Оттуда, повернув голову смотрел подросток лет семнадцати, в очках со странной оправой.
– А ну-ка, быстренько, забыл это слово! – нервно потребовал водитель – Ты теперь тоже жовто-блакитный! Если, конечно, жить хочешь. Верно, мать?
Сидящая рядом со Всеволодом женщина молча кивнула. Только тут он заметил, как она странно одета, На ней был короткий приталенный реглан из совершенно непонятного и удивительно гладкого материала, да к тому же и на молнии. Одежду на молнии Всеволод видел только один раз, когда к ним в шарагу приезжал молодой инженер из Куйбышева – пижон и задавака. Но на том был летный реглан темно-коричневой кожи, а эта куртка была небесно-голубой. Ну не ходят нормальные люди в одежде такого цвета. Ниже реглана на даме были брюки. Но какие! Ему приходилось видеть и бесформенные рабочие штаны подсобниц и широкие брюки на Марлен Дитрих в немецких фильмах. Эти же брюки были в обтяжку и какого-то темно-синего цвета. Обувь странной формы и вообще была трехцветной, ярких тонов, слегка приглушенных налипшими пятнышками глины. Все это великолепие, и удивительная одежда, и странная обувь, вызывали, почему-то, мысли о цирке и разноцветных клоунах. Но ленинградский цирк и яркие краски остались где-то там, далеко-предалеко, за мрачным монохромом заснеженных лагерей и блеклыми цветами их шараги под Тихвином. Впрочем, задумываться об этом было некогда, потому что от баррикады, которую почему-то называли блокпостом, к ним уже шли вооруженные люди.
Их было трое и одеты они тоже были странно. На двоих были бесформенные пятнистые куртки, мешковатые и столь же пятнистые штаны, заправленные в высокие ботинки. На форму это было не слишком похоже и лишь круглые каски на головах выдавали в них военных. Ну и, разумеется, оружие. У первого косо вниз с ремня свисал карабин, подобный тем, которыми размахивали "говнюки" в грузовичке. У второго также косо висело поперек груди нечто громоздкое, что, скорее всего, было ручным пулеметом. Длинный ствол этого чудовища почти что касался земли. Вдобавок ко всему, у обоих из-под курток виднелись заткнутые за пояс огромные пистолеты без кобуры. Третий был одет иначе. Такая же пятнистая одежда на нем более напоминала китель, что подчеркивала портупея с командирским планшетом. Его оружие висело наискосок через грудь, также как и у первых двоих, но было совсем уж несуразным: черным, коротким и массивным, с тонким стволом. На ногах третьего, вероятно командира, красовались светло-коричневые башмаки с высокой шнуровкой, в которые были заправлены брюки, тоже пятнистые, но поаккуратнее, чем у первых двух. Эту картину дополнял совершенно опереточный берет темно-малинового цвета, сдвинутый на ухо. Как пестротой одежды, так и разнообразием вооружений, эта троица больше всего напоминала отряд "зеленых" времен Гражданской.
На рукавах у всех троих были нашиты крупные, бросающиеся в глаза, нашивки желто-голубого цвета. Таких же цветов флаг на коротком древке провис над баррикадой – ветра не было.
Не может быть! Неужели петлюровцы? Куда это меня занесло? Наверное, он думал вслух, потому что водитель снова зашипел:
– Заткнись, гнида! Какие тебе "петлюровцы"? Погубить нас хочешь?
– Извините… – пробормотал он.
А ведь ему уже приходилось видеть такие флаги… Было ему тогда всего семь лет. Многое исчезло, испарилось, улетучилось из его избирательной памяти. Многое другое, однако, он помнил, и помнил с такой фантастической точностью, как будто это происходило вчера. Был тогда такой-же сентябрь, как и в этом таинственном месте, но только то был сентябрь 18-го года, второго года Революции и первого года Гражданской. Мама, отчаявшись прокормиться и растеряв в войнах и революциях всех родных, повезла его из голодного Петрограда в сытный Казатин, где жил дед Панас, ее свекор. Дорогу он не запомнил, лишь осталось ощущение постоянного холода и боли в подведенном от недоедания животе. Уже потом, через многие годы, он восхищался героизмом матери, провезшей его в одиночку через многочисленные заслоны, границы и охваченные войной территории. Принял их дед неласково, но все же приютил в своем домике на окраине, в котором, кроме самого деда, жила свекровь – баба Катя, и незамужняя дочь стариков – горбатая и подслеповатая Ганна. Дед продолжал работать смазчиком на железной дороге, получал то зарплату, то паек от все время меняющихся властей, и поэтому семья не бедствовала. Да, он был неласков, но не жаден, поэтому они с матерью больше не голодали. Помогал им и обширный огород за домом, где росли, в основном, картофель и свекла, поэтому неудивительно, что его первые слова на украинском были "бульба" и "буряки". А уже через пару месяцев он свободно общался с соседскими мальчишками, выслушивая ехидные замечания насчет "кацапского говора". Потом, значительно позже, вернувшись в Петроград, он долго не мог избавиться от фрикативного "Г" и выслушивал по этому поводу такие же ехидные замечания.
Через пару месяцев, когда Сева уже свободно говорил по-украински, а мама устроилась уборщицей в несуразное здание казатинского вокзала, они наконец стали своими в семье деда Панаса. Он помнил, как поздней осенью, в ноябре, маме попал в ногу осколок от неизвестно кем выпущенного шального снаряда. В тот день дед, по-прежнему ворча, привел в хату доктора, молодого житомирского еврея, бежавшего с семьей от погромов. Всеволод очень хорошо помнил мамину закушенную губу и помнил сосредоточенное, напряженное лицо доктора, с носа которого постоянно сваливалось пенсне. А вот крови он не помнил совсем, хотя крови, наверное, было много. Мама вскоре начала вставать, долго хромала и все рвалась помогать бабушке по хозяйству. Та сначала отмахивалась, а потом как-то раз устало опустилась на табуретку и тихо сказала:
– Давай-ка, дочка, лучше вместе поплачем об Андрюшеньке!
Андреем звали его отца, погибшего в Галиции в самом начале войны. Вскоре мать вернулась на работу и дед как-то сразу изменился, стал добрее, оттаяв наконец после смерти сына. Теперь старый Панас уже не звал его "эй, ты, хлопец", а называл Севкой или даже Всеволодом. Иногда он торжественно именовал его "Андреичем" и тогда по его грубоватому лицу пробегала осторожная улыбка. А в декабре в город вошли петлюровцы.
Через неделю, когда молва об еврейских погромах начала медленно расползаться по городу, в хате деда собралась очень странная компания. Маленький Севка в тот вечер прятался за грубкой, все видел и слышал, но почти ничего не понял. Смысл услышанного стал ему ясен лишь спустя многие годы, когда деда уже не было на этом свете. А тогда дед сидел на лавке, прямой, неулыбчивый и, не мигая, смотрел на сотника.
– Не дай боже, уважаемые, козаки узнают об этом моем визите – говорил сотник – Надеюсь, вы понимаете, чем я рискую?
– Не иначе, как вам вспорют живот ржавым клинком и намотают кишки на шею? – усмехнулся Рувим – Разве не так ваши гайдамаки поступают с еврейскими женщинами? Зато вам не разобьют голову о камень, как еврейскому младенцу. Тоже хорошо.
Рувим говорил с сильным еврейским акцентом, забавно смягчая шипящие в окончаниях. Казалось, этим он смягчает смысл своих страшных слов.
– Это отдельные эксцессы и я их не одобряю! – отрезал сотник.
– Эксцессы, говоришь? – переспросил Панас – Мой Ондрий тоже знал всякие умные слова, но его убили австрияки. А я вот умных слов не знаю, так по мне это зверства, а никакие не твои эксцессы.
– Дело ваше. Только знайте: защитить вас я не смогу. Поэтому уходите и уходите как можно скорей.
– Нам уже некуда идти – это очень тихо сказал житомирский доктор, тот самый, что лечил маму.
– Тогда вы умрете – пожал плечами сотник.
– Не мы одни! – резко произнес Рувим – У нас тоже есть оружие. Немного, но есть.
Рувим был сапожником и жил через две хаты от деда Панаса, как раз там, где начиналась и шла вниз в балку, еврейская слобода. В теплые дни он работал во дворе за плотно сбитым небольшим столом под сливой и Севка любил смотреть на это. Его восхищало умение Рувима загонять тонкие маленькие гвоздики в сапожную подошву одним точным и резким ударом. Сейчас сапожник точно так-же вбивал резкие слова – одним беспощадным ударом. Мягкие окончания слов тоже куда-то пропали.
– Вы, что, собираетесь оказать сопротивление? – в голосе сотника послышалось искреннее удивление – Это же просто глупо. Вам не выстоять против закаленных бойцов, к тому же прекрасно вооруженных.
– Возможно – сказал доктор – И даже наверняка. Но и у вас будут потери. Интересно, что на это скажут козаки?
– Вот если бы среди нас был один-другой Ротшильд, так может оно того бы и стоило – голос Рувима снова стал мягким, даже вкрадчивым – Но где же я возьму вам здесь Ротшильда? Таки может не стоит умирать за дырки в моих карманах?
На это сотник только неопределенно пожал плечами.
– Не думаю – мягко сказал доктор – что ваши гайдамаки настолько ненавидят какого-нибудь еврейского старика, что готовы идти под пулю.
– Не будьте столь уверены – задумчиво произнес сотник – Если по-правде, то я и сам евреев не люблю.
– Но вспарывать животы не пойдете – голос доктора почему-то перестал быть мягким – Так ведь? Ведь не пойдете?
Он смотрел на сотника в упор и тот молчал, но не отводил взгляда.
– Вот что я вам скажу, пан сотник – доктор уже почти кричал, но это был спокойный полукрик уверенного в себе человека и не было в нем даже капли истерии – Именно в вас все зло! В таких, как вы! Которые сами не убивают, но не мешают убивать другим.
Сотник по-прежнему молчал, лишь по его скулам ходили желваки.
– Вы ведь образованный человек. Как минимум гимназию закончили – продолжил доктор значительно тише – Неужели вы не понимаете, что ничего путного нельзя построить на крови? И через годы и годы, когда вы уже не захотите никого больше убивать, вам припомнят эту кровь и все ваши благородные замыслы будут тщетны.
– Так мы ни до чего не договоримся – неуверенно пробормотал сотник.
– Мы уже договорились – дед Панас резко поднялся – Можете разломать пару еврейских лавок на вокзальной площади. И моли бога, если, конечно, ты в него веруешь, чтобы твои козаки на этом и угомонились.
Сотник тоже поднялся, надел, не застегивая, свою шинель с тремя звездами на синих петлицах и, не попрощавшись, вышел из хаты.
– Как ты думаешь, Панас, они придут? – спросил Рувим.
– Думаю, что не решатся – задумчиво ответил дед – Но вы, на всякий случай, приготовьте свой пулемет.
Петлюровцы разграбили и разрушили не две, а все еврейские лавки на вокзальной площади. Но в слободу они не спустились и погрома в Казатине не было.
…А теперь к их автомобилю приближались эти трое с такими же желто-синими нашивками на рукавах. У третьего, того, что в кителе, на его малиновом берете виднелся и до боли знакомый трезубец. Час от часу не легче! Кто же это? Тут он разглядел погоны на плечах третьего. Неужели белогвардейцы и петлюровцы опять сражаются вместе, как в 19-м? И все же, это лучше чем малиновые околыши. Теперь он вспомнил те давние слова Клауса.
– Этот двигатель, Сева, работает в нарушение всех законов природы – говорил Райхенбах – Боюсь только, что и законы природы не останутся в долгу. Особенно я опасаюсь нарушения времени. Ты, наверное, не представляешь, насколько опасно шутить со временем. Я тоже не представляю…
Дома Клаус учился в чешской гимназии и местным языком владел свободно. Поэтому русским он тоже овладел быстро и через два года после своего бегства изъяснялся легко, даже изысканно. Все же его немецкий акцент никуда не делся, он иногда коверкал слова и понять его порой было непросто. Поэтому в тот раз Всеволод подумал, что судетец просто неудачно пошутил. Больше Клаус не возвращался к тому разговору, наверное и сам сомневался в том, что озвучил. А вот сейчас его слова невольно припомнились вновь…
– Какой сейчас год? – тихо, надеюсь в душе, что его не услышат, спросил Всеволод.
Женщина, занятая спящим ребенком, не обратила внимания на дурацкий вопрос, водитель только крякнул, а парнишка на правом сиденье обернулся и посмотрел на него круглыми от изумления глазами.
– Ни хрена се… Ну, предположим, 18-й – осторожно сказал он.
Неужели установка Райхенбаха отправила его в прошлое и сейчас снова второй год Революции? Неужели снова голод, разруха и чересполосица разнообразных властей? Что-то не сходится. Не вписывается сюда удивительная машина, странная одежда женщины, непонятные слова и малиновый берет идущего им навстречу человека. Но эти мысли следовало отложить на потом, так как жовто-блакитная троица уже подходила к дверце водителя.
– День добрый! – приветливо произнес человек в берете – Кто такие?
– Откуда, куда, зачем?! – спросил солдат с карабином, посмотрев почему-то при этом на парня с ручным пулеметом, и они весело заржали, как будто было сказано нечто смешное.
– Беженцы мы – произнес водитель с заметным напряжением в голосе – Едем в Харьков, к родственникам. Вот мои документы.
И он протянул обладателю берета какую-то маленькую карточку с потрепанными краями. Тот небрежно взял ее двумя пальцами и посмотрел на просвет.
– Да на хрена нам твой документ. Ось кажи, будь ласка, котра година?
Эту странную фразу изрек пулеметчик и оба солдата снова согнулись в диком хохоте, хотя никто и не думал доставать из кармана часы.
– Сидай, хлопчику – ось бачимо що ні москаль!
После этих, казалось бы, бессмысленных слов, один из двоих вынужден был даже опереться на машину, чтобы не упасть от смеха. И все же было что-то неуловимо знакомое в этих дурацких фразах, но память снова подводила.
– Проезжайте – сказал человек в берете, мельком взглянув на пассажиров.
Он вернул водителю непонятную карточку, взял под козырек (никакого козырька у берета, разумеется, не было) и добавил:
– Счастливого пути!
Троица вернулась к баррикаде и двое в касках оттащили щиты, освобождая проход. Машина осторожно тронулась с места и медленно миновала штабеля каких-то ящиков, неестественно длинный броневик, высоко сидящий на множестве огромных колес и маленькую пушку с очень длинным стволом. Несколько солдат без касок, сидящих на здоровенном бревне, ели из открытых консервных банок, используя почему-то маленькие вилки, вместо привычных Всеволоду деревянных ложек. Автомобиль увеличил ход и вскоре застава осталась далеко позади. И только тогда он вспомнил, где уже слышал и про "который час" и про "садись, парень". Это был старый, замшелый анекдот про петлюровцев и китайца, только вместо "москаля" там фигурировал "жид".