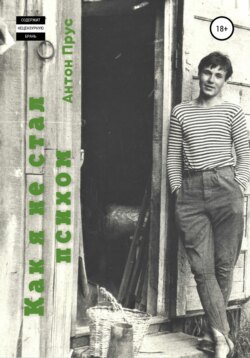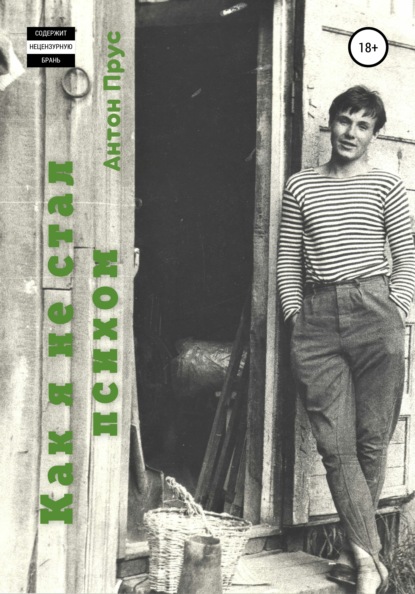Предисловие
Далеко не все поэты – гении, далеко не все писатели – выдающиеся. Например я: ни то, и ни это, да и в целом – ни то, ни се! Но однажды я прочитал дневник своего деда, мне его передал отец, – и дневник потряс меня. Дед писал в землянке, во время так называемой Зимней войны 1939-1940 годов. Ну, какой дед, почти что мальчик, двадцать три года… Писал он прекрасно, для молодого парня с четырьмя классами образования и бухгалтерскими курсами. Но, конечно, он не был писателем, да и не думал об этом, так записки военного завхоза для себя: природа, подчиненные, новости. Ничего особенно интересного. Но для меня жизнь деда сразу стала объемной, она приобрела перспективу. Настоящий поэт, который в школьном учебнике, – не живой человек. А отец, брат, прадед, это касается тебя. Как они справлялись со своими страхами. Какие стихи они писали. Понятно, что плохие, но какие? Про что? Про кого? И мне очень жаль, что миллионы людей выбрасывают свои юношеские стишки, не показывают их своим детям и внукам. А ведь все первые стихи ужасны, даже у Пушкина. А первые несколько томов полного собрания сочинений Чехова – это кошмарная дребедень. И если бы они стыдились своих начинаний, как Хлебников, спаливший большинство своих творений, то, может, и не стали бы тем, кем стали. Я решил использовать свои стишки, глупые, корявые, несовершенные, подражательные и смешные, и вставить их в такую же несовершенную прозу: вдруг какой-нибудь потомок решит стать гением, напишет стишки или рассказик, а тут ему книжка прадеда под руку попадется, и подумает потомок, мол, а я на фоне предка не так и плох, ну , не Пушкин, не сукин сын еще, но уж где-то на полпути! И мне на Небесах будет приятно, и потомку на земле какая-никакая, но помощь! Так что, дорогой потомок, ты главное не перепутай ничего, не сочти стишки и прозу хорошими, не вздумай им подражать, но учись у классиков, у которых мне поучиться не очень получилось из-за лени и отсутствия таланта. Но у тебя – получится! Ну, а не хочешь писать, так просто развлекись, – не у каждого предок в дурдоме побывал. Но на каждом углу не распространяйся, не думаю, что общество через сто лет стало терпимее к психам. И еще, я в молодости – так же не предмет подражания. Если бы я встретил себя поэта-неврастеника, то вряд ли бы узнал, вряд ли я бы себе понравился. Не уверен, что нравлюсь и сейчас. Поэтому и легко писать про того смешного молодого человечка. Но я и рад за него, хорошо, что он не видел ни своей глупости, ни опасностей, которые он избежал, это же прекрасно, что он писал плохие стихи, но не делал плохих дел, что встречается чаще. А ведь кто его знает, не встреть он дрессировщика медведей, может его жизнь и прошла бы за решеткой дурдома… Давайте порадуемся за него, как за слепого на шоссе, как за лунатика, идущего по крыше дома, но всегда возвращающегося в свою постель, чтобы не помнить своих ночных приключений!
Мои друзья – аскариды
Я так до сих пор и не понял, хорошо это было или плохо, что после испытаний на прочность психики в школе, я сразу попал в казарму, а по сути, в тюрьму, да еще с порядками, почище многих тюрем в приличных странах. Какая может быть воля у ребенка в семнадцать лет? Ее нет у большинства и в пятьдесят. Как мне удалось отбиться от настойчивых советов деда поступить в Суворовское училище, – не знаю, но я наотрез отказался даже ехать посмотреть на училище. Школа, девочки, книжки, рыбалка, горные лыжи, – взять все это и променять на черную форму суворовца??? Бред. С академией… моей воли не хватило. А тут еще и давление вообще всех родственников: от деда генерала, до тети с дядей, генетиков, а они по наущению деда врали мне про то, что в Военно-медицинской академии я могу заниматься биологией, так как там финансирование лучше. Не знаю, чем уж дед подкупил их, но этот обман сработал. И да, я сразу начал заниматься на кафедре биологии – полостной жидкостью свиных аскарид… Даже выступил на конференции, с руками, выпачканными голубой краской кумасси, я этой краской окрашивал ту самую полостную жидкость, даже на лбу были голубые разводы, краска не отмывалась ничем. На студенческой конференции начальник кафедры задал ядовитый вопрос, – не предлагал ли я свой научный труд советским свинофермам. Девочки из первого меда приехали на конференцию, они улыбались. Биология, что уж… И как далеко были свиные глисты от моей любимой ботаники, так далеко была реальность, которую я встретил во время курса молодого бойца сразу после поступления… Сдавать экзамены на природе было даже весело, особенно когда абитуриенты заперли старенького профессора биологии Тумко в помещении летней веранды, где проходили экзамены, он стоял внутри половину ночи, стучал тихонько в дверь: тук-тук-тук «Я профессор Тумко, пришел принимать экзамены по биологии»; тук-тук-тук «Я профессор Тумко, пришел принимать экзамены по биологии». И так несколько часов. Мы сидели в кустах и ржали, пока патруль не освободил его. Это было жестоко. Но молодость жестока и глупа. Потом я поступил, хотя на место и было 19 человек. Но не у всех 19ти был дед генерал. У многих были. Были и маршалы, и офицеры КГБ, и министры. Но тем, кто просто хотел стать военным врачом – им не повезло, по крайней мере я не знаю, кто бы поступил самостоятельно. Умные ребята были, точно умнее меня, но за ними всегда стояли большие погоны и хитрые интриги. А потом карма накрыла нас, – курс молодого бойца, КМБ. В первые же дни мы поняли куда попали: наряды, строевая ходьба, запрет на выход за пределы лагеря, крики старшин. Часть поступивших сориентировалась сразу и исчезла. Я попытался сбежать, но 13 родственников приехали и встали грудью на моем пути. Кто я такой, чтобы расстраивать столько людей, которые почему-то страстно мечтали, чтобы я стал именно военным врачом. Не обычным врачом, не ботаником – это было моей мечтой, а военным врачом, и они бы всю оставшуюся жизнь горевали, что я не военный врач. Их жизнь стала бы кошмаром. А я не такой ведь жестокий, и остался. Но душа сопротивлялась, и я заболел. Страшно стало колоть в правом боку. Меня срочно госпитализировали, где я лежал в палате с сержантом из Анголы. Его служба очень впечатлила меня, – у нас на КМБ хотя бы не расстреливали! Но радость службы в СССР меня не возбуждала, не смотря на уговоры моего кучерявого соседа по плате. Дискинезию желчевыводящих путей, очевидно психосоматического характера, быстро вылечили, и я вернулся в юдоль скорби и хождения строем. Я прощался с нормальной жизнь, прохаживаясь вдоль березовых посадок, гладил ладонями шершавую поверхность деревьев, грустно глядел на редкие подберезовики: куда они мне теперь? До суицидальных мыслей было далеко, но и прошлая, не такая уж веселая жизнь скрылась за оградой летнего лагеря Военно-медицинской академии. Новые друзья притирались характерами, новые начальники парализовали волю, мозг вырабатывал амнезию и анестезию. Так, в полусне прошло больше двух лет.
Ночные беседы с мозгами на простыне
В комнате было довольно холодно, так что пара учебников по анатомии примерзла к подоконнику, но мы согревались горячими историями о несуществующих сексуальных происшествиях в нашей жизни. Мы: я, Димка, Сергей и Миша – четверо курсантов Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. После отбоя, естественно, нельзя было заниматься, но завтра очередная пересдача зачета по мозгу, поэтому мы взяли себе одни маринованные мозги на комнату и, подложив под мозг полиэтиленовый пакет, они сочились своим маринадом и оставляли на простыне желтоватые пятна, разложив анатомический атлас, подперев голову рукой тыкали пальцами то в мозг, то в атлас. Мозг передавали по кругу по необходимости. Один читал и полуобнимал мозг, на случай если кто-то войдет, чтобы быстро накрыть мозг одеялом и уронить атлас на пол, другой тихонько бубнил латинские названия всяческих извилин, ямок и долей. Кто-то подремывал в ожидании своей очереди, а Серега рассказывал о своих сексуальных подвигах в отцовском гараже. Там у него было хорошо организованное подполье, куда приходили всякие друзья и девушки, ну, там и секс, и пьянки, и полный разгул. Как всегда, в мальчиковых фантазиях. Образы девушек смешивались с латинскими названиями, запах маринованных мозгов трупа с нашим потом. К этому примешивался запах водки и черноплодного варенья. Димка купил маленькую, а я притащил из дома банку варенья. Варенье в нашей комнате было овеяно легендами! Каждый день мы демонстративно приносили на завтрак варенье к чаю, это не запрещалось. Вот только хранить в комнате военной общаги его было нельзя. А наш Миша был марафонец, бегал много, поэтому и кличка у него была – Тушкан, да и маленький он был, поди одной картошкой питался в своей деревне, откуда он родом. Ну, вот он утром, во время обязательной зарядки, и приносил маленький полиэтиленовый пакетик с вареньем, в который отливал из банки, а банку прятал в большой трещине ограды одной из клиник, пока мы грелись и досыпали на горячей батарее в каком-нибудь соседнем подъезде. Утром нас в 6:40 выгоняли улицу, а там уж никто нас не контролировал, старшины и сержанты обычно досыпали до завтрака, но важно было вернуться в 7:20. Тушкан загружал вареньице, а при входе в общагу, где нас пристально оглядывал старшина Шадрин, он запихивал пакетик в свою шапочку. Шадрин каждый день нам устраивал шмон, но варенье найти не мог. А Тушкана никогда не осматривал, Миша был положительным курсантом, да и его потная шапочка не могла вызвать желание поискать там варенье. Ну, вот, все это витает в воздухе: тестостерон, пот, водка, варенье, трупный запах, эротика, латынь… и тут мы явственно слышим шаги старшины курса Шадрина, топающего к нашей двери. Дверь была самой первой, прямо напротив тумбочки дежурного и двери начальника курса, Пиночета, или капитана Ольшанского. Эта близость выработала в нас молниеносную реакцию. Однажды Гриша Литвак, выдающийся, талантливый и самый уважаемый товарищ, принес в нашу комнату трехлитровую банку с пивом. Сержанты его не трогали, он помогал им по учебе, вот он и смог внести в общежитие пиво незаметно. Но начальник курса – другое дело, мерзкий тип, злобный закомплексованный монстр с прилизанными назад волосами, в квадратных очках, за что Пиночетом и был прозван, а также за свою жестокость. Так вот, стоим мы вокруг пива на столе, роняем слюни, и вдруг, курсант Дежурный как заорет: «Курс, смирно! Дежурный по курсу курсант Дежурный.» Дежурный – это его фамилия, ну, а дежурный по курсу – это суточный наряд такой. Тумбочка в трех метрах от нашей двери, и этот падлюка, начкурса, любил нырять в одну из ближайших комнат что бы застать курсантов врасплох. Два широких как на лыжах шага – он открывает нашу дверь… Гриша, одно слово – гений, хватает кипятильник, кстати так же запрещённый, но не такой криминальный как пиво, втыкает его в розетку и кидает в пиво. Ольшанский: Поспелов, опять чай!? Три наряда! Я: «Так точно товарищ капитан». Почему я? Потому что я старший по комнате, назначенный Пиночетом из мести, чтобы все проблемы в комнате были только моими: плохо заправленные кровати, в смысле под микроскопом можно рассмотреть складочки и пылинки, и все такое прочее. Просто ко мне иногда приходил дед, генерал, и приказывал капитану отпустить меня, курсанта, собственность Пиночета, его мясо, его раба, и Ольшанский должен был меня отпускать, скрежеща зубами, передергивая плечами, сжимая губы до синевы. А потом мстил, разнообразно и мелко. Но больше всего любил выводить из строя на построении и ласково говорить: курсант Поспелов, три шага вперед! … Товарищ курсант, вы сено сушите в комнате? Это я однажды зверобоя собрал на сборе картошки, куда нас всем курсом вывозили. Или: Кто видел кости курсанта Поспелова? А это мы взяли на анатомии мешок костей черепа, а они пропали из комнаты, нам пришлось отрабатывать несколько нарядов за это. А ведь кто-то из курса спиздил, а может и сам Пиночет. Кстати, те самые мозги, которые мы тут изучаем, пока Шадрин медленно крадётся к нашей комнате, – потом я их положил на антресоли, между шапок всяких, и они покрылись плесенью, ну, забыл я вернуть их на кафедру анатомии. Как обычно: курсант Поспелов – три шага вперед. Сладенькая улыбочка на квадратном лице маньяка-Ольшанского, – Поспелов, вы в курсе, что у вас мозги заплесневели? Курс ржал совершенно не по уставу! Ну, так вот, крадётся старшина к нашей двери, видимо увидел свет у нас, когда курил снаружи. Резко хватает за ручку двери, открывает, одновременно с шумом открытия двери наши атласы падают на пол, мы изображаем невинное похрапывание, мозги прикрыты моим одеялом. Свет выключен! Мы же умные мальчики, – ручку двери, чтобы она открылась, нужно опустить вниз, к ней привязана ниточка, ниточка к пластырю, пластырь на выключателе. И вот – темно. Шадрин не включая свет:
Почему беспорядок?
А, что, где, а, это, тварьщь старшина, перед отбоем повторяли анатомию.
Убрать!
Закрывает дверь. Тишина, и я понимаю, что старшина стоит за дверью, слушает. Димка же давится смехом, выдыхает, и довольно громко комментирует: «Пинкертон хуев!» Старшина крякнул за дверью, и ушел. Зачет мы на следующий день не сдали, – лучшие сдавали на пятый раз, а рекордом было восемнадцать. Ну, зато эти латинские названия мы и через 40 лет помним. Зачем, – не знаю.
Сумасшедшие моего курса: клептоман, шизофреник, дебил
Курсант спит, но мысль работает! Маленькая, трепещущая, и охваченная пламенем душа тосковала о свободе! Да, можно сходить в увольнение и съездить к девушке, подержать ее ручку в своей полчасика, и бежать обратно. Можно даже в летние каникулы съездить на рыбалку, и провести в лесу пару недель, когда кажется, что и нет никакой казармы, никаких дебильных начальников, – ведь лес такой же, как и раньше, электрички, пьянчужки на платформах, круглые листья водяных лилий, мелкая рыбешка у дна и большие щуки, пойманные на жерлицы, – все такое же, как и раньше. Почти такое же. Только сейчас ты весь покрыт каким-то слоем пыли, и ее не стереть, как ни мойся, и эта пыль от сапог, когда мы идем строем в баню по Литейному мосту через Неву, это пыль от ветра на картофельном поле, пыль от циклевания пола стёклышком в казарме. Это пыль от высохшей за два году души, – ты идешь, а она осыпается за тобой серой пылью… Если такая жизнь – это теперь норма, то может лучше быть ненормальным? Невольно начинаешь присматриваться к тем, кто не может быть таким как все. Кто это? Это наши сумасшедшие. И на фоне ровного строя одинаковых курсантов – психи особенно видны. В нормальной жизни, когда все такие разные, живут каждый у себя дома, одеваются кто как хочет, ложатся спать когда кому вздумается, – ненормальные могут спрятаться. А может просто, когда никто на тебя не кричит, – и душа кричит меньше, и безумие может долго спать внутри. В казарме все иначе. Ровные ряды одинаково одетых и одинаково подстриженных подростков, и любое отличие – на виду. Безумие, то, что ты не можешь контролировать, сразу выскакивает из тебя. Сержант Гузименко прекрасно пел. Он был с западной Украины, и когда мы шли строем, он запевал свои высоким альтино:
Розпрягайте, хлопцi, конi та лягайте спочивать,
А я пiду в сад зелений, в сад криниченьку копать.
Маруся раз, два, три – колина, чернявая дивчина,
В саду ягоды рвала.
Пел он пел, а потом поссорился со старшиной курса, и тот запретил Гузименко петь. Сержант стал каптерщиком, заведовал кладовкой, подсобным помещением, где складировались всякие швабры, ведра, зимняя одежда иткакие-то вещи. Трудно сказать, что происходило у него в душе. О самом тяжелом мы не только не делимся, но можем и сами не знать – что там ворочается в груди. Только сержант запирался в каптерке один, а по ночам ходил курить в туалет. Через пару месяцев кто-то заметил, что сержант взял чужую красивую ручку. Вор! – тихонько проносилось по рядам марширующих курсантов. И какой-то идиот ночью прибил гвоздями его сапоги к паркету. Утром, перед зарядкой, сержант вставил ноги в сапоги, но пойти не смог, упал, а все стояли вокруг него, в трусах, и ржали… Еще через месяц у него в каптерке нашли несколько сотен ручек, карандашей, десятки тапочек, сотни ложек и вилок, и еще кучу ненужных вещей. Гузименко пропал. Говорили, что он в клинике психиатрии с диагнозом шизофрения, и клептомания – это проявление его болезни. Никому не было стыдно за тот смех над больным сержантом. Мы все были здоровыми и хорошими, не сумасшедшими. Украинцам везло на безумие, а мы, ленинградцы, даже злорадствовали, ведь хохлы называли наш любимый город – городом казарм и помоек… В любом случае, никакого сочувствия мы не испытали, когда на построении старшина курса Шадрин, очень провинциальный, с огромной головой и лицом якута, хотя был одесским евреем, приказал выйти из строя киевлянина Подбельского. Парень был странным: очень длинный, но с короткими ногами, сутулой спиной, огромным подбородком, очень тихий. Товарищи курсанты, зычно сказал старшина, наш курсант первого курса Подбельский поставил жене генерала клизму. Не туда. Товарищ курсант, зачем вы это сделали? Ну, я, это, товарищ старшина, она же, там же, я не понял, а потом пошло, ну я и… Подбельский, вы что нас веселить тут собираетесь? Жена боевого генерала написала на вас жалобу, а вы юродствуете!? Подбельский стоял и шевелил пальцами рук, как будто искал куда поставить клизму, он смотрел на нас всех и улыбался, но при этом плакал. Потом вышел Пиночет, и отчеканил, что за поведение Подбельского весь пятый взвод будет мыть отделение этой клиники. Я не видел и не слышал Подбельского, наверное, с полгода, он продолжал учиться, точнее тень от него. Потом исчез и он, и тут уже нас собрали и на построении и сообщили, что у Подбельского шизофрения. Мы невольно оглядывались, как бы смотрели, кто же тут еще псих, многовато шизофреников для одного года учебы. А ведь мы сутки отвечали на вопросы психолога, проходили собеседования. Откуда же они взялись? Но шизофреников больше не было, а вот дебилов было довольно много, но они могли спокойно становиться военными врачами. Ну, сержанты, прапорщики и старшины – это само собой, не уверен, что они могли бы работать парикмахерами, и вот как некоторые из них стали хирургами? Иногда мне снятся кошмары, что один их тупых прапоров оперирует меня. Но и среди рядовых курсантов были удивительные идиоты. Но идиоты отлично маршировали и громко отвечали: «Так точно товарищ капитан!». Ставить клизму не туда – это преступление, а быть идиотом, это нормально. На зачете по анатомии одному из них нужно было рассказывать про женскую матку, ему выдали срез матки, вклеенный между двумя большими стеклами. Матка орган довольно маленький, даже с трубами. А клея при изготовлении среза не пожалели, и он занимал огромную площадь, и матка занимала процентов десять площади посередине. Наш идиот не мог ответить ни на один вопрос, и на просьбу вышедшего из себя преподавателя: ну, покажите, где тут матка? Ваня обвел карандашиком по краю заливки клея, то есть сантиметров 80 по периметру. Препод остолбенел, и смог только вымолвить: курсант, ведь мы изучаем анатомию человека, а не слона! Уйдите с моих глаз! Мой полусон продолжался, но что-то где-то в душе шевелилось: видишь, как хорошо быть психом, – тебя не будет тут. Безумие – это билет на свободу. Рыбалке, лыжам, родителям, домашним растениям – им все равно, псих ты или нормальный. Но не было понятно – что там, в клинике психиатрии, что это такое – быть шизофреником… Пока же можно время от времени быть просто дебилом, идиотом, если уж совсем невмоготу… и я ходил, придавая лицу идиотское выражение, чем очень злил начальство, а особенно тем, что хлястик на моей шинели всегда, ну, правда, товарищ старшина, только что украли, а в моей фуражке не было металлического ободка, который придавал лихой вид внешнему виду курсанту элитной военной академии! Некоторые сержанты заказывали себе фуражки с увеличенными полями, почти сомбреро, это им казалось верхом крутости. Поля моей фуражки – уныло висели, отражая мое настроение.