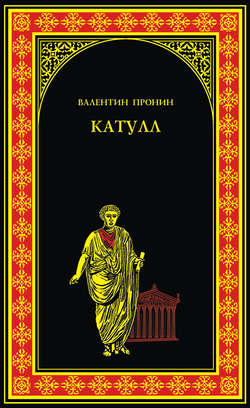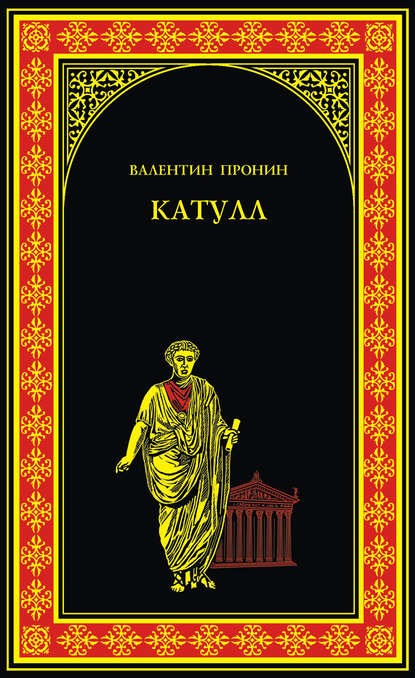ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Во времена Катилины жил в Риме «латинский Пушкин» – поэт Валерий Катулл.
А. Блок
I
Римские дороги прокладывали рационально и тщательно, с отличным знанием дела. Тесаные плиты цементировались на многослойной основе из песка и гравия со стоками для ливневых вод; над низинами поднимались виадуки, сквозь горные хребты пробивались тоннели и коридоры. Дороги опоясали Италию. Важнейшие из них тугим узлом стягивались в сердце республики, Рим завоевывал, процветал, строился. Нескончаемые обозы двигались к нему в палящую жару и под ледяными дождями, днем и ночью при факелах. Сильные мулы выстукивали копытами дорожные ритмы, терпеливо склоняли рога медлительные волы, тащившие доверху нагруженные, неуклюжие и тяжелые, как осадные орудия, телеги с высокими бортами. Колеса громыхали и скрежетали на выбоинах, оси трещали под давлением огромных глыб желтоватого травертина, тенарского и тиволийского мрамора.
В самом начале весны, ранним утром, в составе длинного обоза, направлявшегося к столице по Фламиниевой дороге, катила ничем не примечательная повозка с навесом от дождя и привязанным к кузову багажом. Угрюмый умбр[1], погонявший мулов, не то напевал, не то бормотал что-то невнятное себе под нос. Около него дремал бородатый старик в грубой одежде селянина, а позади, удобно расположившись под навесом, толстяк лет сорока пяти кивал под дорожную тряску сизо выбритым, плавающим в складках жира лицом. Губы толстяка беспрестанно шевелились, выполняя не только словообразовательную функцию, но и выражая множество разнородных чувств в зависимости от содержания слов, льющихся неудержимым потоком. Живость и завидная связность его речи доказывали навык опытного говоруна, для которого способность обойти хитростью с помощью всевозможных доводов и уловок составляла немаловажную часть успеха в повседневных делах. Говорливый толстяк был агентом куратора государственных зернохранилищ и возвращался из северных италийских областей, где заключал договоры о поставках пшеницы с местными оптовыми торговцами. Звали этого энергичного дельца Олимпий Туск, а его красноречие предназначалось для ушей некоего Катулла из Вероны. С папашей молодого веронца у Туска сложились приятные отношения взаимопонимания и симпатии. Почтенный муниципал[2] посылал своего отпрыска в Рим, надеясь на его будущее преуспеяние в коммерции и политике. Туск считал такие надежды наивными, тем более что сынка-то, по-видимому, больше увлекали не тщеславные отцовские замыслы, а пресловутые римские соблазны. Мнение Туска о его склонностях было вполне определенным. Катулл слушал римлянина с напряженным любопытством, и, посмеиваясь, тот подливал масла в огонь.
– Скандалы, измены и разводы… – говорил он, произнося гласные с придыханием на греческий лад, принятым у столичных модников. – Ты не представляешь, милейший, живя в своей тихой провинции, до чего дошло в Риме падение нравов. И ничего уж нельзя поделать, всякие усилия что-либо изменить – бесполезны. Больше ста лет назад великий деятель республики Порций Катон[3] сетовал, упрекая сограждан: «Все народы господствуют над женщинами, мы же, господствуя над всеми народами, рабы женщин». Он и тогда-то был прав, а сейчас оказался бы правым вдвойне. Римские матроны растеряли остатки стыда, меняя по много раз мужей и любовников, а некоторые не отказываются и от сожительства с собственными рабами. Неудивительно, что супружеская верность кажется им жалким прозябанием. Все виды разврата процветают в Риме, и в них обвиняются знатнейшие нобили[4], да, да! Какой пример для молодежи! А лупанары[5] переполнены женщинами покоренных стран: там и гречанки, и лидийки, и золотокосые фракиянки, и сириянки с глазами серн… там иберийки, что пляшут, как вихрь, и египтянки, хрупкие, но неутомимые в любви, есть и нумидийки – у них кожа цвета каленого каштана…
Туск лукаво нашептывал, забавляясь вздохами молодого веронца, и чем дальше, тем больше сам увлекался своими россказнями.
– Когда-то консулы и сенаторы довольствовались в обед ячменной похлебкой, куском вареной свинины и чашей разбавленного вина… – Туск лицемерно закатил глаза, думая о праведной жизни глубоко почитаемых предков, как об отвратительном варварстве. – Но теперь каждый состоятельный гражданин потчует гостей фазанами на вертеле и печеными павлиньими яйцами… – Почтенный делец не без гордости причислял себя к знатокам изысканной кулинарии. – Откормленных желудями и виноградными выжимками кабанов привозят в Рим из Эпира, а осетров величиной с целое бревно доставляют живыми с далекого Меотийского озера…
По самодовольному и вдохновенному виду Туска было понятно, что он сел на своего любимого конька. В глазах веронца мелькнула искра тайной иронии: настало время и ему посмеяться украдкой над толстяком и над его низменным пристрастием.
– Лукринские, байские, тарентские устрицы с керкирским лимоном тают на языке… – ворковал Туск, тряся подбородками и глотая слюну. – Начиненные маком перепела, паштет из соловьиных языков, жаркое из летяг и соней, тушеные с полевыми грибами поросята-сосунки… – измученный вожделением обжоры Туск замычал и продолжал поспешно, чтобы не ослабить паузой впечатления. – А вина… Боги всеблагие! Кроме несравненного фалерна, кроме божественного массикского, ты можешь усладиться вкусом греческих, сирийских, иберийских – густых, как мед, смешанных с вываренным фруктовым соком и потому ужасно крепких. Ты будешь видеть переливы и блеск солнечной влаги, слышать бульканье и журчание красных, как кровь, розовых, как заря, желтых, как золото, светлых, как рассветное небо, винных струй и фонтанов…
Расхваливая яства и вина, сноровистый финансист превращался в поэта. Он пыхтел, будто запаленный скакун. Остановившись наконец и сообразив, что поведение его перешло границу приятной общительности, Туск взглянул на веронца плутовато, рокотнул умным, несколько смущенным смешком. С комическим жестом извинения Туск наклонил голову, и круглая войлочная шляпа свалилась ему на колени, открыв вспотевшую плешь. Катулл тотчас использовал неловкий жест толстяка, как повод для смеха, разрушающего всякую натянутую благопристойность.
Увидев в очередной раз придорожный постоялый двор, Туск и Катулл вылезали из повозки и поднимались на второй этаж гостиницы. Трактирщик, предупрежденный рабами Туска, уже хлопотал об устройстве отдельной комнаты.
Постоялые дворы напоминали праздничные торжища: крики, суета, пьяный гогот; доверенные богатых торговцев, подрядчики, бродячие актеры и трактирные девки, пилигримы, направлявшиеся к знаменитым святилищам, и просто добропорядочные жители городов и селений, путешествующие по своим делам на лошадях и мулах, в двуколках и пешком, в одиночестве, шумной компанией или присоединившись к торговому каравану. За кружкой вина походя заключались сделки, ссорились, играли в кости, жульничали, сплетничали, скабрезничали, во все горло обсуждали политические новости и военные успехи римских военачальников. Этот трактирный сброд, эти вспыльчивые, крикливые италийцы – граждане и бесправные – утопали в пустых бреднях, суеверных страхах, нелепых пророчествах и страстной лихорадке наживы. Среди оглушительного гвалта только возчики сохраняли степенность и молча ели полбянную кашу, овечий сыр, хлеб и лук, запивая еду разбавленной кислятиной, потом отдыхали немного и возвращались к повозкам – поили и кормили скотину. Снова слышалось хлопанье бичей, понукающие возгласы, скрип колес с привизгом и надсадом… Обоз трогался и вползал на дорогу.
Надо сказать, Олимпий Туск давно приметил некоторые странности в поведении молодого веронца: обычно внимательный и любезный, тот внезапно замолкал посреди самого оживленного разговора, обводил глазами ровно голубеющий небосвод, будто потерял там что-то важное, изумленно таращился на голые ветви платанов или подолгу следил за полетом ворон, галок и всякой щебечущей мелочи. Вид у него бывал при этом до смешного сосредоточенный. Может быть, он подвержен приступам невменяемости или с деревенским простодушием силится по птичьему полету разгадать предсказания богов? Так или иначе, временами Катулл становился глухим к болтовне всезнающего римлянина. Чрезмерно вежливым такое поведение не назовешь, но Туск не упрекал Катулла: он считал себя слишком просвещенным человеком, чтобы обижаться из-за пустяков.
II
Под надоедливый скрип колес и мерное покачивание проплывали по сторонам городки и селения, постоялые дворы и таверны. Ближе к Риму появились богатые виллы среди голых еще маслинников и садов. Вокруг вздымались невысокие горы, заросшие лесом, курились теплыми испарениями влажные скаты полей, на которых хлопотливо копошились согбенные фигурки земледельцев. Вслед обозу с лаем бежали взъерошенные деревенские псы; россыпью и парами, с граем, писком и щебетом носились над головой растревоженные весной птицы. За Окрикулом по широкому мосту переехали в среднем течении Тибр, грязный, пенистый, урчащий, набухший от февральских дождей, оставили позади Умбрию и оказались в Этрурии, области древних торговых городов и обветшавших святилищ. А когда возчик произнес хрипло «Фидены», Катулл почувствовал невольное волнение: до Рима оставалось рукой подать.
– Жаль, что мы едем не двумя месяцами позже, ты бы поразился красоте этих мест, – говорил Туск, бойко шаря по окрестностям отвисшими в подглазных мешочках, слезящимися от избытка энергии глазами. – Сейчас все здесь голо, а летом фиденские плантации роз и фиалок великолепны. Клянусь жизнью, они не уступают прославленным садам Кум и Неаполя! Мои предки, судя по фамилии, происходили из видимой нами, благословенной страны[6].
Туск расхваливал Этрурию, но это был уже Лаций. Из-за раскидистых платанов и сосен белел полированный мрамор. Храмы с колоннадами и фамильные склепы знати блистали на солнце, окруженные строем островерхих кипарисов. Гул дороги усиливался, тревожно нарастал, учащая удары сердца. Туск не смолкал ни на мгновенье, беспокойно вертелся и размахивал руками, потом сорвал с головы войлочную шляпу:
– Хватит прикрывать темя! В Эреб[7] варварский колпак! Приехали!
Холмы горбами выпирали, лезли к дороге… Усадьбы, каменные беседки, бедные домики все копились, копились… Что-то необъятное синело вдали, за холмами, темнее неба и леса.
Туск взглянул на Катулла: веронец сдержанно улыбался, а глаза были испуганные. Нет, что ни говори, малый все-таки странноватый… Чему он хмурится? Чтоб тебе лопнуть, дуралей! Хохочи, радуйся!
– Смотри, Катулл, вон там Рим!
Сбоку, в безлистных деревьях, огромным щетинистым чудовищем громоздился холм Пинций, за ручьем лежало Марсово поле – обширная, плотно утоптанная, местами выложенная камнем пустошь, на которой, как известно, происходят смотры отправляющихся в поход легионов, учения новобранцев, шумные собрания плебса, а иногда – праздничные шествия, торжища и представления комедиантов. В отдалении высились мрачные постройки, около них сверкал тонкой иглой золоченый обелиск, и развевались на длинных жердях цветные флаги.
– Там святилища Сераписа и Изиды, – пояснил Туск, – возле этих египетских святилищ находятся гостиницы и торговые ряды египтян. Раньше им полагалось быть только здесь, но теперь они проникли в город и уже добрались до Форума. Еще дальше стоят храмы финикийской Астарты и фригийской Кибелы, в них совершаются омерзительно непристойные обряды. Именно потому римляне и стремятся попасть туда всеми силами, слетаются, как мухи на теплый навоз. Вот храм Беллоны, а это старинный цирк Фламиния, в начале своей диктатуры Сулла[8] приказал согнать в него и беспощадно прирезать несколько сот пленных самнитов[9], оказавших ему сопротивление; бедняги вопили и выли так душераздирающе, что у римлян волосы поднялись дыбом на голове, и многие поняли, какое будущее их ожидает…
Перед путниками протянулась зубчатая городская стена, построенная пять веков назад этрусским царем Сервием Туллием, – кладка была плотная, из больших, грубо обтесанных камней. Но римские кварталы едва умещались за стеной. Они давно сползли с холмов, до отказа набились в окрестные болотистые низины и, вспучившись, как опара в кадке, оказывались за пределами города. Под стеной лепились, будто карабкаясь друг на дружку, лавки, лавчонки, харчевни, попины[10], навесы, мастерские, балаганы мелких торгашей, стряпух и гадальщиков, предпринимателей и мошенников всевозможных мастей и видов. Людское месиво шевелилось и галдело вокруг Рима так же беспокойно, как и на его узких улицах.
– Слава Эпоне, покровительнице мулов! Добрались благополучно! – возгласил возчик-умбр.
Обоз освободил середину дороги для всадников, носилок, пешеходов и остановился – груженым повозкам запрещалось въезжать в Рим до восхода солнца. Все товары, строительный камень, топливо и продовольствие ввозились в столицу по ночам.
Катулл и Туск расплатились с возчиком и в сопровождении слуг, тащивших багаж, вошли в ворота.
Почти сразу Катулл увидел справа знаменитый храм Юноны и Капитолий, похожий на застывшую тучу, – с легендарной крепостью, древним храмом Юпитера и печально известной всюду Тарпейской скалой. Справившись по вощеной табличке[11], Катулл спросил Туска, где ему лучше свернуть на Квиринал, чтобы найти на такой-то улице дом всадника Стаберия. Оказалось, ему нужно налево, а Туску прямо, в отдаленный квартал Целия.
– Дом, который ты ищешь, находится, видимо, рядом с храмом Марса – Квирина, найти его легко, – сказал Туск. – До встречи, дорогой Катулл. В Риме, по последним сведениям, обитает больше миллиона человек, считая граждан, приезжих и рабов, – сущий муравейник! Но люди встречаются здесь чаще, чем жители сонного провинциального городка. Надеюсь, ты станешь преуспевать и, наверное, прославишься на избранном тобой поприще. Желаю удачи и запомни крепко римскую поговорку: «Счастье в доходах».
Затем агент куратора государственных зернохранилищ ободряюще подмигнул веронцу, осклабился несколько двусмысленно и позволил себе по-приятельски похлопать его по плечу, после чего быстро зашагал впереди своих рабов по широкой улице, продолжавшей в пределах города Фламиниевую дорогу, и навсегда скрылся из глаз. Умер ли он от неизлечимой болезни, погиб ли в результате несчастного случая, во время уличных беспорядков или от руки разбойника, совершая очередную деловую поездку, покинул ли по неизвестной причине Рим – это осталось для Катулла тайной. Он никогда больше не встречал и даже не слышал имени говорливого толстяка.
Довольно скоро Катулл нашел дом Стаберия, важного седоголового всадника, мечтающего о магистратской должности. Прочитав письмо от его отца, Стаберий согласился сдать веронцу три комнаты с отдельным входом через сад и пожелал ему с помощью отцовских рекомендаций завести полезные знакомства. Предоставив бородачу Титу разбирать вещи, Катулл бросился на улицу. Многообразная жизнь огромного города поначалу мелькала и рябила в глазах, поражая его и нередко заставляя остановиться в каком-нибудь относительно тихом уголке, чтобы разобраться в невыносимой лавине впечатлений.
Ограбив полмира, Рим задыхался от обжорства. Заморские товары переполнили рынки. Республика мчалась в головной упряжке эпохи, в грохоте беспорядков и непрекращающихся войн. Время было бешено энергичным, неожиданным, трагическим. Ростовщики оплели своей паутиной всю Италию: ремесленники, мелкие торговцы и промотавшаяся «золотая молодежь» оказались в плену долговых обязательств. Разорялись тысячи свободных земледельцев, бывших некогда основой римского процветания и воинской доблести.
Вчерашние пахари присоединялись к городскому плебсу, заполняя улицы, стиснутые мрачными многоярусными домами. Жители плебейских кварталов стучали, кромсали, сверлили в кислом чаду крошечных мастерских, некоторые занимались торговлей вразнос, но они не могли, конечно, соперничать с обширными предприятиями и роскошными лавками богачей. Труд свободных становился ненужным: всюду гнули спины тысячи рабов. Разоренные плебеи успешно сводничали и воровали, превращались в нахлебников государства и предпочитали ждать, когда будет объявлено голосование. Ждали раздачи денег, гладиаторских состязаний и пиров, которые устраивал, покупая голоса, очередной кандидат на должность консула, претора или трибуна. Нищие граждане искали богатого патрона, чтобы низкопоклонствовать и клянчить. Чтобы ежедневно иметь горсть оливок и кружку вина. Чтобы уплатить за каморку, где на вонючем тряпье валялась голодная семья. Чтобы – бездельничать.
Плебеи жили в доходных домах, у которых обваливались кусками скверно оштукатуренные стены и рушились шаткие лестницы, в трущобах часто горевших по недосмотру или от злого умысла. Зимой в них пронизывало холодом и заливало дождями, летом удушало жарой. Такие «клоповники» строили на Авентине, Эсквилине, Целии, Квиринале и сырой низкой Субурре[12]. Доход шел Крассу или Лукуллу[13]. Не стеснялись они содержать и лупанары. А голодранцы, отребье, сброд гордились славными завоеваниями республики. Гордились ремесленники, искалеченные ветераны победоносных легионов, комедианты, сводники и воры.
Но дворцы и базилики строились вдали от дыма мастерских и скрипа обозов, вдали от запаха нищеты и плебейской ненависти. Катулл поднимался на Палатин, хранящий торжественное молчание, украшенный прекрасными виллами и уединенными садами. Чаще всего он стремился на Форум – старый рынок, давно преобразившийся в средоточие государственности. Форум звучал гулкой медью истории, сверкал роскошным блеском мрамора, позолоченными барельефами и священными надписями на фронтонах храмов. Вот огромный Табуларий – хранилище важнейших документов, за ним вход в подземелье Карцер, тут же храм Согласия и Триумфальная арка, чуть наискось место, где настроением развращенной и легковерной толпы управляют с ростральной трибуны предводитель оптиматов Марк Порций Катон, честолюбивый миллионер Красс, великий оратор Цицерон, коварный и великодушный Цезарь[14] и другие римляне, прославленные доблестью, красноречием и силой духа.
Форум гудел и рокотал, выстраивался рядами бесчисленных колоннад, наваливался громоздкой тяжестью мрамора и гранита. Пурпурные полоски на тогах магистратов и сенаторов, расшитые паллии и драгоценности матрон, завитые головы, тросточки и ухищрения щеголей – это Форум. Лавки с роскошными восточными диковинами, зеваки со всех концов света, философы и поэты – это тоже Форум.
Расточительный, изменчивый, праздный, Рим будто ждал, кто же наконец снова обретет над ним власть.
Пожалуй, только трое римских магнатов обладали сейчас возможностью успешно применить эту силу. Так рассуждали уличные болтуны, взвешивая и прикидывая, насколько велики богатство и политическое влияние этих известных всем нобилей.
Гней Помпей после длительной войны разгромил понтийского царя Митридата и превратил Малую Азию и Сирию в новые провинции Рима. Иудея, раздираемая династическими и религиозными распрями, признала свою полную и безнадежную зависимость. Армения спешила заверить в дружбе и преданности. Только огромная Парфия противостояла натиску железных легионов Помпея, и дремал у своих пирамид, еще не подвластный Риму, дряхлый Египет. Помпей привез с Востока несметные сокровища, пригнал многотысячные вереницы пленников и удостоился грандиозного триумфа[15].
Катулл однажды видел этого прославленного полководца. В сопровождении пышной свиты Помпей прошествовал в цирке на почетное место, приветствуя поднятой рукой ликующую толпу. Плотный, с толстой шеей, широким лицом простонародного склада, он снисходительно улыбался и самодовольно раздувал ноздри короткого, вздернутого носа. Катулл заметил про себя, что коричневые глаза Помпея, при самой благожелательной улыбке, остаются неподвижными и холодными. Недаром существует мнение, будто частое созерцание трупов придает человеческим глазам особое свойство: они покрываются несмываемой пленкой равнодушной жестокости и уже не способны выразить искреннюю радость или участие.
Про Юлия Цезаря на Форуме рассказывали, что он успешно воюет в Испании с непокорными племенами лузитанов. Ему около сорока лет, он сохранил в походах аристократическую белизну кожи и аттическую элегантность, хотя начал лысеть со лба и с ним случился неожиданно припадок падучей. Цезарь известен своей поразительной памятью: он знает по именам всех своих центурионов[16] и даже многих солдат. Он не боится рисковать, умеет принять молниеносное решение и ежедневными упражнениями укрепляет выносливость. Испанские легионы провозгласили Цезаря императором[17], и, конечно, он тоже рассчитывает получить триумф. Кроме того, утверждали упорно, будто Цезарь собирается выдвинуть свою кандидатуру на должность консула. Цезарь был известен в Риме любовными похождениями. Эта сторона жизни знаменитого римлянина тоже занимала Катулла, он навострял уши, когда передавали сплетни о многочисленных связях Цезаря. В сплетнях мелькали имена римских красавиц, и среди них упоминались Тертулла, жена Марка Красса, и Муция, жена Гнея Помпея.
Кроме триумфа и борьбы за консульское кресло, Цезаря ожидали кредиторы, которым он задолжал около ста миллионов сестерциев.
Поседевший, тучный Марк Красс, хотя и не боялся кредиторов, но не меньше Цезаря жаждал военной добычи. За ним, сказочно богатым рабовладельцем и банкиром, стояло сословие всадников, которому требовался политик, умеющий обеспечить наилучшие условия для откупа налогов. Свое огромное состояние Красс приобрел, скупая имущество, конфискованное у жертв сулланских репрессий, и строительством доходных домов. Богатство и честолюбие Красса росли, он стремился продолжить восточные завоевания Помпея.
Кроме грязной пены политических сплетен, постоянно обсуждались скандальные похождения нобилей, знатных матрон, известных литераторов и актеров. Рим лихорадило, среди тревожного гула мятежей и триумфов все – от оборванного пролетария до властного магистрата – искали в разнузданных оргиях немыслимых ощущений и вакхических зрелищ. Целомудренная Лукреция[18], не перенесшая насилия и убившая себя, казалась анекдотически смешной. Этот сюжет в непристойном и пародийном виде разыгрывался в уличных шутовских представлениях.
Катулл не раз слышал, как доморощенные философы разглагольствовали со скорбным и несколько лицемерным пафосом: «Побежденная Греция пленила победителей своей изнеженностью, склонностью к наслаждениям…» Моралисты говорили справедливые вещи. Однако никто не думал отказываться от чужого богатства, пленников и роскошной жизни. Не только Греция развратила своих победителей, – лукавый, чувственный Восток опьянил сладостной тысячелетней отравой сознание суровых квиритов[19]. Смуглый Египет и чернокосая Финикия исступленно ворвались в грубое веселье римских пиров.
Что же касается римского искусства, – о нем Катулл сделал для себя заключение, самонадеянное и поспешное. Он решил, что искусство и поэзия достигают высот не только во времена благополучия общества, но и в периоды неуверенности и смут. Об этом тоже спорили под базиликами. Катулл внутренне соглашался с теми, кто считал искусство крепнущей государственности выраженным в величавой монументальности и прославлении героизма.
Всклокоченные бородачи в пропотевшей одежде, подпоясанной веревками, призывали отказаться от городской роскоши и уйти за стадами в луга и горы, беспечно бренча на кифаре и дуя в свирель. Они искали сочувствия у собеседников и старались выклянчить у них несколько монет. Изящные молодые люди смеялись над бородачами. Менять блеск столицы на зачумленные трясины и иссушенные пустыри не улыбалось никому. Больше препирались в том, что важнее описывать стихами: отвагу непреклонных воителей или тревоги неразделенной страсти? Шумели и ругались, пока не спускалась ночь.
Катулл с удивлением видел: болезненное, бредовое состояние республики не мешает распространению образованности. Греция продолжала овладевать душами победителей. В Риме ни один человек не мог считать себя достойным уважения, не зная греческого языка и поэзии – от Гомера до Каллимаха[20]. Когда послы из Александрии выступали перед сенатом, им не потребовался переводчик. Величайшие ораторы Цицерон и Гортензий так же выразительно произносили речи по-гречески, как и по-латински. Большинство молодежи из высших сословий получали или усовершенствовали свои знания в Афинах, на Родосе, в Александрии. Щеголи меняли тяжелую традиционную тогу на изящную аттическую хлену. Виллы богачей были уставлены греческими статуями и увешаны греческими картинами. Стали прививаться, не исключая излюбленных гладиаторских боев, греческие гонки на колесницах. Коринфские бронзовые вазы стоили несметных сумм. Изысканно красивые рабы покупались за сотни тысяч сестерциев. Рим смотрел греческие комедии и трагедии. Рим слушал греческих кифаредов. Рим применял в строительстве греческие архитектурные стили.
Но все же Рим всегда оставался Римом.
Он перенял у этрусков религию, и она стала его государственной религией. Он заимствовал у самнитов вооружение и покорил им и самих самнитов, и другие народы. Он разгромил карфагенский флот и теперь был повелителем морей. Рим впитывал греческое искусство и создавал свое, римское. Катулл нашел, что стихи стали увлечением, страстью, манией тысяч римлян. Стихи сочиняли сенаторы, всадники, знатные матроны, ремесленники и актеры, свободные граждане и рабы. Кроме ораторского и полководческого гения, только стихи могли принести высшую славу и признательность народа. Римляне чтили память основателя римской поэзии, грека Ливия Андроника. Кроме эллинской классики, на римской сцене ставили веселую бытовую кутерьму Плавта, «слезные» комедии карфагенского раба Теренция и назидательные трагедии Акция и Пакувия. Саркастическая усмешка, обличавшая пороки общества, впервые блеснула в бесстрашных стихах Луцилия.
Но особым преклонением «истинных» патриотов и моралистов республики пользовался «римский Гомер» – Квинт Энний. Ему подражали, его прославляли и без устали восхищались звучащими тяжеловесной бронзой строками поэм и трагедий. Все эти зачинатели оставили незабываемое наследие и отступили в небытие. Стихами увлекались Цицерон и Гортензий, Цезарь и Варрон[21]. В стихах был издан трактат об агрономии и сборник кулинарных рецептов. Издатели и хозяева книжных лавок стремительно богатели.
А тем временем в Риме появились новые поэты. О некоторых из них уже говорили знатоки, другие, безвестные, бродили где-то рядом в толпе, мечтая о скором успехе. Это были молодые муниципалы, уроженцы италийских городов, чьи деды или отцы добились римского гражданства. У них сложились свои взгляды на современную поэзию. Образованные и настойчивые, они смело вторгались и в политику.
Хотя рекомендации отца давали Катуллу доступ в два-три аристократических дома, он предпочитал им базилику Эмилия, где спорили о политике и поэзии, храм Минервы на Авентине, возле которого обсуждали свои дела актеры и драматурги, и всегда собиралось немало хорошеньких вольноотпущенниц. Ему нравились торжественные процессии по Священной улице, книжные лавки на Аргилете с перечнем книг, нацарапанном на дверце, болтовня прорицателей, ворожей и фокусников, снующих у Большого цирка на Капенской улице. Постепенно Рим раскрывался внимательному взгляду веронца.
Рим роскошествовал и гордился. Стремительная мощь римских завоеваний представлялась неиссякаемой, неудержимой, но внутри грандиозного здания республики все предвещало потрясения и катастрофы, повсюду замечались признаки разложения и предсмертных мук. Таков был этот огромный перенаселенный город, расползшийся по холмистому берегу мутного Тибра, в шестьсот девяносто четвертом году от своего основания[22].
- Евангелие от Фомы
- Москва слезам не верит
- Софисты
- Клеопатра
- Адмирал Ушаков
- Кунигас. Маслав (сборник)
- Король холопов
- Граф Брюль
- Аракчеевский сынок
- Король-Лебедь
- Аттила, Бич Божий
- Катулл
- Князь Тавриды
- Кузьма Минин
- Людовик XIV, или Комедия жизни
- Путь к власти
- Карл Смелый
- Лета 7071
- Искуситель
- Сен-Жермен
- Басилевс
- Навуходоносор
- Тьма египетская
- Квентин Дорвард
- Два Генриха
- Джон Лоу. Игрок в тени короны
- Нерон
- Коварный камень изумруд
- Императрица семи холмов
- Последние Горбатовы
- Графиня Козель
- За скипетр и корону
- Маркитант Его Величества
- Король Красного острова
- Из семилетней войны
- Филипп Август
- Тиберий Гракх
- Пифагор
- Опимия
- Всадник Сломанное Копье
- Три Ярославны
- Шапка Мономаха
- Метресса фаворита (сборник)
- Знак Зевса
- Разин Степан
- Колыбель богов
- Западный поход
- Охота за Чашей Грааля
- Сагарис. Путь к трону
- Европейские мины и контрмины
- Вольтерьянец
- Лжедимитрий
- Царский угодник
- Апостолы
- Сергей Горбатов
- Мудрый король
- Волею богов
- Скрижаль Тота. Хорт – сын викинга (сборник)
- Василий Тёмный
- Изгнанник
- Тит Антонин Пий. Тени в Риме
- Эсташ Черный Монах
- Орёл в стае не летает
- Фельдмаршал
- Избранник вечности
- Коронованный рыцарь
- За чьи грехи? Историческая повесть из времени бунта Стеньки Разина
- Аракчеевский подкидыш
- Изгоняющий демонов
- Василий Шуйский, всея Руси самодержец
- Гулящие люди. Соляной бунт
- Цицерон. Поцелуй Фортуны
- Королева Бланка
- Цицерон. Между Сциллой и Харибдой
- Сова летит на север
- Басурман
- Польский бунт
- Граф Феникс. Калиостро
- Умереть на рассвете
- Опасный менуэт
- Штормовой предел
- Маленький детектив
- Ох уж эти Шелли
- Зенобия из рода Клеопатры
- Государь Иван Третий
- Пришедшие с мечом
- Огонь под пеплом
- Нашествие 1812
- Вторжение в Московию
- Василевс
- Золотой скарабей
- Названец. Камер-юнгфера
- Преодоление
- Смутные годы
- Преторианцы
- Маятник судьбы
- Остракон и папирус
- Крушение богов
- Последний полет орла