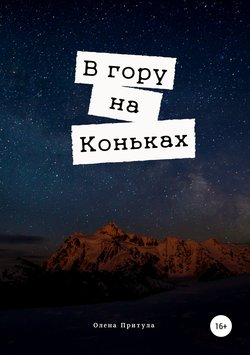Глава 1 Будни
Бедность и гордость неразлучно
сопровождают друг друга, пока
одна из них не убьет другую.
Грегори Дэвид Робертс
Его звали Кирилл, Кирилл Мухаметшин. На то, чтобы узнать его имя, у меня ушло два месяца. А тогда, утром 30 октября, я вышел в центре из метро Чистые Пруды, чтобы купить книгу. Я решил, что дойду по Мясницкой до «Библио Глобуса», и если книги там не будет, пойду пешком через Китай город, Охотный ряд и Библиотеку имени Ленина, пока не попаду в «Дом книги».
На самом деле мне нужна была не книга, а тетрадь по труду для первого класса. В ней были разные фигурки, которые мой сын Лука должен вырезать, склеить, раскрасить и принести на урок. Лука плохо клеил и плохо вырезал, но я был горд собой в то утро. Я встал на час раньше ради картонных лебедей и обведенных пунктиром матрешек. Не побоявшись холода, поехал в центр и не собирался возвращаться без книжки, которая приятно пахнет свежей бумагой.
Утром пошел снег. Он падал, кружил, колол мне лицо, дыша прозрачным, злым дыханием. Черное сукно облаков успело стать серым и матовым, пока я мерно покачивался в видавшем виды синем вагоне. Улицы и люди притихли. Вдохнув морозный воздух, они казались мне растерянными, оглушенными.
Я шел мимо роскошного китайского чайного дома, сетевого японского ресторана со смешным названием, магазина дорогих швейцарских ножей, блестевшем хромом и красным пластиком в пасмурном городе. Я ни о чем не думал, ежился от холода в своей зеленой куртке.
Я сразу заметил его в кафе. Надо сказать, довольно среднем: узкие стулья с металлической спинкой – на таких неудобно сидеть, стены коричневых тонов, плотные, как камедь, шторы. Намек на респектабельность и вместе с тем демократичность.
Кирилл Мухаметшин сидел за крошечным круглым столиком рядом с огромным оконным проемом. Одет он был в черное кашемировое поло и синие джинсы. Даже с улицы я видел, что это хорошая, дорогая ткань. На его левой руке были часы из белого золота с черным кожаным ремешком. Черные волосы блестели от геля, собранные в крысоподобный тонкий, длинный хвостик на затылке. Мне было сложно понять, сколько ему лет: может быть, тридцать, а может, сорок. Росту в нем было не больше ста семидесяти. Кирилл Мухаметшин был толстым.
Круглое, раздутое лицо почти сразу переходило в плечи. Под гладкими, тяжелыми щеками, под двойным подбородком не было видно шеи. Глаза, нос и рот как бы скукоживались, собирались в центре лица. Резко очерченные тонкие брови. Раскосые узкие черные глаза с припухлостями внизу. Будто в его лице встретились Европа и Азия.
Левый глаз у Кирилла Мухаметшина был больше, чем правый. Я подумал, что у меня как раз наоборот – левый глаз как будто все время щурился, а правый был распахнут.
К столику подошла официантка и что-то спросила. Кирилл Мухаметшин смотрел на нее цепко, свысока, как смотрят хищники. Его ярко-розовые губы утолщались к центру, сходились в капризном банте. Разговаривая, он, как кот, облизывал их маленьким языком, описывал руками мягкие круги. Кирилл Мухаметшин становился чрезвычайно обаятельным. Официантка кивала ему вежливо и немного смущенно. Когда он улыбался, в его лице появлялось озорство. Он был симпатичным, как избалованный любимый ребенок, держался уверенно и походил на филиппинского принца, прекрасно образованного, которого обожает его огромная филиппинская семья.
С филиппинским принцем была моя жена. Она сидела вполоборота к окну и ела шоколадное пирожное на модной треугольной тарелке. На ней была красная кофта из пушистого репса, делавшая туловище моей жены похожим на шерсть пчелы. Кофта полиняла, локти протерлись. Если присмотреться, можно было увидеть, как сквозь коралловые нити просвечивают островки ее бледной, жемчужной кожи.
Моим первым чувством был праведный гнев. Я подумал, что сегодня утром Лука ел на завтрак бородинский хлеб с куском «Российского» сыра. Сыр был мокрым от проступивших белесых капель. Захотелось, чтобы Лиза заметила меня, тогда бы я торжествовал. Но я робел азиата. Я ощущал бессилие. Вдруг я понял, как ей не хватало быть среди людей, в уютном густо-желтом освещении наслаждаться тем, как тает во рту сладкое пирожное.
Им принесли счет. Азиат взял листок короткими пухлыми пальцами, быстро взглянул и положил в кожаную папку пятитысячную купюру. Затем он с довольным видом откинулся на стуле. Я увидел большой, словно мыльница живот, свисавшие на мыльницу покатые жирные груди. Было не похоже, что он себя стесняется. Он излучал жизнелюбие человека, который всем в жизни доволен. Он вкусно ел, ясно мыслил, сидел в кафе с моей женой.
Мухаметшин сказал что-то, и Лиза засмеялась. Смеялась она скромно, одними глазами. Злорадство вдруг охватило меня, как болезнь. Я будто был рад, что увидел ее с другим. Как будто от этого моя вина стала ничтожно-рвотной, кричаще-визгливой. Но тут же стало отчего-то совестно, как будто я не должен был там находиться, не должен был на них смотреть.
Наверху сгущались облака. Там, где еще оставались серые просветы, ветер спешил, лепил темные заплатки. Мне стало неуютно, хоть я стоял на узкой улице, с двух сторон окруженной домами. Ветер носился по ней как стрела, туда-сюда. Грязь под ногами замерзала у меня на глазах. Разводы на снегу напоминали пенные рисунки в чашках капучино. Люди спешили мимо меня: набожные женщины с утренней службы, нарочито скромные, горделиво-осуждающие, красивые девушки из дорогих офисов с медовыми прямыми волосами, мужчины в спортивных куртках, под куртками торчали ноги в синтетических костюмных брюках.
Становилось все неудобнее стоять там. В любую минуту моя жена и азиат могли выйти из кафе, а я так и не решил, хочу ли, чтобы она меня увидела. Консультант в малиновом свитере из соседнего магазина несколько раз взглянул на меня с любопытством. Оставаться и смотреть на них было неловко. Я быстро дошел до метро и нырнул в переход.
Мимо ларьков с сомнительными, но такими манящими, недоступными товарами, мимо шумных подростков, прогуливавших школу, размокших картонных коробок, я толкнул тяжелую стеклянную дверь, приложил карточку под сонный взгляд старухи дежурной и через две минуты был в вагоне.
Стоптанные туфли, лоснящиеся переливы из коричневого в белый, пакеты из магазинов косметики и бесконечные темные шапки, иногда уступающие кокетливому розовому. Здесь все всегда унылы, здесь не принято улыбаться. А на влюбленных смотрят как на чудаков. «Выгодный кредит от 12%» – расклеили плакаты по вагону. Стройная брюнетка улыбается нам, тоскливым пассажирам, потрясенному мне. Ее рука обнимает пальму, позади нее чистое небо, под ногами песок, белоснежный, нетронутый следами. Я смотрю на эту фотографию и поневоле начинаю мечтать. О море, о любви и солнце. Особенно о любви.
Больше всего на свете я любил Камиллу. Ее агатовые глаза, вытянутые, как листья миндаля, открытое лицо, сияющее свежестью. Губы, нарисованные словно наспех, со страстью, мягкие руки. Меня завораживал ее голос: липкий, низкий, сдержанный, как в черном джазе. Она была теплой и загадочной, как Бог, как мама, которую я никогда не знал. Я носил каре, когда любил ее.
Каждый день я бежал до вьетнамского общежития между седьмой и девятой Парковой, где Камилла с матерью были единственной армянской семьей. Я поднимался по темной лестнице на третий этаж, отыскивал ее дверь, затерявшуюся в ядовито-зеленых тазах для белья, ворованных магазинных тележках и попадал в двенадцать метров ковров, тишины, запаха специй и яблок. Я забывал, что я нищий студент дрянного финансового колледжа, забывал о лени, о мерзкой, гнилой неуверенности. Я растворялся в Камилле, впитывал ее. Невыносимо-прекрасная, она вырастала до невероятных размеров: легкая, приятно-песочная, Камилла заслоняла собой мир. Она любила меня, и только тогда я не чувствовал стыда.
Мы просидели в ее комнате почти три года, ничего не замечали, каждый день глотали час за часом – Камилла у меня на коленях, мои руки грелись о ее золотистую кожу. Я не представлял, что может быть иначе, пока однажды к дому, облицованному пластиковыми панелями не приросли колеса, и он не увез ее в безумие.
Помню, как стоял растерянный в больничном коридоре, пытаясь вспомнить хоть одну молитву. «И прости нам долги наши». Мимо меня на каталке быстро везли Камиллу, почерневшую, ссохшуюся, завернутую в темный кокон одеял.
В серо-зеленой тишине запах хлорки, лекарств, отбеленных простынь казался безнадежным. Я бы хотел отдать все, что у меня было, лишь бы она выздоровела, лишь бы снова вернуться в ту комнату, сидеть в ней вечно, замирая от счастья. Но у меня ничего не было. Камилле становилось хуже.
С моей женой мы познакомились в очереди на УЗИ органов малого таза. Моя жена лечила тетку. Я ждал Камиллу, потому что хотел ее ждать. Лиза ждала тетку, потому что должна.
Лиза была доброжелательной и тихой, я несчастным и злым. Мы вместе ели рагу в столовой, ели салат и хлеб. Я говорил о Камилле, я не мог говорить о другом – Лиза слушала, мои слова лились в ее прозрачные глаза. Меня успокаивала ее невозмутимость: пресная, недвижная, как вода в оставленном на ночь стакане. Лиза любила анекдоты.
Встретились два помидора.
– Давай поздороваемся, – говорит один.
– Давай, – отвечает другой.
– Ой!
Или:
Встречаются два друга в баре. Один другому говорит:
– Мне тут такой классный анекдот рассказали: «Бежит мышка по краю обрыва: пи-пи-пи-а-а-а-а-а!!!».
– Ну и что особенного – обыкновенный эффект Доплера, – Отвечает другой.
До сих пор не понимаю, что это значит.
Лиза приехала в Москву из Средней Азии. Она любила овощи и физику, ждала меня у выхода в больницу, чтобы вместе дойти до метро. Пока я курил, топталась в изношенных босоножках, хоть на улице был сентябрь, плюс шестнадцать. Лиза бегала в киоск за мелочами для Камиллы, которые просила ее мама. Я не заметил, как случилось, что я не смог без нее обходиться.
Мне быстро надоело говорить. Я хотел слушать. Кто-то должен был сказать мне, что все хорошо закончится, я зря переживаю, они вылечиваются, эти больные. Таких сколько угодно, вон, по улице ходят, не сосчитать. Но Лиза больше молчала и улыбалась вялой, заискивающей улыбкой. Наши встречи становились тягостными и бессмысленными. Очень скоро она мне опостылела.
Помню, как пришел в больницу в час вечерних посещений. Я долго ждал автобуса, изнервничался. Грудь терзало какое-то пакостное предчувствие. Я был уверен, что случится что-то гадкое, неприятное, страшное.
Вообще, я давно заметил: чем больше представляю что-то хорошее, тем меньше вероятность, что сбудется. Особенно, если представлять в подробностях, мечтать как оно будет до малейшей детали. Как будто пережил в мечтах, и хватит с тебя, получи.
Вокруг все было как обычно. В магазине толпился народ, люди перебегали дорогу на красный свет, столбы на территории больницы пестрели обещаниями чудесных исцелений посредством телефонных разговоров.
Меня не пустили на проходной. Мама Камиллы вышла к стеклянной будке регистратуры. Она была в халате. Грузная, важная, категоричная, с вечно подозрительным, недовольным лицом.
– Ярик, тебе больше не надо приходить. Я запрещаю, – сказала она с сильным южным акцентом.
– Почему? – спросил я.
– Потому что я так сказала. Камилла никого видеть не может.
«Потому что потому, все кончается на «у», – зачем-то подумал я, но вместо этого спросил:
– Вас же она может видеть, почему мне нельзя?
– Она мой ребенок, а ты ей никто. Уходи.
Мешки у нее под глазами вздулись, были почти черными. Из-за скорбных, брезгливых складок на щеках лицо казалось слишком длинным. В крашеных рыжих волосах блестела седина.
– Ей хуже?
– Да, – ее рот дернулся, – Уходи. Быстро! Не заставляй повторять.
Она стояла и смотрела на меня в упор – уставшая, но решительная, как разъяренная гусыня. Мама Камиллы. Гусыня. Кстати, ее звали Ирина.
Она повернулась и поплыла вглубь больничного коридора. Черные мужские шлепанцы гулко шаркали по зеленому больничному линолеуму. Ее тень шагала вместе с ней как какой-нибудь стражник. По дороге, я видел, они с постовой медсестрой многозначительно переглянулись. Я решил, что это конец. Конец моей Камилле. Это был и мой конец. Меня вышвырнули, не дав даже проститься.
Помню, как пошел в магазин и купил три бутылки «отвертки». Идти мне было некуда. На улице темнело. Воздух был влажным, температура падала, и мне стало грустно оттого, что осень закончится совсем скоро. Я вернулся под окна регистратуры на больничное крыльцо и пил, усевшись на ступеньки. Тело била странная дрожь. Я заливал ее, придавливал, как гирей. Поднося бутылку ко рту, я иногда промахивался. Оранжевая жидкость текла мне прямо на кроссовки, от них запахло спиртом. Люди ходили мимо меня, я цеплял их глазами. Теперь я был похож на разъяренного гуся. Прохожие молчали. Никто меня не осуждал, но никто и не жалел. А мне бы хотелось. Дрожь немного утихла, я бессмысленно пялился на лежащие на газоне прелые листья.
Я замерз и устал сидеть сам с собой. Решил, что наберу Лизе. Ей не надо было в больницу, но она приехала, и почему-то я не удивился. Я всё пил и спотыкался, она тащила меня в плаще-колокольчике и розовом шарфе куда-то очень далеко, и ее ноги в белых галошах разъезжались по осенней слякоти в разные стороны.
Мы оказались в квартире ее тетки. В тесной прихожей над дверью прибито соломенное чучело с улыбкой серийного убийцы.
– Это домовенок. Не пугайся, – объяснила Лиза.
Было темно. Лиза заходила в одну комнату – включала свет; выходила – выключала. Экономила.
Я помню свои слезы, номер Камиллы, который без конца набирал, Лизу, целующую мои волосы. «Ее больше нет, Ярик, ее больше нет».
Дальше я путался в ее колготках. Какие это были толстые, колючие, растянутые черные колготки! Я никогда таких не видел. Странный крошечный лифчик, мертвенно-желтый, с жесткими косточками был похож на панцирь броненосца. Мое лицо обмякло в Лизиных пальцах с перламутровым маникюром, которыми она затыкала мою пустоту, клала мне их в рот, и я снова плакал. Я целовал их, эти маленькие пальцы, будто имел на это право, будто мы с Лизой давние любовники и между нами была глубокая мягкая нежность.
Наутро я чувствовал такое презрение к себе, такую брезгливость, что даже забыл о Камилле. Лиза невозмутимо жарила яйца на плите Гефест. Они пригорели с боков, покрылись темной коркой с металлическим привкусом. Это были самые невкусные яйца в мире. Она стояла надо мной навязчивая, скучная, смотрела, как я ем, и словно глотала за меня. В то утро я понял, что мне не выбраться.
У меня никогда не было костюма. На свадьбу я одел отвратительный синий трикотажный жилет. Лиза зачем-то нашла точно такой же, да еще надела под него белую рубашку. Мы выглядели будто школьные заучки. А следующим летом родился Лука.
Из центра на работу я попал чуть больше чем за полчаса. Объявляют мою остановку. Выхожу на станции Южная и плетусь пятнадцать минут по серой промзоне, в одном из лабиринтов которой в бетонном здании спрятан мой офис.
Нажимаю на маленький коричневый звонок и захожу. Иду мимо комнаты с образцами продукции. Она же холл, приемная и выставочный зал. Здесь сидит наш секретарь Соня. Столы из лущеного шпона завалены журналами про мебель, повсюду офисные стулья, обернутые в плотный целлофан. Я попадаю в общую комнату, где работают пять сотрудников. Сейчас здесь только Руслан, я и женщина-Зума.
Руслан отвечает за контракты с регионами. Иногда он с кем-то созванивается, обсуждает сроки, размеры партии. Чаще я вижу краем глаза, как он переписывается с девушками в чате, несмотря на жену и новорожденную дочь. Бывает, он так увлекается, что начинает вжимать себя в кресло, ерзать и причмокивать. Обычно Руслан добродушно меня приветствует, от этого мне становится легко и весело. После поездки в метро я перестаю чувствовать себя ничтожеством. Женщина-Зума, ее зовут Лариса, лениво, злобно поднимает на меня глаза и тут же возвращается в свой Зума-мир.
Я проверяю почту, зная заранее, что мне не пришло важного письма, но все еще на что-то надеюсь. Потом читаю новости в интернете. Я же работаю, а значит, должен знать мировую обстановку. Политика мне неинтересна, и я стараюсь найти что-то вроде «Ученые раскрыли тайну долголетия» или «Почему нельзя употреблять в пищу оладьи» или «Секретное интервью полковника: как быть ловеласом в армии и не попасться». Я читаю все эти статьи до половины второго. Потом мы с Русланом идем обедать на общую кухню. Женщина-Зума ест у себя за столом, вынимая еду из большого противного пакета с затертой надписью «Пятерочка».
Я ем гречку или макароны с сыром, которые вечером в воскресенье варит Лиза. Она варит в воскресенье вечером на всю неделю. Всю неделю у меня один обед. Руслан ест разное: гуляш, макароны по-флотски, куриную грудку в сливочном соусе, баклажаны в сметане с чесноком, один раз даже домашние пельмени. Каждый раз он хочет угостить меня и каждый раз я отказываюсь. Он равнодушно пожимает плечами вверх-вниз и принимается выливать на меня бесконечные потоки планов по обогащению. В его монологе четырнадцать «я» в минуту.
Подозреваю, что Руслан ворует у фирмы. Иначе, откуда у него взялась новенькая стальная BMW? Думаю, Руслан берет с заказчиков предоплату, оставляет ее себе, а генеральному говорит, что за партию товара покупатель заплатит меньше на эту сумму. Или что-то вроде этого. Например, офису в Самаре нужны 50 стульев. У нас стул стоит 200 долларов, и это не считая кресла руководителя. Руслан продаст по 150, скажет главному, что без скидки Самара стулья брать не хотела, а разницу положит себе. Получится две с половиной тысячи. Ничего себе! Но я в этом не силен, что об этом думать. Пусть об этом думает наш главный.
Мы возвращаемся с обеда в нашу полутемную комнату, где сидим до шести. Я в интернете, изнывая от безделья и тоски, Руслан – занимаясь любовными делами. Когда он переписывается с женщинами, то разворачивает компьютер в мою сторону. Когда занят по работе, отворачивает монитор к окну, чтобы я не видел экран.
Время от времени по коридору проходил непонятный мне, недоступный красавчик-директор в выглаженной и, даже, кажется, накрахмаленной рубашке. Уверенным голосом он подшучивал над нами, раздавал распоряжения. Он жил.
Я тщетно жду, что у меня появится дело, одеваюсь, прощаюсь с Русланом и иду к метро. Закуривая, я посмотрел на грязный хиленький сарай, служивший складом нашей фирме. Возле него стояла машина Руслана. Из сарая вышла молодая девушка, у нас она работает совсем недавно. На ней была только легкая кофта и джинсы. Кажется, ее зовут Олеся. Я застыл, залюбовался ее легкими и плавными движениями. Девушка открыла ключами машину Руслана и, перегнувшись через водительское сиденье, принялась что-то искать в его бардачке. Меня она даже не заметила.
К половине восьмого я прихожу домой и попадаю в нашу мрачную квартиру. Это однокомнатная квартира на третьем этаже панельного голубого дома 70-х годов. Квартиру мы снимаем у Наташи, парикмахерши и матери-одиночки. Она – глазастая блондинка, с прической из фильма «Анжелика и Король», чем-то напоминает Бриджид Бардо. Только не стройная и не кокетливая. Наташа немногословна и прямолинейна. В нашей квартире она хранит банки для огурцов, журналы по парикмахерству, хозяйственное старье. Нам оно и мешает, и нет. Например, мы пользуемся всеми кухонными приборами – чайником, разными кастрюлями, лопатками, вилками, ножами.
Мы снимаем квартиру ее бабушки. Бабушка умерла, квартиру сдали. В ней ничего не прибирали. И получается, будто мы живем в отсутствие пожилого человека. Диван-кровать все еще пахнет мертвым телом, если принюхаться, стены кухни бережно обклеены клеенкой от пятен, в комнате форпостом высится рыжая лакированная стенка.
Мы с Лизой спим возле стены, Лука спит на кресле-кровати возле балкона. У правой стены стоит стол (полированный, но не рыжий, а темный). На нем компьютер. Компьютером пользуется Лиза. Это ее питомец. На нем она часами играет. Медленно, упорно, не вкладывая ни копейки, улучшает свою ферму.
На окнах у нас стоят решетки. Покрашенные в серый, они кое-где проржавели. При входе вас встречает бордовая дверь, простроченная ромбиком из дерматина. Прихожая отделана мягкими желто-коричневыми обоями «под кирпич». Есть кладовка, но в ней завелся грибок, поэтому, если придете к нам, не ставьте туда книги и не складывайте одежду. Также в прихожей стоит обувная тумба из телемагазина. Полки в ней выдвигаются, как ручная кладь в самолете. Туда мы пихаем обувь, и если в рыжей стенке не хватает места, одежду в мешках из «Дикси». Я видел по телевизору, продается белая и черная. Конечно же, наша тумба черная.
Дверь в комнату отсутствует. Вместо нее висят бисерные длинные висюльки. Бело-коричневые с красными вкраплениями.
Покойная бабушка любила природу. На всю стену приклеены фотообои – березы и водопад. Камни, мох, березовые сережки. Больше я продолжать не могу. Я ненавижу эти фотообои.
Слева, между стенкой и кроватью, стоит комод для хранения постельного белья. В него вделаны металлические рельсы. Кажется, это называется секретер, или нет, ведь он стоит на полу. На нем лампа, игрушки Луки. Внутри тоже игрушки Луки, потому что постель мы не убираем, а игрушки где-то надо хранить. Я думаю, что если бы мы не ленились и убирали кровати каждое утро, комната выглядела бы лучше. У нас появилось бы больше места и хоть какой-то уют.
Ванная у нас старая, но со стиральной машинкой. Я знаю, Лизе это важно. Она совершенно не умеет стирать руками, а также шить, вышивать, печь торты и драить полы мастикой. Я тоже не умею, да мне это и не важно. В ванной на кафельной стенке приделан поручень, чтобы бабушка, которая умерла, когда она еще не умерла, могла держаться за него и вытащить себя из ванной.
На кухне гарнитур, белый с синими цветочками. В доме моей бабушки стоит точно такой же гарнитур. Есть «уголок», который съедает все пространство, две табуретки, которые нам некуда убрать, а выбросить не можем, потому что они не наши, а парикмахерши, и стол. Стол мне нравится больше всего. Он новый, из настоящего дерева, светлый, и даже пахнет деревом, если приблизить лицо. Лиза покупает на него клеенки. Полгода на клеенку. Я грущу, потому что единственную в квартире красивую вещь уравнивают со всем остальным.
В доме все хорошо слышно. Но это, наверное, во всех домах. Иногда я слышу, как соседка за стеной, толстая тетушка с красным лицом, кричит на внука, что он ее достал. Ночью я слышу, как ходит в квартире над нами большая собака. Ее когти мягко клацают, от этого мне почему-то спокойно, как в детстве.
В доме пахнет. Говорят, что в любом доме чем-то пахнет. Я не знаю, чем пахнет в нашем. Теплым паром, оседающим на зеркала, когда Лиза варит макароны или гречку, деревянной стружкой, когда Лука точит карандаши; табачным дымом, тянущим с лестницы, отчаянием?
Лизы нет. Лука сидит на полу, роется в пластмассовом хламе, поет счастливую детскую песенку. Он видит меня, и все его лицо озаряет улыбка.
– Папа! Смотри, какие машинки. Если заклеить, из двух получится одна – больша-а-я.
Он тянет ко мне машинки, зеленую и черную с неоновой наклейкой. У обеих не хватает колес, торчат острые железные спицы, и я боюсь, что он поранится.
– Опять без тапок. Заболеешь, – говорю я, смотря на его маленькие ноги во влажных сморщенных носках.
– Нет, – отрезает он, как что-то неважное, – Ты же заклеишь, поможешь?
У меня сжимается сердце от его ясного взгляда, доверчивого и чистого.
– Если будет время, – отвечаю, – пойди, надень, тапки.
– Сейчас одену. Как хорошо, что ты пришел, – он снова уткнулся в свой хлам, тихий, сосредоточенный мальчик.
Через час я укладываю Луку. Иду к компьютеру проверить почту. В ящике письмо от родительского комитета Луки. Я ждал этого письма давно. Я его боялся.
«Уважаемые родители! Светлана Борисовна выдала договор на дополнительный английский язык. Начнутся занятия в феврале, один раз по вторникам, во второй половине дня. Точное время скажут позднее. Ориентировочно в 15:00. Стоимость 1100 рублей в месяц.
Завтра утром Ольга Дроздова раздаст документы: договор 2 шт., приложение к договору и заявление. Все заполняем и приносим в пятницу.
Еще предстоит поездка в цирк (в декабре). В ближайшее время будем сдавать деньги на билеты и проезд на школьном автобусе. Билеты по льготной цене – стоимость 750 рублей. По срокам сообщу отдельно».
Я облегченно вздыхаю. Без цирка проживем. Без английского тоже. Надо будет, заставлю Луку смотреть фильмы без перевода. Читаю дальше. Буквы буквально кричат на меня.
«ТЕПЕРЬ ПО ПОВОДУ ДЕНЕГ!
Касса пуста. Предстоят расходы – Новый год, 23 февраля, 8 марта, нужды – тетради, уборка, средства для уборки и т.д. Предлагаю сдать по 2000 рублей, желательно в ближайшее время.
Есть двое родителей – Акылбеков и Берсеневы, которые не сдали еще первый взнос, они должны: Берсеневы 5000 рублей, Акылбеков 2000 рублей».
Берсеневы – это мы. Письмо продолжалось.
«Очень некрасиво с их стороны. Почему их детям должны покупать из общих денег? С сентября прошло уже много времени. Предлагаю – если они не сдают, то и не получают. Пусть обслуживают своих детей сами».
Письмо закончилось. Я сидел, впитывая унижение, как школьник, хотя все было гораздо хуже. Я стал родителем, который не платит за своего ребенка. Нас исключили. Наверняка, все уже прочли письмо, может, даже Лиза прочла на работе.
Деньги, деньги! Почему бы не послать детей убирать приюты для животных – научатся любить ежей и не бояться змей… Обдумывая, зачем вообще закупать какие-то средства для уборки, кляня родительский комитет, я иду в душ. Отодвинув плесневелую шторку, раздеваюсь и встаю в равнодушную зеленую эмалированную ванну.
Вода смывала озноб, грязь города и пристальные взгляды сотен случайных людей, встреченных мною днем. Мне стало хорошо. Долгий горячий душ – это лучший момент моего дня. И тут я вспомнил, что книгу по труду я так и не купил.