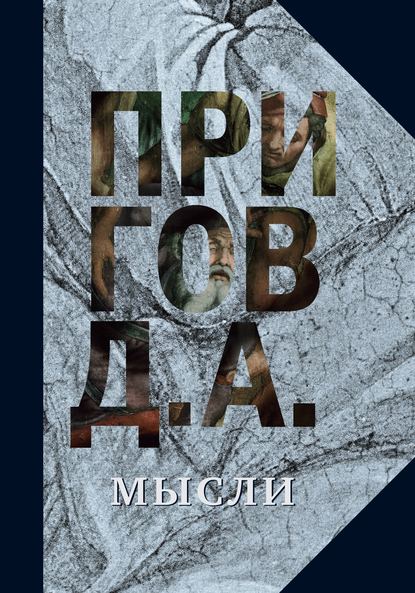«Искусство предпоследних истин»
Эстетика Д.А. Пригова
Марк ЛиповецкийИлья Кукулин
Этот том собрания сочинений представляет сторону Пригова меньше известную читателю, уже знакомому с приговской поэзией, прозой и драматургией, но неотъемлемо важную для всего корпуса его творчества: это программные и теоретические выступления, в которых он осмысливает свое эстетическое новаторство и в целом ситуацию современного искусства.
Пригов никогда не считал себя теоретиком. Но его художественное мышление было подчинено теоретической логике. Он формулирует свои художественные задачи, исходя из общего состояния культуры – как он его понимает на настоящий момент. Он неустанно и целенаправленно обдумывает современный ему культурный контекст, анализирует его логику в исторической перспективе и формулирует все новые и новые творческие стратегии в соответствии с этой логикой. Поэтому, чтобы адекватно понять смысл того, что сам Пригов называл своим «проектом», необходимо обсуждать его теоретические идеи, изложенные во многих (частично опубликованных) статьях, манифестах и интервью.
Эти идеи начали складываться, насколько можно судить, в 1970-е годы в диалоге с поэтами, художниками, музыкантами – концептуалистами и не-концептуалистами. В этот период в Москве возникают несколько неофициальных дискуссионных пространств, на которых «обкатывались» и разрабатывались важнейшие концепции эстетики русского постмодернизма: домашний семинар, собиравшийся на квартире у врача Александра Чачко; обсуждения post factum перформансов группы «Коллективные действия»; обсуждения новых работ в кругу концептуалистов.
Пригов разрабатывал на всех этих площадках характерные методы постановки проблем, касающиеся прежде всего необходимости анализировать художественные языки, их прагматику и присущую им «логику порождения… смыслов»1. Но сам он разработал собственную целостную эстетическую концепцию – точнее сказать, собственную программу по выработке радикальных художественных идей, которую, насколько сегодня мы можем судить, он реализовывал на протяжении всей жизни.
Пригов принадлежал к нечастому для русской культуры типу рациональных художников. Ситуация неофициальной культуры способствовала обострению рефлексивного начала у большинства авторов-участников, но у Пригова это начало было усилено еще и индивидуальными свойствами характера. Однако склонность к рациональным объяснениям своих и чужих действий ни в коей мере не ограничивает, а, наоборот, обосновывает спонтанность и импровизацию, свойственные его творчеству: Пригов, как мало кто, понимал и чувствовал ограничения современной рациональности и в то же время – необходимость осмысления эстетического действия внутри этих границ.
Читая «академические» тексты Пригова, надо иметь в виду, что он и в своих теоретических работах остается писателем-концептуалистом. Преувеличенно «интеллектуальный» стиль его статей балансирует на грани пародии на научный дискурс, а иногда превращается в его деконструкцию. Поэтому каждая его статья – это теоретическое высказывание (или манифест) и одновременно – перформанс такого высказывания. У Пригова есть и работы, специально написанные для академических изданий, но и они деконструируют стиль научного письма и мышления.
Часто приговский теоретический нарратив пародирует саму операцию постулирования аксиом. Любимое присловье, которое Пригов вводил при формулировке какой-нибудь особенно провокативной или эпатажной мысли: «А что, нельзя? Можно!..», «А что, неправильно? – Правильно…», «А что, неправда? – Правда…»
По-видимому, Пригов хорошо понимал, что любой манифест чреват утопизмом и ригористическим утверждением норм, обязательных для всех «правильных» художников. Опыт ХХ века показывает, что манифесты могут стать прекрасными художественными произведениями, но изложенные в них программы очень быстро оказываются исчерпанными2. Однако в то же самое время манифесты бывают совершенно необходимы для целеполагания и рефлексии оснований художественного творчества на современном этапе.
В своей «теоретической публицистике» Пригов попытался совместить такое целеполагание с критикой характерного для манифестов утопизма. Поэтому в них он часто показывает саму фигуру теоретика словно бы со стороны, изображая такого теоретика по правилам, напоминающим брехтовский театр, в котором между актером и ролью всегда должен существовать зазор, вносящий критическое отношение к высказыванию. Но в то же время Пригов вполне серьезно высказывает значимые для него идеи. Такое совмещение и является перформансом теории.
Такого рода письмо – как и многие приговские перформансы, относящиеся собственно к сфере искусства – основано на осознанном и подчеркнутом переключении позиций: исследователя, остраненно рационализирующего культурные процессы, и автора, театрально разыгрывающего себя и свое место в культуре на (квази)научном языке. Для окончательного «подвешивания» фигуры повествователя и превращения ее в неуловимую Пригов то и дело вставляет в наукообразные тексты оговорки с отказом от претензии на научность, но и сами эти оговорки пародийны по интонации, например: «Так ведь мы не ученые какие-нибудь». В другом тексте Пригов мог сменить маску на противоположную по смыслу: «Но мы ведь с вами люди науки, мы ведь следим тенденции, отслеживаем процессы, выявляем закономерности, ошибаемся в результатах, меняем направление, не замечаем реальности, погибаем в деталях, обманываемся в причинах, обнаруживаем сокрытое и достигаем результата. Так вот…» («Культо-мульти-глобализм»).
Пригов редко утруждает себя конкретными примерами, предъявляя читателю (или слушателю) выжимку своих наблюдений и размышлений. В его статьях никогда нет сносок, но зато анекдоты (нередко кочующие из одной статьи в другую) выступают в роли своеобразных коанов, с помощью которых автор иллюстрирует ту или иную идею. В сущности, крайне трудно провести границу между манифестами в традиционном смысле слова и приговскими обобщениями в его статьях, докладах или интервью. Кроме того, Пригов никогда не рассчитывал на их «совместную» публикацию, подобную той, что впервые осуществляется в этом томе. Часто, чтобы подойти к новой идее, он пытается обрисовать свои общие представления об истории и типологии культуры, задачах современного искусства, положении художника в российском (советском) и западном обществе и т.п. Отсюда – неизбежные самоповторы, особенно заметные, когда его тексты, созданные в разные годы, помещены под одной обложкой.
Не будучи научными в строгом смысле слова, эти тексты, тем не менее, многое скажут историку русской культуры рубежа ХХ–XXI веков. В большей степени, чем что бы то ни было, они позволяют понять самосознание художников и писателей эстетического андеграунда их интеллектуальную и культурную систему координат, оформляющую их взгляды на состояние и динамику культуры как в России, так и в глобальном масштабе.
САМОСОЗНАНИЕ АНДЕГРАУНДА: ОТ АВАНГАРДА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ
Несмотря на то что приговские идеи претерпевали известную эволюцию (о которой пока можно говорить достаточно гипотетически, поскольку многие его тексты не датированы), эта эволюция была непротиворечивой. Новый слой идей «надстраивался» над предыдущим, не отрицая, а наращивая предшествующую рефлексию.
С самого начала Пригов выступал как теоретик концептуализма. Можно обсуждать, насколько его творчество в целом было шире концептуализма, но очевидно, что с конца 1970-х до конца 1990-х Пригов декларировал взгляды, которые считал именно концептуалистскими, и лишь после этого положение несколько изменилось.
Самые ранние из известных нам теоретических высказываний Пригова относятся к концу 1970-х – началу 1980-х годов. Так, в статье о своем ближайшем друге художнике Борисе Орлове, написанной в 1981 году, Пригов четко формирует связь представленного Орловым (и им самим) направления в искусстве с американским поп-артом, обращая внимание на квазикультовый характер тогдашних скульптур Орлова, которые напоминали пародийные советские идолы: «Следует отметить и еще некоторые черты подобного религиозного искусства, хоть и не уподобляющие его традиционно-народному, но дающие основания для утверждения определенного типологического сходства. Это сходство, естественно, не в темах, а в принципе обработки тем, принципе конструирования произведений искусства и способа их бытования – клише, регулярный набор, цитатность, злободневность, открытый игровой момент, антипсихологизм и антиперсонализм, принципиальная эгалитаризация языка. Отбор тем идет по принципу предпочтения наиболее ходульных и фетишизированных, до конца понимаемых не столько в пределах самого произведения, сколько во взаимодействии его с контекстом жизни. Большое значение приобретает жест, указывающий на эти явления жизни» («Об Орлове и кое-что обо всем», 1981). Речь, понятно, идет о соц-арте и даже отчасти о концептуализме, но ни того, ни другого термина Пригов еще не употребляет – притом что оба они были в ходу в московском сообществе неофициального искусства еще с начала 1970-х годов.
Представление о связи между концептуализмом и религиозным искусством чуть раньше, в конце 1970-х, теоретически разрабатывал Б. Гройс, а практически – сам Пригов, Илья Кабаков, Всеволод Некрасов, Андрей Монастырский с его излюбленными указаниями на апофатическое и несказуемое в искусстве, тот же Орлов, а если брать близкий к концептуализму соц-арт – то и Эрик Булатов, Виталий Комар и Александр Меламид. Можно увидеть в этих размышлениях об Орлове и начало приговской концепции «назначающего жеста», которая займет ключевое место в его самоописании и созданной им типологии культуры (см. ниже): «Чем отличается язык художественного произведения, вернее, сам художественный текст от любого другого? – Да ничем. Исключительно жестом назначения. То есть помещением в определенный контекст и считыванием его соответствующей культурной оптикой <…> Автор же в данном случае вычитывается не на языковом, но на манипулятивно-режиссерском уровне, где языки предстают героями данной драматургии» («Взять языка», 2007).
В переписке с Ры Никоновой и Сергеем Сигеем – возможно, самыми последовательными неоавангардистами 1970—1990-х, в прошлом участниками Уктусской школы, а в начале 1980-х издателями и редакторами самиздатского журнала «Транспонанс» (Ейск, Краснодарский край) – Пригов отчетливо проводит границу между концептуалистскими экспериментами и наследием авангарда. Он говорит о происходящем «переломе в художническом и культурном сознании»:
Если все до сих пор сменявшие друг друга стили и течения говорили от имени самой последней истины в ее высшей инстанции и отменяли все предыдущие либо как несостоявшиеся, либо как к данному времени девальвированные, то новое культурно-художественное сознание, которое я помянул, все предыдущие и нынешние стили и течения понимает не как начисто отменяющие друг друга истины, оцениваемые по степени их приближения к абсолютной истине по некой объективной шкале, но как языки, достоверные только в пределах своих аксиоматик.
В письмах к Никоновой Пригов интерпретирует различие между авангардом и концептуализмом следующим образом: если в первом созданный художником язык или стиль являются выражением его «абсолютной» точки зрения, то концептуализм от такого подхода отказывается, заменяя его игрой с чужими языками (и их «абсолютными» истинами). Концептуализм, таким образом, деконструирует метафизику «абсолютных истин» путем их взаимной релятивизации.
Иногда он, концептуализм, берет готовые стилевые конструкции, используя их как знаки языка, определяя их границы и возможности, их совмещения и совместимости (это про меня). И если раньше художник был – «Стиль», являлся полностью в пределах созданной им по особым законам изобразительной или текстовой реальности, то теперь художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки.
Здесь также угадывается широкий спектр эстетических идей, которые Пригов будет разъяснять и разминать на протяжении многих последующих лет. Все они, эти идеи, складывались в кругу московских концептуалистов – отчасти под влиянием американских художников, о которых в СССР узнали в начале 1970-х благодаря попадавшим в страну англоязычным арт-журналам.
Перестройка – время, очень многое изменившее в судьбе Пригова, как и всего литературного и артистического андеграунда. Именно в эти годы Пригов становится известен как поэт и художник за пределами среды неофициального искусства. Его визуальные работы выставляются как в СССР, так и за рубежом – сперва в Западной Германии и США.
Параллельным курсом происходит «легализация» его литературного творчества. В 1988-м в журнале «Юность» в разделе «Испытательный стенд», представлявшем «молодых» – а точнее, экспериментальных с точки зрения официальной культуры – поэтов (под благожелательным кураторством Кирилла Ковальджи) выходит подборка его стихотворений. В том же году стихи Пригова появляются в журналах «Театральная жизнь», «Огонек», «Родник». В 1990-м подборку «Моя Россия» публикует относительно консервативный по своим эстетическим пристрастиям «Новый мир». И тогда же в серии «Анонс» при издательстве «Московский рабочий», серии, созданной специально для публикации неофициальных и полуофициальных поэтов, выходит первая в СССР книга стихов Пригова «Слезы геральдической души».
Начиная с этого времени сборники Пригова будут выходить регулярно в разных издательствах – от экспериментального «АРГО-РИСК» до академического «НЛО» и коммерческого «Эксмо». Без Пригова не обходится ни одно из новых изданий, ориентированных на публикации неподцензурной литературы: его тексты появляются в «Третьей модернизации», «Эпсилон-Салоне», «Соло», «Художественном журнале», «Пасторе», альманахах «Зеркало» и «Черновик». Он начинает выступать как публицист с колонками на радио «Свобода» (программа «Поверх барьеров») и в «Московских новостях», а в 2000-х годах его едкие политические комментарии появляются на сайтах Полит.ру и Грани.ру.
С начала 1990-х Пригов также много публикуется на Западе. В 1994 году в авторитетном славистическом журнале «Wiener Slawistischer Almanach» («Венский славистический альманах») выходит большая подборка его манифестов, а с 1996-го под редакцией Бригитты Обермайер начинает публиковаться собрание его стихов; к настоящему моменту выпущено 8 томов.
Все это время Пригов также выступает как аналитик, пытающийся теоретически осмыслить происходящие на его глазах процессы. Наблюдения за культурными диспозициями, возникающими на руинах прежней дихотомии «официальное / неофициальное искусство», с одной стороны, вызывают у Пригова чувство дезориентации: «Раньше была довольно простенькая, но удивительно эффективно работающая схема: официальное, неофициальное, когда при почти геральдически фиксированной, закрепленной знаковой системе этикетного поведения можно было заранее вычислить модель обоих типов литературных поз с последующими дефинициями: авангардист, традиционалист, пассеист, песенник и т.п. <…> раньше разведенные самым радикальным способом по самому образу жизни в литературе и жизни в жизни, нынче как ни в чем не бывало встречаются на одних эстрадах, в одних сборниках, в одних собраниях, за одним столом (последнее, правда, реже)…» («Минута – и поэты свободно побегут», 1989).
Однако Пригов в то же время был рад этому сдвигу устоявшихся иерархий, поскольку он позволял по-новому описать культурное поле. В поисках нового критерия дифференциации Пригов обращается к категории жеста: «В наше время, когда жест в маркированной зоне культуры квазиматериально значим не меньше, чем его традиционно самодовлеющая материализация…» (там же).
Жест в системе приговских идей – это заметное в публичном пространстве действие, по своей природе одновременно социальное и эстетическое; жест конституирует воображаемую субъективную инстанцию, которое можно назвать литературной личностью. Так, например, в предисловии к публикации в американском журнале «Berkeley Fiction Review» таких разных поэтов, как Елена Шварц, Виктор Кривулин, Ольга Седакова, Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский и сам Пригов, он пишет: «…жест в насыщенном культурном поле обрел значение почти равное тексту, судьба, четкое выстраивание поэтической позы со всей отчетливостью осозналось как важнейший компонент поэтики». Общим для всех этих авторов, по Пригову, были неизвестность, невключенность и непримиримость. «В отличие от культуры общепризнанной, повязанной разного рода внутренними и внешними, субъективными и объективными ограничениями, нормами, правилами этикетного поведения <…> <Шварц, Кривулин, Седакова, Рубинштейн и он сам> не только свободны от всего подобного, но и почитают за основной принцип своего культурного поведения, позы, доведение до предела обнаженности своих культурно-поэтических пристрастий» («Предисловие к поэтической подборке Кривулина, Шварц, Седаковой, Гандлевского, Рубинштейна и Пригова», 1984 или 1985). Жест в такой интерпретации реализует поведенческую стратегию, которая включает в себя и собственно поэзию.
Приговское понимание жеста принципиально отличается от модернистского жизнетворчества, которое предполагало превращение повседневной жизни в объект художественного творчества. Напротив, Пригов предлагает «оплотнение» творческого поведения, складывающегося из «жестов», «текстов» и выбора эстетических ориентиров, до нового «агрегатного состояния» – отрефлексированной личной концепции, последовательно реализуемой на протяжении многих лет. Эти-то персонализированные концепции и дают авторам, о которых он говорит, возможность сопротивляться агрессии советской литературной системы, по сути – безличной3.
С этих позиций Пригов уточняет смысл понятия «авангардизм», которым в те годы, как правило, описывалось все «альтернативное» в недавнем прошлом – то есть неофициальное – искусство4. Пригов в нескольких текстах предлагает различать три типа авангардизма: «1) авангард как использование отдельных новых приемов и тем; 2) авангард как стилеобразующее явление…; 3) авангард как тактика и стратегия поведения художника относительно основной культурной тенденции» («Потери в живой силе и технике», конец 1980-х)5. Причем из контекста понятно, что себя Пригов считает «авангардистом третьего типа» – целенаправленным создателем стратегий культурного поведения, альтернативного по отношению к мейнстриму.
Развивая эту идею, он приходит к характеристике художников своего круга как противопоставленных другим нонконформистам (а не только официальному искусству). В программной статье «Как вас теперь называть» (конец 1980-х) он пишет о конфликте двух типов творчества в андеграунде. С одной стороны, тип художника «духовно-отрешенного, разрабатывающего темы духовно-экзистенциальные или метафизические, вдали от социальных мотивов. Следы внешней жизни если и объявлялись в произведениях неофициального искусства, то крайне редко и в качестве презентантов антихудожественного, нечеловеческого или небытия». С другой – такие художники, как В. Комар и А. Меламид, Л. Соков, Б. Орлов, Р. Лебедев, Г. Брускин и он сам, которые обратились «…к языку и реалиям местной жизни, вводя их в сферу высокого искусства. То есть явилось осознание того факта, что, только вступив в зону этого языка (а не заклиная его или не замечая его, делая вид, что он не существует), можно понять его в себе, его в нас, нас в нем. И поняв это, отрефлектировав и артикулировав, мы можем обрести метауровень для манипулирования им, что в переводе в сферу социокультурную и экзистенциальную становится новым уровнем понимания и свободы» (там же).
Эта мысль возникла у Пригова еще до перестройки – о чем свидетельствует статья «Нога» (1984), в которой автор, говоря преимущественно о литературе, доказывает, что советский язык – это и есть язык современной русской культуры, ибо другого живого языка просто не существует, а попытки восстановить или «сохранить» язык разрушенных культурных традиций обрекают авторов на слепоту:
Речь идет о феномене, возникающем на пересечении жесткого верхнего идеологического излучения и нижнего встречного, поглощающего и пластифицирующего все это в реальную жизнь, жизнь природную <…>. Только в пределах очерченного нами контекста сможем мы определить истинное звучание современного языка, его претензии, его реальное значение и реальные значения, его пустоты и затвердения, его провалы и воспарения перед лицом простого быта и вечных истин, которые (вечные истины) сами в этой очной ставке должны будут доказать свои претензии, судить и быть судимы во взаимной нелицеприятной строгости.
«Жест» во всех этих эссе понимается широко – как позиция по отношению к «местному», то есть советскому или, по выражению Кривулина, «собачьему» языку, при которой художник одновременно признает этот язык своим собственным и занимает по отношению к нему критическую дистанцию, осуществляя своего рода феноменологическую редукцию «советского» в собственном сознании – и тем самым ставя под вопрос «принадлежность» сознания субъекту: «мое» сознание – никогда не вполне «мое»6.
Жест для Пригова предполагает действие, при котором художник вдруг может взглянуть со стороны на коллективные, обобществленные дискурсы, на которых ему/ей приходится говорить или думать, одновременно – доводит эти дискурсы до гротескного или забавного вида и тем самым изобретает заново себя, свое «я». Способность к жесту требует умения – и сознательного стремления – вычленять в своем сознании «общие», безличные клише, изобразительные и словесные. Такое стремление отделяет художников-концептуалистов не только от художников-метафизиков, таких как М. Шварцман, но даже и от более ироничных и абсурдистски настроенных авторов, таких как Владимир Немухин, не склонный, однако, к прямой рефлексии идеологически окрашенного языка. Более того, примерно такая же разница прослеживается и между Приговым и такими, уже упомянутыми неподцензурными авторами, как Елена Шварц, Виктор Кривулин (впрочем, его позиции конца 1990-х стали гораздо ближе к приговским, чем, например, в 1980-х) или Ольга Седакова7.
В этом смысле Пригов-постмодернист выступает как последовательный критик модернизма и любых его влияний; чтобы подчеркнуть радикализм своей позиции, он был готов критиковать и канонизированную в русской неофициальной культуре эстетику Мандельштама и Ахматовой, объявляя их поэтики глубоко устаревшими. Они устарели, считает он, потому что в их творчестве явлен образ поэта, давно ставший клише или «народным промыслом», по выражению Пригова. Это образ поэта как носителя сакрального дара высказывать истину.
Позиция аналитика-пересмешника, который трезво понимает, что его деятельность лишена сакрального эффекта и что сакральность литературы есть лишь один из аспектов «местного», то есть советского языкового мира, выдвигается Приговым в качестве альтернативного культурного жеста – начиная с ранних 1980-х и вплоть до поздних 1990-х, когда, как ему кажется, советский язык утрачивает свою актуальность.
Впрочем, с конца 1990-х, последовательно развивая собственные идеи, Пригов уже явно «перерастает» проблематику «классического» концептуализма и все больше обращается к рефлексии «высокого» европейского модернизма и романтизма. В новой ситуации, когда Ахматова и Мандельштам перестали восприниматься как актуальные авторы, модернистские стратегии представляются Пригову достойными не только развенчания, но и диалога. Этот диалог довольно хорошо прослеживается в его романах, где Пригов с явным интересом переосмысливает важнейшие стратегии русской модернистской прозы, от автобиографических романов Андрея Белого до «Детства Люверс» Бориса Пастернака и «Других берегов» Владимира Набокова.
КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?
Детализируя способы взаимодействия с «местным языком», Пригов формулирует теоретические принципы той эстетики, которая уже фактически сложилась в его текстах 1970—1980-х годов. Осознанные в это время характеристики новой эстетики Пригов развивает и шлифует в статьях 2000-х. Каковы основные положения этой эстетики?
1) «…сведение в пределах одного <…> текста <литературного или изобразительного> нескольких языков (то есть языковых пластов, как бы “логосов” этих языков – высокого государственного языка, высокого языка культуры, религиозно-философского, научного, бытового, низкого), каждый из которых в пределах литературы представительствует как менталитеты, так и идеологии. То есть происходит сведение этих языков на одной площади, где они разрешают взаимные амбиции, высветляя и ограничивая абсурдность претензий каждого из них на исключительное, тотальное описание мира в своих терминах (иными словами, захват мира), высветляя неожиданные зоны жизни в, казалось бы, невозможных местах. К тому же концептуальное сознание не ставит знак предпочтения или преимуществования ни на одном языке, полагая заранее истинность в пределах их, если можно так выразиться, аксиоматики» («Что надо знать», 1989).
2) «Этика невлипания» (или мерцания), то есть отсутствии идентификации автора с одним из этих дискурсов, техника критики противоположных, казалось бы, позиций: «этика художнического поведения как незадействованность, невлипание ни в один конкретный дискурс, но просто явление его в соседстве с любым другим или другими, то есть актуализируясь в текстовом пространстве в виде швов и границ…» («Мы так близки что слов не нужно», 1993). Важным, если не важнейшим аспектом этой этики становится «проблематичность личного высказывания» («Я знал его лично», 1994) – принцип, понимаемый Приговым как основополагающий для постмодернизма.
3) Персонажность автора, для которого теперь, «в отличие от предыдущих авторских поз, как бы нет пласта, разрешающего авторские амбиции. В данном случае если обычного исповедального поэта (чья поза по разным причинам в нашей культуре и читательском сознании идентифицируется с единственно истинной поэтической позой) в его отношении с текстом можно уподобить актеру, в идеале совпадающему с текстом, то отношение поэтов нового направления к тексту можно сравнить с режиссерским, когда автор видимо отсутствует на сцене между персонажами, но имплицитно присутствует в любой точке сценического пространства. Именно введение героев в действие, способы разрешения конфликтов и выведение персонажей из действия и объявляют особенности авторского лица. Нужно напомнить, что герои этих спектаклей не персонажи (даже типа зощенковских), но языковые пласты как персонажи, однако не отчужденные, а как бы отслаивающиеся пласты языкового сознания самого автора» («Что надо знать»). Отсюда же – «отсутствие в тексте пласта личных авторских амбиций, авторского маркированного языка, совпадающего с центральным положением художника – описателя мира <…> отсутствие утопически проективного пафоса, актуализация операционального уровня и пр.» («Без названия», 1995).
4) И как обобщающее условие одновременной реализации всех этих стратегий выступает перформатизм, или перенос «центра активности художника в сферу манипулятивности и операциональности» («Я его знал лично»); «жест, авторская поза <…> ограничивающий авторскую волю, авторское участие именно этим жестом, обретающим в культурном пространстве (то есть в атмосфере привычного ожидания акта высокого искусства) самостоятельное, хотя и внетекстовое значение» («Что надо знать»).
В итоге складывается эстетика и стратегия «испытания на прочность дискурсов и идеологий», принципиально отказывающиеся от «идеи прекрасного, безобразного или же нищего (по примеру, скажем, арте поверa8)» («Этика соц-арта», 2000).
В статье о соц-арте, написанной за две недели до смерти, Пригов говорит: «в ходе работы вырабатывалась некая технология испытания подобного рода тотальных языков, утопий и идеологий, а также и грамматика их прочтения не как абсолютных истин, но просто неких типов говорения, возможно, и истинных в пределах своей аксиоматики. Этот опыт и разработанность подобных художественных технологий в дальнейшем позволяли применять их и к испытанию любых других языков и высказываний для обнаружения скрытых тотальных амбиций» («Соц-арт», 2007).
В этом описании теоретической системы Пригова мы нарочно соединили цитаты из его программных статей, написанных в диапазоне от 1989 до 2000-х годов. В разное время Пригов называет эту эстетику то концептуализмом («Что надо знать», 1989), то постмодернизмом («Мы так близки, что слов не нужно», 1993; «Я его знал лично», 1994; «Без названия», 1995), то соц-артом («Как вас теперь называть», конец 1980-х ранние 1990-е; «Этика соц-арта», 2000; «Соц-арт», 2007). Различия между этими «номинациями» оказываются для Пригова достаточно факультативными. Скажем, говоря о соц-арте, он подчеркивает деконструкцию мифа, воплощенного в «соцязыке», хотя и оговаривается: «При общeкритическом отношении к используемому материалу, несомненно, не могли не проглядывать и элементы если и не восхищения и адорации отдельными его пластами и образами, то некоторой все-таки экзистенциальной повязанности с ним, даже привязанности по причине детских и юношеских искренних переживаний» («Соц-арт»). Сравнивая концептуализм и постмодернизм, он обращает внимание на «жестко-конструктивное отстояние автора от текста» в концептуализме в отличие от постмодернистского «мерцательного типа взаимоотношения, когда достаточно трудно определить степень искреннего погружения автора в текст и чистоту и дистанцию отстояния от него. Именно драматургия взаимоотношения автора с текстом, его мерцание между текстом и позицией вовне и становится основным содержанием этого рода поэзии» («Что надо знать»). Обсуждая собственно постмодернизм, подчеркивает «трагедийность проблематичности личного высказывания», поясняя: «Даже в самых интимных сферах человеческого проявления он <постмодернизм> обнаруживает культурную детерминированность нашего поведения. В искусстве это выявляется в тотальной аллюзивности и цитатности, насыщенности шоковыми приемами (именно в силу понимания их “языковости“ постмодернизм так легко обращается к эпатирующим темам и приемам), ироничности и прохладной отрешенности, что в единичных проявлениях вполне может быть свидетельством и совсем иных культурно-эстетических установок» («Я его знал лично»). А в статье «Концептуализм» 2003 года он скажет совсем просто: «…под этим титлом <концептуализм> подразумевалась достаточно большая и разнообразная группа художников и литераторов, многие из которых, строго говоря, в местах более корректных определений и терминологической строгости подобным образом названы быть не могли бы».