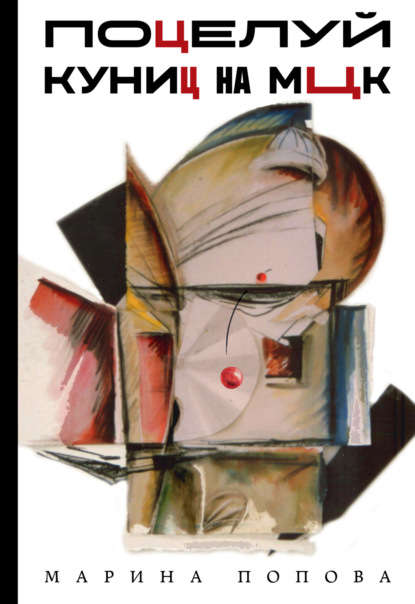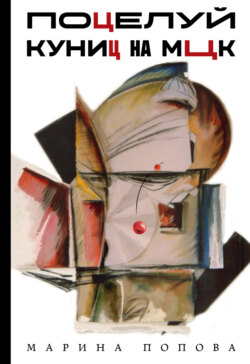
000
ОтложитьЧитал
3
На первый взгляд Канада мне понравилась. Несмотря на сходство климата и природы с российскими, все здесь было иначе. Разве не к этой инаковости стремилась моя душа?!
«Хай будэ гирше, абы инше», – любила повторять наша домработница Ганя. На этих словах она замирала и смотрела вдаль немигающим взглядом.
Знакомство с инаковостью страны вначале насыщало мое любопытство, но параллельно мне необходимо было находить что-то знакомое, родное из прошлой жизни, как например, «травки, цветочки», которые упомянула внучка Льва Толстого, когда мы встретились с ней в Риме… В детстве ее называли Татьяной Татьяновной, так как мать ее – дочь писателя – тоже звали Татьяной. Об этом мне рассказала моя тульская бабушка Н. А. Калашникова, – почти ровесницы, они приятельствовали в юности. Передавая мне копию старой фотографии, где все они красивые и молодые на прогулке в Ясной Поляне, она просила поискать Т. Т. в Риме. До нее дошли слухи, что Татьяна замужем за итальянским графом Альбертини.
Найти графиню оказалось нетрудно, она была президентом Красного Креста с офисом на Виа Венето. Более ухоженной пожилой дамы я в жизни не видела. Накануне она вернулась из Америки, где хоронили Александру Львовну Толстую, ее тетю. Говорили мы с ней о ностальгии, которую она, как мне показалось, остро ощущала.
– Ничего, вы едете в Канаду, это вам не Италия, – с некоторым пренебрежением сказала она. – В Канаде все очень, очень похоже на Россию – те же цветочки, те же травки…
И все же Канада совсем не была похожа на европейскую часть России. Я скучала по уютным городским паркам с большими садовыми скамейками, на которых в пору моего детства болтали между собой няньки, пока их подопечные играли в песочнице. Няньки лузгали семечки, и асфальт перед ними был причудливо покрыт шелухой; в солнечный день казалось, что она переливается узорами восточных ковров. Но Канада не Европа, не Москва, не Киев – там в цене дикая природа, парков в моем понимании не было, а в лесопарках по выходным происходили народные гуляния с дымом от барбекю, но не тем, что дым отечества, а с сильными запахами мультинациональных блюд, которые с непривычки мне не нравились. Я попробовала прогуливаться с новорожденным сыном в гипермаркете среди полок до потолка, заполненных всем, да не тем, – а даже если и тем… Я присматривалась к лицам. Толпы людей и… никого! Никто ни на ком не задерживает взгляд – никто, и я тоже. Они чужие и мне, и друг другу, их ничего не связывает, нет любопытства, ноль общих ассоциаций, нет «Двух капитанов», нет «Дикой собаки Динго», нет «Кортика», даже общих врагов нет. Редко, очень редко кто-нибудь задержит взгляд – и тут же: «Ах, простите, ошибка, я не хотел нарушать ваше личное пространство!»
Канадцы, несмотря на изобилие рас и народов, долго казались мне достаточно однородной массой, и все же постепенно индивидуальные черты стали проступать, как фото в проявителе, удивляя иногда неожиданными результатами.
Как-то раз в университете, где я читала лекции по русскому авангарду, я познакомилась с преподавательницей живописи – англичанкой «с лица необщим выраженьем». После занятий ее встречал муж, итальянский физик. Несколько раз они подвезли меня домой, и вскоре мы получили приглашение в гости. Кроме нас была еще колоритная супружеская пара – молодой японец-керамист с женой-американкой – профессором политэкономии, старше его на ощутимые годы. Когда она смеялась, часто невпопад, казалось, что она близка к истерике. Судя по всему, компания была нашего круга, и мы надеялась расширить светское общение. Мы оказались абсолютно не подготовлены к тому, что у интеллигентных людей, как мы это понимали в СССР, взгляды окажутся настолько несовместимы с нашими, что дело чуть не кончилось дракой. После вялого с нашей стороны разговора о преимуществах социализма (наш пост-сталинский советский они за социализм не считали), начался спор.
– Испортили гениальную идею, – сетовала жена японца. – Вы говорите, Сталин убийца? Да он построил вам самую справедливую страну, победил фашизм…
– А ГУЛАГ, а расстрелы?
– Вот скажите, – профессорша ткнула своего японца пальцем в лоб, – если у вас на лбу сидит комар, а я, желая его убить, чтобы спасти вас от укуса, промахнулась и стукнула вас по лбу молотком, я убийца?!
– Смотря кого вы убили, – резонно заметил муж.
– Вас, вас убила. Случайно!
– А комара? – съязвила я, понимая, что терять мне больше нечего и дружбе капец. И продолжила ерничать: – Более того, у меня был коллега-художник по фамилии Комар (я сказала Mosquito), так он в соавторстве с другим художником прославился, и теперь их работы находятся в Metropolitan Museum. Да что там, они продают и покупают человеческие души, и сам Энди Уорхол недавно продал им свою!
Тут вдруг керамист-японец оживился, приподнял свои тяжелые веки, которые у японцев случаются раз в сто лет, и произнес:
– Я читал о них в «Art in America».
Но распаленная профессорша уже ничего не слышала.
– Да что вам этот комар! Заладили: комар, комар, – она раздражалась все больше. – Положим, я его тоже убила!
– Ну так вы дважды убийца, – примирительно засмеялся муж.
Во время дебатов моя коллега и несостоявшаяся подруга убегала на кухню, а итальянец попыхивал трубкой и в спор не вступал. Много позже мы узнали, что в Италии он был членом «Красных бригад» и до поры до времени скрывался в Канаде.
Натянув на себя канадские теплые парки, мы выскочили на улицу. Мороз стоял такой, что зубы стыли. Долго разогревали машину…
Для нас тогда было странно, что и в дальнейшем мы часто встречали западных интеллектуалов, особенно университетских, с подобными взглядами. Как детей не учит опыт родителей, так исторический опыт не учит человечество.
* * *
И все же я нашла настоящего друга и единомышленника. Знакомству нашему предшествовала смешная история.
Надо сказать, что на квебекской почве с завидным постоянством вырастают большие, международно признанные таланты в самых разных областях искусства. Однажды в газете я увидела рецензию на выступление монреальской балетной трупы «La la la human steps» – уникальный балет с непредсказуемой хореографией. Я была заинтригована. В тот же вечер мы с мужем, захватив нашего гостя из Оттавы, приехали в какой-то невзрачный театр в центре города. Все билеты проданы, но я уже била копытом. Когда я чувствую, что то или иное событие меня может по-настоящему зацепить, вдохновить, в меня словно черт вселяется. Пропадает страх сцены, приходит смелость и рождается сюжет. Когда подобное происходит во время работы, кажется, что кто-то невидимый ведет тебя. Такое состояние часто приносит хороший результат.
Еще ничего не придумав, я направилась к кассе и, усиливая акцент, сообщила обалдевшей кассирше, что я – художник Большого театра, со мной два работника из российского посольства, и приехали мы специально увидеть балет «human sex» вашего прославленного коллектива.
– Ой, – сказала зардевшаяся от волнения девушка, – а меня зовут Татьяна.
– Неужели русская?
– Нет, только имя.
И она бросилась за менеджером.
Мужчины мои стояли притихшие. Я им только успела шепнуть, что английского они НЕ знают и НЕ понимают, как тут Танечка вернулась с менеджером. Он с некоторым подозрением посмотрел на нас и, слегка замешкавшись, подал руку «посольским», назвав свое имя. Тем ничего не оставалось, как назвать свои имена.
– Странно, – обратился он ко мне, – обычно посольские звонят заранее, предупреждают о своем визите.
Я пожала плечами – мол, откуда мне, художнику Большого театра, знать повадки советских чиновников.
– Татьяна, три контрамарки, пожалуйста.
Я бросилась доставать кошелек…
– Нет, нет, вы мои гости, – сказал он и растворился в темноте.
Я даже не успела его поблагодарить. Нас посадили за круглый столик прямо перед сценой.
Там уже шел перформанс. Три акробата-танцора подбрасывали и ловили партнеров, едва заметно касаясь друг друга. Один из них неопределенного пола не то с пушком, не то с нарисованной тенью под носом, был создан творцом из одних мускулов и сухожилий. Теперь-то я знаю, что это была невероятная Louise Lecavalier, которая танцует свой фирменный балет по сей день, в 65-летнем возрасте.
Через несколько лет после описанных событий я готовилась к очень важной персональной выставке. Мой агент Джон позвонил за несколько дней до открытия и сообщил, что интервью у меня будет брать известная в Монреале арт-критик, и к этому следует отнестись со всей серьезностью. Говорят, она сука и надо быть с ней очень осторожным, выбирать, что сказать, а что нет. Мы с тобой вечером встречаемся выпить пива с моим другом Мишелем. Он, известный опытный продюсер, научит тебя, как обходиться с массмедиа.
Я обожала Джона за его простодушные и одновременно деловые, полные поддержки письма в стиле Тео Ван Гога брату Винсенту. Письма веселили и трогали.
Мы пили пиво с креветками, и симпатичный продюсер подтвердил, что с Энн следует держать ухо востро, потому что до того, как стать арт-критиком, она была политическим журналистом и до сих пор любит задавать каверзные вопросы. На этом наука более или менее закончилась, и мы набросились на питье и еду. Потом, разморенные пивом, все молча покуривали, и тут я решила вдохнуть жизнь в увядший разговор. История была смешная. Я начала плести рассказ о том, как ходила на балет «La la la human sex»; название его отличалось от названия труппы одним словом.
На словах «…странно, обычно посольские предварительно звонят…» у меня и у продюсера одновременно отвисли челюсти, и мы уставились друг на друга… Джон переводил взгляд с Мишеля на меня и обратно. Немая сцена, минута молчания, гром среди ясного неба – мы узнали друг друга! Мне казалось, что эти гляделки никогда не кончатся. Но вдруг Мишель очнулся и произнес фразу, показавшую, что знаменитыми продюсерами просто так не становятся, а джентльменами рождаются.
– Человек, который приходит с такой историей, заслуживает бесплатных билетов, – сказал он, положив конец неудобной ситуации.
Вот какие события предшествовали моему знакомству с арт-критиком, которая стала первым покупателем моих работ, написала статью о той выставке и писала обо всех последующих.
До Энн английского в Канаде мне хватало с лихвой. Еще в школе я увлекалась английской грамматикой, особенно сложными ее временами, и поначалу, приехав в Канаду, использовала их все, вызывая поощрительное удивление местных жителей. На бытовом уровне они, как и их предки, происходившие из разных стран и слоев общества, прекрасно обходились упрощенным в той или иной мере языком. С пониманием дело у меня обстояло хуже из-за мультикультурных акцентов и моего скромного словаря. Потом все это нивелировалось, моя повседневная грамматика тоже стала проще, а понимание улучшилось. Когда же появилась Энн, и наши разговоры перешли на другой уровень, я поняла, что эмиграция в иной язык, казавшаяся мне успешной, явно не дотягивает до свободного разлива родной речи.
Интервью проходило на кухне ее старинного дома в шотландском стиле. Внутри дом был чудо как хорош: высокие потолки, деревянная лестница с надежными резными балясинами. Зато снаружи… не сарай, конечно, но взгляду европейца не на чем остановиться.
У Энн было умное, красивое лицо, но какая-то печаль чувствовалась в нем. Она задавала вопросы, курила, варила кофе и опять возвращалась к интервью. Поколдовав в очередной раз над кофеваркой, она вдруг резко повернулась ко мне и спросила:
– А это правда, что если подружился с человеком из Восточной Европы, то это навсегда?
В этом простодушном вопросе было столько обаяния, что я даже вздрогнула, как будто прозвучала русская речь, по которой за пять лет я порядком соскучилась.
Конечно же, мы подружились! Навсегда, которое длилось не очень долго и закончилось ранней ее смертью.
Я вела машину по заснеженному Монреалю. Иногда я отрывалась от дороги и смотрела на свою лучшую подругу – sis, как называли мы друг друга. (Sis – от sister, хотя в Калифорнии у нее жила родная сестра, а рядом имелись муж и обожаемый сын, но более одинокого человека я не встречала.)
Я делила друзей на наших и англоговорящих. Английские предполагали некоторую работу над собой в смысле языка, с русскими было легче разговаривать, но тем часто не находилось.
Энн сидела, по привычке вдавившись в сидение, сцепив руки бубликом. Со времен небольшой автомобильной аварии много лет назад у нее развилась фобия, и она больше никогда не садилась за руль. Но и пассажиром она была тяжелым: хватала за руки, подсказывала, нервничала, вскрикивала, испуганно замолкала, как сейчас. В миру же… нет, веселой ее не назовешь, но зажигательной она была.
– Я бестия, – говорила она игриво и пела прокуренным контральто что-нибудь из «Порги и Бесс» или американских мюзиклов.
Изредка я косилась на ввалившийся профиль, на дурацкую лыжную шапочку, под которой был почти лысый череп с несколькими светлыми хлопьями вместо густых каштановых волос и стильной стрижки еще месяц назад, когда у нее обнаружили рак легких в последней стадии. Она много и давно курила, что очень нервировало ее двенадцатилетнего сына, и он читал ей нотации. Этому способствовала недавно развернувшаяся кампания против курения, поддержанная школой и СМИ. Теперь ее страх усугублялся чувством вины перед сыном, поэтому Энн решила сказать ему полуправду: «Рак – да, но не легких, а груди». За те несколько месяцев, которые оставались, ей еще предстояло пережить разного сорта разочарования. Кое-кто соорудил Берлинскую стену, как, полушутя-полурыдая, прокомментировала Энн, когда ее соседка, завидев нас, перешла на другую сторону. Я была возмущена. Вероятно, теперь я не была бы так строга… А тогда мы еще жили своей молодостью, а Энн вдруг предстала реальной границей между жизнью и смертью.
Мы ехали вдоль реки Святого Лаврентия. Был солнечный воскресный день, и на лед высыпала куча народу с собаками, санками, лыжами… Ни малейшего ветерка. Снежинки размером с блюдце мягко падали на все это живое великолепие. Энн попросила остановиться. Мы вышли из машины. Теперь в пейзаж добавились голоса, лай собак – резонанс на несколько километров. Звук, уплотненный эхом, был объемным, небо нависало голубым солнечным куполом над широкой белой рекой с маленькими жанровыми сценками вдалеке. Мне даже не надо было смотреть на подружку, я чувствовала, как внутри у нее все обрывается.
– Поехали, – сказала я.
Мы молча сели в машину. Я свернула на дорогу, ведущую на скоростную трассу, – хватит этих красот, хватит!
– Дай руку, погадаю! – говорю я.
– А ты умеешь?
Глаза у нее затравленные, но, как тусклый свет в тумане, пробивается в них надежда.
– Кое-что знаю. Не много, но кое-что.
Энн стягивает перчатку и дает мне холодную лапку. Притормозив на светофоре, я разглядываю ее ладонь. Сзади гудят, но Энн это больше не беспокоит. Вероятно, ее организм понял, что автомобильная катастрофа – это не про нее…
– Ну, дорогая моя, что-то тут не сходится, – начинаю я. – Посмотри, это линия жизни. Видишь, где-то в середине она почти прерывается, а потом опять восстанавливается и вон куда, почти на пульс заворачивает.
Она тащится за этой линией, закатывая рукав куртки. Меня совсем «загудели», и я трогаюсь с места. Все кому не лень обгоняют нас, а некоторые показывают средний палец. Идите вы все на хрен, у меня тут подруга собралась умирать. Энн дрожит от нетерпения. Автомобильной фобии как не бывало.
– Sis, тут разрыв не в середине, а ближе к концу, – говорит она.
– Ты не торгуйся, все правильно. Сорок пять лет ты уже прожила; разрыв означает болезнь, но ты выкрутишься и проживешь еще тридцать. Не так мало.
Начало смеркаться. Энн включила лампочку над пассажирским сидением и погрузилась в изучение своей руки. Иногда она задает вопросы, и я отвечаю, как могу…
4
Что может быть скучнее чужих снов? Вопрос риторический, и я позволю себе рассказать один. Приснился он мне через несколько лет пребывания в Канаде и был этакой смесью советской пропаганды, голливудских фильмов, собственных незрелых выводов…
Во сне я оказалась в подвальном этаже, где происходила party домохозяек. Они праздно двигались с бокалами вина, обмениваясь птичьими приветствиями: «How are you, nice weather etc». Я никого не знала и не представляла, кто меня сюда пригласил. Неприкаянно я тыкалась то в одну группу, то в другую, пытаясь заговорить, но никто не обращал на меня внимания. Уже уходя, я заглянула в приоткрытую дверь. За ней была довольно большая комната, вероятно выполнявшая функцию домашнего театра. На сцене, свесив ноги в зрительный зал, сидел рябой деревенский мужичок с круглыми карими глазами и ел здоровенный бургер из Макдоналдса. Он был весь в крошках, перемазанный кетчупом, а в жидкой рыже-белесой бороденке застрял кусок лука. На лице его играла смущенная улыбка, он явно стеснялся своей неаккуратности. В глубине сцены стояло кресло с высокой деревянной спинкой, напоминавшее мольберт. В крохотном зале несколько фуршетных дам ровняли ряды стульев. Одна из них, стриженная под мальчика блондинка, подошла ко мне. Вероятно считая, что я в курсе дела, она указала на рубильник возле двери:
– Когда к вам обратятся, все что нужно будет сделать, это воткнуть штепсель в розетку и включить рубильник.
Я ничего не поняла, но стало как-то не по себе.
– Что здесь происходит?
Она подвела меня к сцене и стала объяснять, что волноваться не о чем. Все будет готово: ремнями пристегнут к стулу щиколотки и запястья, а когда подойдет мой черед, мне останется только включить ток. Я вдруг почувствовала редкий в этих краях крепкий запах застоявшегося пота, который шел от маленького человека.
– Плата за работу – освобождение от налогов за этот год! – сказала блондинка. – Для новоприбывших, как вы, я думаю, это будет не лишним, тем более it’s not personal – strictly business! (англ. Ничего личного – исключительно бизнес.)
Как будто разряд тока прошел через меня от невероятной диспропорции, несоответствия этих двух действий! Мужичок смотрел на нас теплыми карими глазами, застенчиво улыбался, согласно кивал, подбадривая меня. Теперь я поняла, что стул с высокой спинкой был ничем иным, как электрическим стулом, а рябой мужичонка, похожий на Платона Каратаева, – персонажем, которого сегодня пригласили на казнь. Я долго носилась с этим сном как с писаной торбой, подозревая, что есть в нем какая-то суть, понять которую я пока не могла.
Однажды в галерее современного искусства, куда мы зашли с Энн, я описала этот сон. Идея заинтересовала галериста, и он предложил мне подумать об инсталляции или видео на тему смертной казни, как она видится новоприбывшему из страны с тоталитарным режимом. Ситуация со смертной казнью в Северной Америке была тоже неоднозначна. В Канаде она редко, но все еще применялась, поэтому мой сон, если посмотреть на него под определенным углом, попадал прямо в сферу актуального искусства. Не случилось. Тогда я не мыслила себя в подобном формате, оставаясь преданной цвету, старомодно выражая это в живописи. К тому же меня больше интересовала общая картина мира, а не конкретная тема, и подобный проект мог занять много времени, а мне его почему-то было жаль, хотя не сказать, что я им так уж хорошо распорядилась.
* * *
За пару лет до смерти Энн мы собрались за обедом в ее саду послушать нашу подругу, замечательную польскую художницу, которая только что вернулась из Саудовской Аравии, где преподавала арт в закрытом интернате для девочек из богатых семейств. Отсутствовала она в Канаде два года. Там ей щедро платили, а жадное до налогов канадское правительство не могло дотянуться до зарубежных доходов своих граждан. Мива, крупная elegancki kobieta (польск. элегантная женщина), полулежала в шезлонге и никак не могла начать рассказ. Вообще Мива это Мила, которая не выговаривает «л». Наконец, после нескольких стопариков водки мы узнали поразительные факты той жизни.
Интернат был оснащен великолепной библиотекой со всевозможными книгами по истории искусств, мастерскими со станками для шелкографии, офортов, линогравюр, дорогими наборами красок и пастелей. Готовясь к своему курсу, Мива испытала настоящий шок, когда, листая альбом Матисса, нашла, что все изображения интимных мест были жирно заштрихованы черным фломастером. В альбомах по Возрождению, импрессионизму, романтизму, модернизму все тоже было замазано. Сначала она решила, что шалят студентки, но позже преподаватели-иностранцы объяснили ей, что это была рука цензуры.
Мы внимали…
– И это сейчас, когда давно написана и ставится нашумевшая пьеса Ив Энслер «Монологи вагины»! – воскликнула Мива. – Ох, кобьетки, мои дорогие, это чужая цивилизация, и она часто открывается в мелочах и не только!
Богатые и знатные студентки под абайей – строгой традиционной накидкой в пол – носили брендовую одежду, туфли на высоких каблуках (лабутены пользовались большой популярностью); шкафы в их комнатах ломились от топовых сумок, ювелирных украшений и аксессуаров. Все делали макияж, а те, кто носил никабы, особенно старались выделить оставшийся островок лица, – ярко, по-театральному красили веки, глаза, ресницы, брови. В основном девушки оказались милыми, в меру любознательными, легко шли на контакт, но не понимали, почему их преподавателю штриховка в книгах казалась дикостью (свои взгляды Мива не скрывала).
В выходные дни профессора-иностранцы собирались вместе и ездили на пляж. Законы не предписывали им носить абайи или никабы, но одежда должна была прикрывать тело как можно больше.
Мы помолчали и еще раз выпили. Мива была погружена в тот мир, и мы, вероятно, казались ей пресными.
– Расскажи о самом неприятном и самом приятном, что ты там видела, – попросила Энн.
– Это было не неприятное, а страшное!
Мива и страх несовместимы. Среди нас она была самая отважная.
Однажды в выходной день она отправилась на базар в поисках старинных монет, из которых, просверлив дырочку, делала браслеты и ожерелья.
– Вы, конечно, представляете восточный базар; там всегда крикливо, но в тот день ближе к полудню обычный торговый шум сменился тревогой, лязгали жалюзи – магазины закрывались. Полиция широкими рядами прочесывала базар и что-то выкрикивала. Я побежала, но, завернув за угол, увидела, как прямо на меня идет другой отряд полицейских. Это была облава! Чья-то рука схватила меня и затащила внутрь… Я оказалась в ювелирной лавке. Хозяин, пожилой араб, запер дверь и крикнул по-английски: «Беги в подсобку! Полиция собирает народ на базарную площадь, там сейчас будет казнь!» Фактически через стенку от себя я слышала вздохи толпы и… зухр – полуденную молитву, после которой совершается казнь. Меня начало выворачивать. Добрый мой спаситель подставил тазик и поддерживал лоб, как когда-то делала мама. Только ночью я пробралась в свою предоставленную школой квартиру и стала думать, как бы разорвать контракт (работать мне оставалось еще год).
Мы молчали.
– В Саудовской Аравии, – глаза у Мивы были словно повернуты внутрь, – смертная казнь для мужчин – это отсечение головы саблей, для женщин – побиение камнями.
– Охренеть, – выдохнула Энн.
Мы были пришиблены ее рассказом. Конечно, до нас доходили слухи, но тут живой свидетель в нескольких метрах от базарной площади! Каждый думал о своем. Я вспомнила сон про электрический стул. Первоначальное «приятное – неприятное» как-то истаяло, и про «самое приятное» мы даже не вспомнили. А вот Мива не забыла. Она сняла с шеи цепочку с серебряной монетой и положила перед нами.
– А вот это – самое лучшее, что там со мной случилось. Этой монете пятьсот лет, и подарил мне ее… принц на белом коне.
Она улыбнулась, слегка приоткрывая десны:
– Отгадайте, кто был сей принц?
Мы не знали.
– Старый саудовец – хозяин лавки, а монета – мой счастливый талисман, – закончила Мива и, поцеловав монету, снова надела ее на шею.