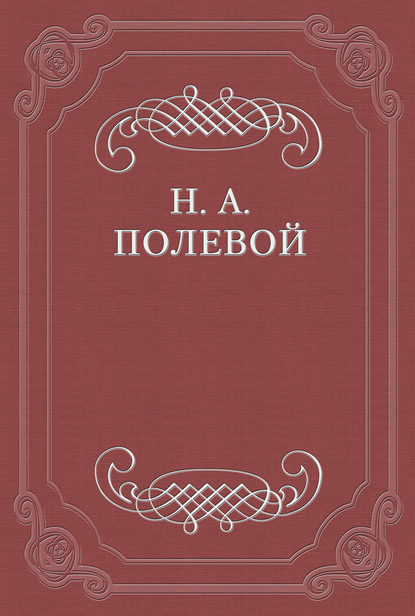Look on a love which knows not to despair,
But all unquench'd is still my better part,
Dwelling deep in my shut and silent heart
As dwells the gather'd lightning in its cloud,
Encompass'd with its dark and rolling shroud.
Till struck, – forth llies the allethereal dart![2][3]
Байрон
I
В отдаленной части Москвы, именно в Немецкой слободе, но нашествия Наполеонова было много милых, веселых домиков и больших боярских домов. Теперь это изменилось: Немецкая слобода застроена фабриками, заводами, казенными училищами; только развалины, обгорелые в 1812 году, видны от большей части прежних боярских домов и вывески пансионов застилают собою стены обширных палат вельможеских, уцелевших от пожара двенадцатого года или возобновленных после него. Прихоть перенесла обиталища знатных людей в другие части Москвы. Но когда все это было не так, до 1812 года, говорю я вам, в Немецкой слободе из числа великолепных домов вельможеских великолепнее других был дом князя С***. Тенью своею застилал он всю улицу; обширный сад, окруженный каменною стеною, с чугунными фигурными столбиками по тротуару, помощенному чугунными плитами, и с железными цепями от столбика к столбику, примыкал к нему с одной стороны. Огромные старые деревья видны были из-за садовой стены, и гордо шумели вершины их, равные с вторым этажом княжеских палат. С другой стороны дома, похожего видом на старинный фигурный комод, с раковинами на полукруглых окнах и с обширным балконом, окруженным фигурною решеткою, были исполинские ворота. Сквозь их железные, всегда растворенные решетки открывался обширный мощеный двор с флигелями, где помещалось ста три дворовых людей, бывших для услуги при князе и княгине, жен их и детей. Двор этот вдали оканчивался чугунного решеткою и опять железными симметрическими воротами, ведущими в регулярный, стриженый сад. Об обширности сада судите по тому, что Яуза текла через него.
Таков был дом князя С***. Подле этого обширного, построенного во времена императрицы Елисаветы[4] дома рядом находился домик, деревянный, обитый тесом, выкрашенный серою краскою; и – если бы счастию надобно было выбирать себе жилище по сердцу, не знаю, едва ли не этот домик выбрало бы оно себе и едва ли не предпочло бы его огромному соседу, великолепному княжескому дому. Идя поутру мимо серого домика, редкий прохожий не останавливался, видя сквозь светлые стекла его в небольшой зале прелестную картину вроде картин Августа Ла-фонтена: каждое утро за большим столом сидели тут трое милых детей – настоящие Грёзовы головки. Дети сидели и учились; в стороне, под окном, всегда сиживал тут же в больших креслах старик с дымящеюся трубкою и с книгою или с газетами в руках. Его не умел бы написать Грёз, потому что он не умел писать этих добрых немецких лиц, этих длинных седых волос, внушающих какую-то невольную почтительность. Грёз не мог бы написать и еще двух лиц, которые можно было всегда заметить сквозь светлые окна серого домика: старушки в огромном чепчике, с очками на глазах, заботливо занятой вязаньем или штопаньем чулков, – истинного изображения доброй немецкой хозяйки, и молодой девушки, которая учила детей, сидя с ними за большим учебным столом их.
Люблю я эти готические лица немецких стариков и старушек, смолода краснощекие, прикрытые русыми кудрявыми волосами, украшенные голубыми глазами, и тихо, постепенно перешедшие к седым волосам, морщинам и выражению доброты, откровенно высказывающей вам всю жизнь, за которую едва ли не всякий день благодарили они бога! Иногда и на этих лицах увидите неправильную морщину – след печали, горести, сердечной потери, но такая морщина – пришлец между другими собратиями, показывающими, что жизнь постепенно накладывала их на лица добрых людей, как часовая стрелка постепенно переходит от одной минуты к другой, от одного часа к другому, пока укажет полдень, вечер, наконец – полночь, добрую ночь! – Да, смотря на такое лицо старушки, я готов сказать вам, что жизнь ее прошла, как ясный весенний день, что было для нее время учиться и помогать матери в хозяйстве, потом время любить, любить тихо, весело, при самом начале любви думая о подвенечном платье и заведении своего маленького хозяйства и переходе для этого хозяйства из кухни матери в кухню мужа, с которым совестно не быть счастливою: так он добр, так он заботлив, так он любит тихо, кротко, нежно. Печаль и горе в жизни таких людей – это облачки, рассеянные на ясном небе. Они, эти люди, по капле пьют столь горькое для многих питье, которое судьба подает каждому из нас при рождении, – жизнь – и, допивая его при дверях гроба, среди добрых, милых им людей, с сожалением заглядывают в бокал, ими осушаемый, и жалеют, что в нем остается допить только несколько капель.
Старик с газетами и старушка с чулком, обитатели серого домика, прожили жизнь свою так: это видно было из всего – из их взоров, часто с благодарностию обращавшихся к небу, из тихого пожатия руки, каждый раз, когда старушка проходила мимо старика, из их ясных, добрых лиц, из того, как они смотрели на малюток детей, из того, как эти малютки обнимали их и доводили до слез своими ласками. Он и она изображали собою прекрасный вечер прекрасного дня.
Но девушка? Правда, по ее беленькому, всегда опрятному платьицу, розовым щечкам, голубым глазам, зеленому передничку, стройной ножке, тоненькой талии можно было видеть, что это молоденькая немка, милое, доброе создание, утро дня жизни, ясного и тихого; но, и не бывши Нострадамом[5], не умея составлять гороскопов, можно было задуматься, глядя на нее, подумать, что едва ли ей предоставляла судьба участь, подобную участи ее деда и бабушки (старик и старушка, жившие с нею, были ее дедушка и бабушка). Из чего можно было так заключать? Она была так скромна, так проста, так мила; от учебного стола братьев весело переходила она к хозяйству, от хозяйства к своему фортепиано, от фортепиано к своему «Sammlung gottesdienstlicher Lieder»[6] и с таким полным радости сердцем пела вместе с дедом своим: «Deines Gottes freue dich, dank ihm, meine Seele! Sorget er nicht vaterlich, da8 kein Gut dir fehle?»[7]
Все так. Но, всматриваясь в нее, в эту девушку, вы заметили бы какую-то невольную задумчивость, когда ей вовсе не о чем было задумываться, увидели бы иногда в глазах ее навернувшиеся слезы – не радости и не печали, а чего-то тайного, грустного; она закрывала тогда глаза своею ручкою и потом подымала их к небу; и тогда можно было заметить, что у нее глаза не просто будущей немецкой хозяйки, голубые, но какие-то светлые, яркие, почти лазуревые, способные сверкать чудным огнем. У девушки, которую судьба предназначает просто быть доброю хозяйкою и размерять жизнь свою определенными шагами от колыбели дитяти до кухни, никогда не подымается грудь от такого тяжелого вздоха, никогда щеки не пышат таким неопределенным румянцем, и этот румянец не сменяется потом вдруг такою бледностию. Вглядитесь в нее: и волосы ее не просто русые – они отливают каким-то особенным, бледно-золотистым цветом, и эта белизна лица не просто белизна всякой молодой девушки в семнадцать, восьмнадцать лет: это какой-то особенный поэтический цвет, о котором певали немецкие миннезингеры, какая-то прозрачность тела, о которой говорит современный нам Данте: «а travers ton beau corps mon ame voit ton ame» («сквозь твое прекрасное тело душа моя видит твою душу»). Вы видите эту девушку за рукодельем, за учебным столом, подле деда, бабушки; она тиха, тиха, безмолвна, глаза ее опущены; вокруг нее пустота души и сердца, ни одна страсть не смеет приступить к ней, близ нее не слышно пламенного дыхания юноши, который угадал бы ее душу, не слышно и биения сильного сердца, от которого страшными звуками отзывалось бы ее сердце, как струна сама собою вторит струне, на один лад с нею настроенной. Да, эта девушка может умереть, сама не сознавши души своей; ее небесная гостья может безмолвно протосковать всю жизнь в ее прекрасном теле; девушка эта может наконец задохнуться сердцем и душею в объятиях молодого, благопристойно-красивого, ласкового, благоразумно любящего супруга, и жизнь ее тогда пройдет так же тихо и весело, как тихо и весело танцуется немецкий вальс, оканчиваемый гросс-фатером, как протекла жизнь ее бабушки… Но что будет с нею, если злобный демон страстей зажжет ее бытие сильными страстями? Кстати: на учебном ее столике, подле тетрадок, лежит какая-то маленькая книжка; это Шиллер, сумасброд Шиллер, напечатанный в маленький формат, по немецкому обычаю, на серой бумаге; и глаза ее задумчиво устремлены на стихи:
Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glucke![8]
Ich bring ihn unerbrochen dir zurucke
Ich weiss nichts von Gliickseligkeit…[9]
И кажется, что старики вовсе не замечают этого проклятого Шиллера, не видят, как читают его украдкою, когда добрые старики думают, что внучка разбирает грамматический смысл какой-нибудь фразы в детском «Lesebuch». Милое создание! брось, ради бога, брось этого Шиллера! Возьми лучше с старинного туалета бабушки твоей «Livlandisches Kochbuch»[10] и читай в ней, как готовят пикули и делают сою…
Но я рассказываю вам столько подробностей о девушке, обитательнице серого домика, а не сказал вам еще ни имени ее, ни кто такие старик и старушка, с нею живущие, ни что это за дети, которые живут с нею и с ними. Объяснить такие семейные подробности – если они вам надобны – не долго: девушка, о которой я рассказывал, – Эмма, Старик – это уже вам тзвестно – ее дед, старушка – ее бабушка; трое мальчиков – ее маленькие братья; и все они и она составляли доброе, счастливое семейство, которое до 1812 года обитало в маленьком красивом домике, в Немецкой слободе, подле огромного дома князя С***.
Биография старика была очень проста и не велика. Отец его был немец, приехал в Россию, когда вызвали из Германии знающих людей для устройства в России почтамтов. Определясь в Москве, он прожил в ней всю жизнь; лет двадцать просидел подле почтамтского окошечка, ежедневно, кроме воскресных дней, принимая письма; но при том он успел выполнить почти все, что Стерн[11] почитал необходимою обязанностию каждого честного человека, то есть: женился, построил дом, насадил сад (только не написал ни одной книги и едва ли читал что-нибудь, кроме немецких газет и деловых бумаг); потом передал и домик, и садик, и небольшое нажитое им имение сыну, который, не имея охоты сидеть в почтамте, сделался учителем немецкого языка в Москве, женился в свою очередь, на старости лет перестал учить немецкому языку и спокойно доживал век свой в отцовском домике, который перестроил он и выкрасил серою краскою. Детей у него не было. Услышав, что племянник его, служивший в Петербурге, умер, оставив дочь и трех сыновей, старик, в первый раз в жизни, оставил Москву, поехал в Петербург, обнял там со слезами сирот племянника, маленькую Эмму и братьев ее, поклялся заменить им отца и привез их в Москву, где в доброй старушке, жене его, Эмма и братья ее точно увидели вторую мать, а в старике деде – второго отца. Уже несколько лет прошло после поездки старика в Петербург. Эмме было уже семнадцать-восемнадцать лет; но благодарная молитва к богу все еще означала для нее каждый вечер, когда день оканчивался, и Эмма, удалясь в свою комнату, надев на свою головку спальный чепчик, размышляла несколько минут о том, что происходило с нею в этот минувший день и не согрешила ли она перед богом чем-нибудь? Не огорчила ли чем-нибудь папеньку и маменьку (так называла она деда и бабушку)? Потом – и то не всегда – она задумывалась, думала несколько минут – сама не зная о чем… «Нет ничего опаснее таких неопределенных дум!» – скажете вы. Может быть; только уверяю вас, что Эмма после того каждый вечер засыпала тихо и спокойно, и никакое дневное событие не перерождалось для нее в привидения ночи: она не видала никаких снов, этих зловещих воронов нашей действительной жизни!
II
– Дома ли Эмма, дяденька? – спросила веселая девушка, поспешно входя в залу серого домика.
– Дома, дома! – отвечал старик.
– Где она?
– В саду.
– Бегу к ней!
– Погоди, ветреница! Дай поцеловать себя!
– Некогда! Мне надобно пересказать ей тысячу новостей! – отвечала девушка, мимоходом прижимая ротик свой к руке старика, пока он целовал ее в лоб и щеки.
– Тысячу новостей! Они все, я думаю, сойдут на одну: ты, верно, получила письмо от своего Теобальда?
– Вы угадали!
– Что он пишет?
– Он скоро сюда будет; да не задерживайте меня; мне надобно все, все пересказать моей Эмме! – И, бросив свою соломенную шляпку на столик, гостья побежала в сад.
Этот сад можно было назвать небольшим красивым цветником, чем-то похожим на шитье дамских шемизеток, где в стройном порядке нитками вышиты глупые цветочки и листочки. Но скажите: кто из нас не любовался этими нитяными цветочками на груди какой-нибудь милой девушки? Так и эти садики. Они малы, однообразны, пошлы; деревянная клетка, выкрашенная зеленою краскою, обложенная тощими акациями, и несколько кустов малины и смородины, вытянутых по веревке, заменяют в них тенистые аллеи; кривые дорожки, по которым тесно идти втроем и извилины которых рассмотрите вы с первого взгляда, как обман дитяти угадываете с первого слова, – вот вам изображение того, что при маленьких домиках в Москве громко называется – сад. Обыкновенно посредине бывает еще в этих садах цветник, где хозяева ставят иногда алебастровых богинь, которых разносчики таскают по Москве на лотках вместе с статуйками Наполеона, изображениями Езопа[12], Милосердия, Лаокоона[13], Надежды и Любви, Купидонами и кошками с подвижною головкою и с мышью в зубах; или садят тут редкие американские растения, продаваемые в каждой цветочной лавочке. Если у хозяина есть еще дюжина чахлых деревьев – он гордится своим садом. «У вас прекрасная тень», – говорят ему. «Мы тут пьем чай по вечерам», – говорит хозяйка. «Как приятно пить чай вечером на открытом воздухе», – прибавляет гость: как будто этот ящик без крышки в самом деле сад и открытый воздух! Но когда такая цветочная шемизетка[14] бывает надета на грудь счастия жизни, – знаете ли, как милы, очаровательны кажутся тогда и клетка с акациями, и дорожки, и цветник! Все зависит от лучей души: свети они радостью – все мило и радостно! Капля росы на листочке, что это такое? – Капля воды; но луч солнца осветит ее, и она загорится алмазом.
Такой садик, о каких мы говорили, был при сером домике; в этот садик побежала гостья искать Эмму, увидела ее в углу садика, подле беседки, и издали закричала ей: «Bon jour, mon amie!»[15] Эмма стояла, низко наклонившись к цветочной грядке, и что-то внимательно рассматривала. Она не слыхала приветствия веселой своей гостьи, не слыхала шума шагов ее, когда эта гостья бежала к ней по дорожкам, и тогда только заметила ее, когда гостья подбежала к ней и зажала ей глаза руками.
– Ах, Фанни, – сказала Эмма (гостью звали Федосьею, но это неблагозвучное имя еще в детстве ее было переделано в Фанни), – шалунья! пусти меня!
– Что за задумчивость? Не слыхать моего голоса, не видеть меня!
– Я смотрела вот на этот милый мой цветочек: погляди – он оживает; я думала, что он совсем пропал, и как это меня печалило, Фанни! Я ходила за ним, как за больным братом; посмотри: он оживает теперь!
– Что за цветок? Какой вздор! Простые васильки!
– Васильки! Бог и им велел жить; и не жалко ли, если они гибнут, не расцветая, не насладившись своею жизнью! А всего-то им жить одно лето…
Эмма опять наклонилась к кусту васильков и выправляла их около тычинки, к которой был привязан кустик их.
– Что за ребячество, Эмма! Брось твои васильки; пойдем ходить по саду; я тебе перескажу – ах! милый друг! я тебе все перескажу! Он пишет, он скоро приедет! Уйдем в беседку, Эмма! Я тебе прочитаю! – Фанни выняла из-за шнуровки своей маленькое письмецо, крепко поцеловала его и издали показала Эмме.
– Пойдем в беседку! – сказала она. Девушки обнялись, сели на лавку в беседке; рука Фанни обвилась вокруг шеи Эммы; голова Эммы склонилась на плечо Фанни, и разговор – смесь французских и русских слов – начался вполголоса.
Пока Эмма и Фанни переговорят о всяком вздоре – а он в девичьих разговорах занимает важное место (да и в чьих разговорах не так?), – я успею сказать вам, когда вы сами еще не догадались, что Фанни была подруга Эммы – молодая девушка, дочь соседа, немца, чиновника, какой-то дальней родни, который женился на русской дворянке, отчего в именах детей его вышла страшная путаница русских имен и немецких прозваний: Федосья Готлибовна, Филипп Готлибович и проч. – Говорили, будто такая же путаница вышла в его хозяйстве и воспитании детей. Фанни была подруга Эммы: вы знаете, что такое значит «подруга девушки»? Меньше, нежели ничто; французская эпиграмма на дружбу, перевод Шекспирова сонета с французской прозы в русские стихи! Всего чаще подружество девичье начинается в пансионах, иногда на балах и танцевальных вечерах. В пансионах оно доказывается тем, что подруги подсказывают друг другу уроки и делятся конфектами; на балах – тем, что они садятся рядом в мазурке и ходят обнявшись, пока музыканты отдыхают, сто раз повторивши одно и то же. Иногда это подружество продолжается годы и кончится тем, что одна подруга выходит замуж; счастливец вытесняет из сердца ее бедную подругу, как первый луч солнца заставляет бледнеть бедную луну. Иногда…подруги надоедают друг другу, ссорятся и расстаются; иногда свет разрывает нежную дружбу их за порогом пансиона, где одну подругу ждет лакей, облитой золотом, с словами: «За вашим сиятельством маменька изволила прислать карету», когда другой в то же время говорит беззубая нянька или старая кухарка: «Маменька велела мне проводить вас, барышня, домой». Старые девушки редко бывают подругами: злые на все, они искусали бы друг друга, искусав всю надежду свою на счастие в жизни. Но едва ли сыщете хоть одну молодую девушку в мире без подруги. Они читают вместе азбуку любви на заре жизни, когда душе девушки все так чуждо и знакомо, близко и далеко, и все так непонятно и понятно, без отчета голове и сердцу. В маленьком мире ее бывает так темно: сердце еще не освещает пустоты идей, а сквозь душу, как сквозь стеклянную призму, расцвечивается между тем все семью небесными цветами, без жара, но и без тени. Под эту призму становится обыкновенно подруга девушки, и – боже мой! – сколько тут является важных открытий ничего, тайных разговоров ни о чем, писем и записок, стихов и альбомов, узоров по канве и пересылки нот, где стихи Жуковского и Пушкина, понятные только перегоревшей душе, поются на голос романса королевы Гортензии[16] и «Фрейшиц»[17] переделан в вальсы и кадрили безбожными врагами музыки! Кто не смеется, найдя в альбоме девушки: «Je vous souhaite de tout mon coeur – toutes sortes de bonheur»[18] либо выписки из Делиля[19] и Сен-Ламбера[20]? Но мне также бывает смешно, когда я нахожу в нем:
If that high world, which lies beyond[21]
Our own, surviving Love endears;
If there the cherish'd heart de fond,
The eye the same, except in tears —
How welcome those untrodden spheres!
How sweet this very hour to die!
To soar from earth, and find all fears
Lost in thy light – Eternity!
It must be so: tis not for self
That we so tremble on the brink;
And striving to o'erleap the gulf,
Yet cling to Being's severing link.
Oh! in that future let us think
To hold each heart the heart that shares,
With them the immortal waters drink,
And soul in soul grow deathless theirs![22]
И это переписывают в альбом подруге, по складам, детскими каракульками? Сколько смешного в мире!
«Спешу уведомить вас, милая Фанни, что, слава богу, все дела мои в Саратове кончились, я вчера еще выехал бы отсюда, если бы не простудился и если бы доктор не посоветовал мне не пускаться в дорогу с моим кашлем. Зная чувства ваши и судя о них по своим, прошу вас не беспокоиться обо мне и уверяю, что болезнь моя совершенно ничтожна. Вы можете вообразить, с каким нетерпением желал бы я поспешить к вам в Москву, где ожидают меня любовь и счастие. Завидую этому письму, которое увидит вас прежде меня. Мысль о вас никогда не оставляет меня, и нередко даже благотворный сон представляет мне ваш прелестный образ. Недавно был я у дяденьки Богдана Богдановича. Он сам и милое семейство его любят вас заочно, как сестру и дочь, хотя еще и не знают лично. Папенька и маменька препоручают вам свидетельствовать их почтение вашему дедушке и бабушке».
Таково было письмо, которое прочитала Эмме подруга. Это было письмо от жениха ее молодого и очень милого человека, который ходил к ее отцу три года, наконец предложил Фанни руку, был сговорен и уехал в Саратов испросить позволения отцовского на свадьбу и устроить свои дела.
– Не правда ли, как он мило пишет, как он меня любит? – вскричала Фанни.
Эмма молчала.
– Ты сегодня пренесносная, – продолжала Фанни. – Радуешься над дрянным цветком, а не восхищаешься письмом моего жениха! Мило ли оно?
– Нет! – отвечала Эмма рассеянно.
– Эмма! – вскричала ее подруга, сердито отодвигаясь от нее.
Эмма опомнилась и спешила уверить подругу, что она сама не знает, что говорит.
– Я ведь хорошо знаю тебя, Эмма: ты опять сегодня вздумала мечтать; опять начиталась своего Шиллера!
– Нет! я недели две не читала его и едва ли примусь за него скоро.
– Что ж за причина твоей рассеянности? Посмотри, что за прекрасный день! Как все цветет, как все хорошо!
– Да! – отвечала Эмма, вздыхая.
– Мой Теобальд приедет; мы будем танцевать, много танцевать!
– Я рада! – сказала Эмма, и слезы капнули из глаз ее.
Фанни испугалась, бросилась к подруге, обняла ее, просила простить и клялась, что не хотела огорчить ее.
– Я и не грущу; право, я весела, и ты меня ничем не оскорбила, Фанни!
– Но я говорю о своем счастьи, когда ты печальна!
– Я не завидую твоему счастью, Фанни; клянусь богом, не завидую! Мне иногда даже бывает жаль тебя.
– Милый друг! что с тобой сделалось?
– Прости меня, Фанни! Я печалю тебя моими словами!
– Нет! но я тебя не понимаю: этого прежде не бывало. Я заметила, что с тех пор, как я невеста Теобальда, я вовсе не узнаю тебя!
Поверят ли: беспокойное чувство ревности и вместе самодовольства блеснуло в глазах Фанни; но, прибавим к чести ее сердца, – на одно мгновение.
Ничего этого не замечая, Эмма продолжала печально:
– Не ты виновата в этом, Фанни, – уверяю тебя, не ты. Это глупость, вздор – мечты самые нелепые…
– Ты мне расскажешь их?
– Ради бога, не спрашивай! Я сама их не понимаю и не умею растолковать.
– Тебе скучно?
– Нет! не скучно и вовсе не грустно. Но мое чувство походит на состояние человека, которого посадили в клетку и которого невидимая какая-то сила удерживает между небом и землею. Он сам не понимает, где висит его клетка; вокруг него пустота, и ей нет конца ни края, этой пустоте, Фанни: пустыня совершенная! Иногда по ней пролетает мимо его что-то милое такое, раздаются звуки такие чудные – ах! какие чудные… И вдруг все исчезает; и являются и летят мимо привидения, такие страшные, что он от ужаса закрывает глаза…
В это время где-то в отдалении, по-видимому у соседей, раздались странные звуки: казалось, что они походят на клики отчаяния, на смертный стон, вырывающийся из груди человека, которого душит сильная рука. Звуки эти пронеслись в воздухе и мгновенно исчезли. Эмма задрожала; Фанни также вздрогнула, осмотрелась кругом – все было тихо, радостно, светло; она не посмела спросить у Эммы, прижавшей лицо свое к ее груди, и начала опять разговор:
– Милая Эмма! ты будешь неблагодарна, если не согласишься, что тебя все любят, обожают, что ты составляешь радость и счастие своего семейства, что я тебя люблю… Неужели тебе этого не довольно?
– Все знаю, все чувствую и боюсь, не грех ли мое несчастное чувство, не значит ли оно неблагодарности к моим родным… к тебе, моя Фанни… к самому богу…
– Эмма! ты любишь кого-нибудь и скрываешь от меня?
– О, нет! уверяю тебя! – Эмма подняла голову свою и прямо в глаза смотрела своей подруге.
– Верю теперь; но что же сокрушает тебя?
– Не знаю. Когда дедушка ласкает меня, мне кажется, что это в последний раз, что завтра Эмма останется одна, одна; когда братья весело прыгают вокруг меня, мне думается: они скоро покинут тебя, и каждый из них скоро и навсегда забудет об Эмме.
– Зачем же печалишь себя такою грустною мыслью, Эмма? Милый друг! у тебя будет свой Теобальд! Не поверишь, как радостно теперь я думаю, что он любит меня; что мы с ним будем жить, так долго, долго, и все будем любить, и все будем счастливы!
– Ах, милый друг! я испугалась бы такого чувства и не понимаю, как может оно тебя радовать! Мужчины – я боюсь их: они пугают меня, все, сколько их ни видала! Их любовь – прости меня – любовь к тебе Теобальда – избави боже! Нет, нет! мне не надобно такой любви…
– Ты сумасбродишь!
– Может быть; но в душе моей я чувствую что-то непонятное мне самой. Послушай: говорят, что цветы не живут полною жизнию, что они только растут. Я не верю этому. Всякий раз, когда я смотрю на мои цветы, когда запахом их навевает ко мне ветерок, когда притом птичка так весело напевает мне своим голоском, – тут отзывается душа какая-то, душа в цветах, в звуках – говорю я самой себе. Шиллер знал эту душу цветов и звуков. Он говорил о ней, а у людей я этого не вижу! Когда цветок так нежно высказывает мне жизнь свою, когда птичка так мило выпевает ее мне – как же должны бы высказывать, выражать ее люди, когда им бог дал глаза и слова! Какова бы должна быть любовь людей! Мне кажется иногда, что я создаю себе кого-то, какое-то привидение, из всего, что очаровывает меня в природе; я даю ему образ человеческий, передаю ему свою душу – он мне больше, нежели подруга – он друг мой – нет! еще больше: он так любит меня, что друг так любить не может… и я не знаю, как назвать его…
– И это привидение, верно, походит на мужчину, а не на подругу?
– Ах, да! Но не смейся надо мною: оно не походит ни на одну подругу мою; уверяю тебя, что оно не походит и ни на одного мужчину, каких я знаю. У него глаза светятся небом; у него щеки алеют, как заря; он не говорит мне ничего, а я все понимаю.
– И мой Теобальд точно таков!
– Ах, нет! Он не таков! Твой Теобальд говорит тебе, как говорят другие мужчины – ты не он, а он не ты! Мое привидение такое воздушное, что я дышу им, и если бы надобно мне было говорить с ним, я называла бы его я, а себя ты! Он жил бы моею жизнью – он умер бы, когда не видал бы меня с собою… – Эмма понизила голос. – Он не уехал бы в Саратов, не пожалел бы своего кашля и не писал бы ко мне «вы»! Я разлюбила бы его за все это, а без любви моей он не мог бы существовать. Его создала любовь моя, и с смертью моей любви – умрет он!
Фанни невольно задумалась при словах подруги.
– Милый друг! ты мечтаешь! – сказала она. – Того, что создаешь ты себе в воображении – нет в мире. Но любовь моего Теобальда прекрасна; она совершенно счастливит меня…
– Что это за любовь, Фанни, если ты могла существовать прежде, не зная любви своего Теобальда! Прости меня, Фанни, – я люблю тебя и не хотела огорчать; но ты сама спрашивала меня – я все сказала тебе. Видишь ли, отчего письмо твоего жениха холодит меня, как кусок льду, отчего мне так тяжело смотреть на людей, особливо на мужчин, с их дерзкими взорами, с их любовью, такою грубою… Нет! мне не надобно такой любви!
– Но тебя отдадут замуж, и, может быть, за того молодого гусара, который говорил с нами, когда мы были на вечере у М***. Он от тебя в восторге – он же такой хорошенький!
– Я никогда не отдам ему руки своей. Дедушка не станет принуждать меня. Этот гусар надоел мне ужасно: он всякий день ездит мимо нас и глядит к нам прямо в окна. Неужели он любит, когда может глядеть на меня, как будто на хорошенькую куклу, и еще прямо, разглаживая свои усы и щеголяя лорнетом? Урод! Нет! ваши люди, ваши мужчины мне не нравятся… Если бы можно было мне отказаться вовсе от света, когда не будет дедушки и бабушки, и если бы я была русская, я – пошла быть может быть, в монахини. Там святая вера наполнила бы всю мою душу, так наполнила, что все привидения были бы из нее вытеснены… Если бы я могла полюбить здесь кого-нибудь на земле, – Фанни! я умерла бы: кто поймет мою любовь, когда я сама ее не понимаю? Фанни! я чувствую, что мне не жить здесь долго; о счастье я и думать не смею: люди не знают счастья, и мне кажется, что все шепчет мне: Эмма! тебя ждут в родной стороне! Ты здесь пришелица! Не люби так, как любят люди! И небесный дождь, когда он падает на землю, делается грязью…
Тут снова послышались пронзительные звуки, каких прежде испугалась Фанни. Теперь можно было яснее расслушать, что это были отчаянные крики человеческие. Эмма снова задрожала.
– Что это такое, Эмма? Уже в другой раз мне это послышалось!
– А я всякий день слышу, и мне кажется, что судьба моя откликается ими, когда я спрашиваю у нее: есть ли на земле счастье для Эммы?
– Растолкуй мне, что это такое?
– Это кричит сумасшедший.
– Какой сумасшедший?
– Разве ты не слыхала, что у соседа нашего, князя С***, года два тому сошел с ума его сын?
– Да, такая жалость! Говорят, он был премилый молодой человек.
– Я его никогда не видала. Князь всегда живал в Петербурге и до приезда в Москву с сумасшедшим сыном долго жил еще в своей деревне: Только прошедшею зимою поселился он у нас по соседству, в своем доме. Сына его взялся лечить какой-то ученый доктор, выписанный из Берлина. Но успеха нет. Молодого князя поселили с самой весны в садовом павильоне; говорят, он беспрестанно приходит в бешенство и всегда прикован на цепи. Он кричит иногда так отчаянно, что у нас, особливо поутру и в вечеру, все бывает слышно.
– Какой ужас!
– Что за ужас? Сначала я сама пугалась его крика, а теперь привыкла, хоть невольно содрогаюсь каждый раз, когда услышу этот ужасный крик. Мне все кажется, что этого бедного молодого человека мучат, мучат за то, что он был лучше других людей, и он просит пощады у бесчеловечных, а его не слушают.
– Это расстроит меня на целый день, Эмма, – и твой разговор притом… – Фанни задумалась и тихо промолвила: – Да, можно бы любить иначе, нежели любит мой Теобальд. – Она соскочила с скамьи. – Пойдем в комнаты! – сказала она с принужденною усмешкою и потащила с собою Эмму по садовой дорожке.