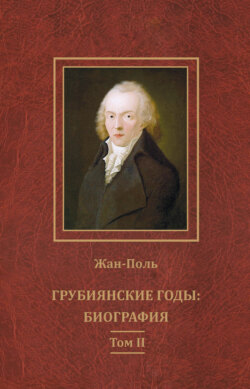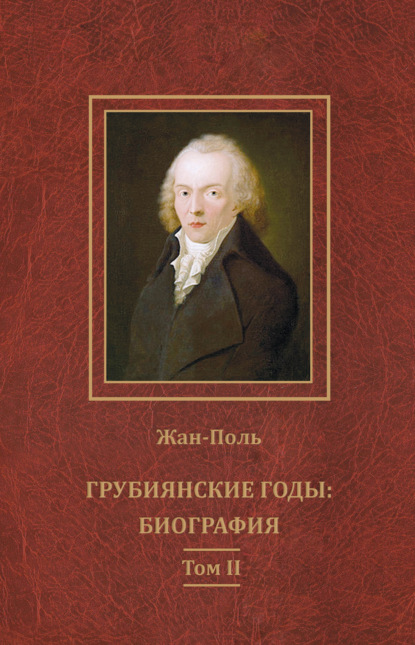Jean Paul
FLEGELJAHRE
Eine Biographie
Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой
© Маттиас Дрегер, Издательство «Райхль», 2017
От переводчика
Ich danke der Berlin Russisch-Gruppe, den Teilnehmern der Deutsch-Russischen Uberset-zerwerkstatt in Krasnoyarsk soivie personlich Gabriele Leupold, Christiane Korner und Kirill Blaschkov fiir ihre ivertvolle Hilfe.
Я благодарю «Берлинскую русскую группу», участников Немецко-русской переводческой мастерской в Красноярске, а также лично Габриэле Лойпольд, Кристиане Кернер и Кирилла Блажкова за их ценную помощь.
Четвертая книжечка
№ 51. Чучело лазурного мельника
Перипетии путешествия – и нотариата
Нотариусу казалось, будто он, как один из проснувшихся Семи спящих отроков, идет по совершенно изменившемуся городу: отчасти потому, что он несколько дней отсутствовал, отчасти же – потому что там успел похозяйничать пожар, пусть и не причинивший вреда. Шагая по улицам города, он все еще оставался в путешествии. Да и народ, вырванный огнем из повседневности, толпами тянулся то туда, то сюда, чтобы увидеть несчастье, которое могло бы случиться. Вальт первым делом отправился к брату, испытывая величайшую потребность невероятно распалить и затем утолить его любопытство. Вульт принял его спокойно, но себе сказал, что брат выглядит разгоряченным и что лицо его пылает из-за недавнего пожара. Нотариус хотел сразу же взвинтить его возбуждение до высшей отметки и там, наверху, успокоить; поэтому он предпослал своему рассказу весьма заманчивые посулы, произнеся: «Брат, я имею сообщить тебе что-то неслыханное, в самом деле неслыханное». – «У меня тоже, – прервал его Вульт, – есть в запасе новые семь чудес света, и я могу тебя удивить. Но сперва первое! Флитте выздоровел! Горожане все еще дивятся и не перестают глазеть на него». – «От ворот Лазаря я уже видел его, стоящего в резонансном окошке», – ответил Вальт, торопясь закрыть эту тему. «Ясное дело, – продолжил Вульт. – Ведь доктор Шляппке – заслуживающий, как мало кто другой, чтобы перед ним сняли шляпу, – вновь поставил его на задние лапы, и теперь завещатель станет наследником себе самому, по праву самого близкого родственника, а ты получишь так же мало, как остальные. Правда, что касается старых врачей, и особенно старейших из них, которые в каждом городе, подобно подлинному совету старейшин, выдают младшему коллеге декрет о совершеннолетии (veniam aetatis), причем не только по достижении им двадцатилетнего возраста, но и потом, во все годы его земной жизни, и тем самым изысканно увязывают смертность жителей с такого рода собственным бессмертием, – что касается того, как они, сказал бы я, выходят из себя, видя, что столь молодой хлыщ вылечил другого, не старше его самого: об этом, ясное дело, мы можем судить лишь поверхностно или вообще никак, пока не будет напечатана и не станет известна одна известная работа Флитте. Дело в том, что эльзасец уже несколько раз перерабатывал свое слабое изъявление благодарности, предназначенное для «Имперского вестника», в котором он (заплатит за это объявление доктор Шляппке) перед всем миром достаточно растроганно благодарит Шляппке и клянется, что никогда не сможет его вознаградить – чувство, вполне соответствующее действительности, поскольку Флитте сам ничего не имеет».
Вальт не мог долее сдерживаться.
– Дражайший брат, – начал он, – поистине, я слушал, скорее, твои мысли, нежели сообщения; тогда как то, что хочу сообщить тебе я… Твое письмо с описанием чудесного сна я действительно, в самом деле, получил; но что с того, если бы дело ограничилось только этим? Письмо сбылось целиком – от точки до точки, от запятой до запятой; ты только послушай!
Теперь он предъявил брату недавние игривые чудеса, в первый раз; потом (из-за сбивчивых волн захлестнувшего всё вокруг потока) – во второй. Нет такого приключения, даже из наихудших, которое ты переживаешь с тем же блаженством, с каким пересказываешь. Да, Вальт едва было не поднял завесу над любящим взглядом Вины там, под обрушивающимся вниз водопадом; и сделал бы это, если бы на всем протяжении обратного пути, шагая с Виной по одну руку и с Вультом по другую, не обдумывал (предварительно) самое важное и не вбил себе в голову сильнейшие аргументы, доказывающие, что он должен полностью замаскировать Вину под генерала и утаить если не факты, то ощущения – как бы ему ни хотелось излить в единственное сердце, которое жизнь открыла для него, оба рукава своего речного потока, разделившегося на любовь и дружбу.
– Приключения, пережитые тобою в связи с моим письмом, – сказал Вульт, – как раз не кажутся мне самым интересным – чуть позже я изложу тебе очень убедительную гипотезу на сей счет, – тогда как обстоятельства твоего рандеву с Якобиной я бы с радостью прояснил для себя.
Вальт в ответ рассказал о ночном визите актрисы – совершенно правдиво, ясно и легко, не забыв упомянуть ни единого ощущения.
– Нет ничего легче, чем объяснить твои приключения, – начал наконец Вульт. – Разве не мог какой-то человек, который знает все обстоятельства, сопровождать тебя по лесам и полям, постоянно крадучись в трех шагах позади или впереди, – играть на флейте – еще до твоего появления называть твое имя в трактирах и гостиницах – заказывать или устраивать маленькие шутки, например, с торговцем лубочными картинками, рисунком-кводлибетом и надписью на нем: «Quod deus vult est bene factus (вместо factum)», – и так далее? Что же касается письма, то совсем нетрудно написать его от моего имени и в моем стиле, по пути отдать почтальону, в письме напророчествовать обо всем, что сам и собираешься сделать, деньги же закопать за минуту до твоего прихода!
– Невозможно! – воскликнул Вальт. – А как же господин под личиной?
– Личина еще у тебя в кармане? – осведомился Вульт.
Вальт вытащил маску. Вульт прижал ее к своему лицу, сверкнул на брата гневными глазами и дико выкрикнул знакомым голосом господина под личиной: «Ну? Разве это не я? А кто тогда вы?» – «О небо, как это?» – возопил испуганный Вальт. Вульт мягким движением приподнял маску, очень весело глянул на брата и сказал: «Не знаю, каковы твои мысли об этом происшествии, сам же полагаю, что как господин под личиной и флейтист, с одной стороны, так я и составитель письма, с другой, – тождественные персоны». – «Мой разум больше не работает», – признался Вальт. «Одним словом, это был я», – заключил Вульт. Однако нотариус всё не решался до конца поверить собственному замешательству. «Наверняка за этим колдовством, – сказал он, – кроется еще что-то удивительное; и почему вообще тебе могло бы понадобиться таким диковинным образом вводить меня в заблуждение?»
Однако Вульт показал, что хотел доставить удовольствие брату и даже больше того – уберечь его от некоторого неудовольствия. Он спросил, лукаво подмигнув: мол, разве не в должный момент бросил он маску в комнату – прежде, чем Якобина успела сбросить свою. И под конец высказался напрямую: та клаузула завещания, что наказывает за грехи плоти утратой половины наследства, известна всем, Вальт же, увы, всегда ведет себя как очень невинный человек, однако во время любой военной акции чаще и удачнее всего стреляют именно по белым лошадям, из-за этого цвета невинности, – семь наследников же, будучи умными полководцами, маскируют свой лагерь грязью… «Короче, – заключил он, – как торговцы голубями обманывают покупателей, часто выдавая двух голубок за нормальную супружескую чету голубей: разве не так же могли поступить с тобой и этой актрисой, не отправься я в путешествие по твоим пятам?» Тут нотариус густо покраснел от стыда и гнева, воскликнул: «О, сколь безмерная мерзость!» – прибавил, нашаривая шляпу: «Значит, в таком свете видится тебе бедная девушка? И твой собственный брат в придачу?» – выскочил за порог – бросил, безудержно разрыдавшись: «Доброй ночи; но, клянусь Богом, не знаю, что еще я мог бы на это сказать», – и не оставил брату времени для ответа. Вульт почти что разозлился на непредвиденный братнин гнев.
– Я, я? – повторял на улице глубоко обиженный Вальт. – Я, выходит, мог согрешить в тот день, когда Бог подарил мне самый трогательный за все путешествие вечер и когда благочестивая Вина находилась так близко от меня? – Да упаси Господь!
Однако когда он ступил в свою комнатку, на него снизошло совершенно особое блаженство и поглотило боль: любое новое ощущение на привычном месте становится более живым; Винин добрый взгляд из-под струй водопада теперь золотил, словно утренний свет, жизнь, как целое, – и наделял блеском все росистые цветы в ней. Многое вокруг сделалось для нотариуса как бы заново родным: парк внизу, в аллеях которого он однажды увидел ее, и Рафаэла в доме, ее подруга, были отныне неотделимы от его внутренней жизни. Даже собственный роман «Яичный пунш» он едва узнавал, потому что теперь натыкался в нем на совершенно новые живописные полотна, созданные любящим сердцем, и благодаря им только и осознавал по-настоящему нынешний вечер: то, что хотел бы с ним предпринять; никогда еще ни один автор не находил для себя более созвучно настроенного читателя, чем такого, каким сегодня был Вальт. Он тотчас воздвиг для себя изысканный кабинет живописи – для картин, изображающих места, где Вина предположительно могла бы проводить этот вечер: например, в театре, или в садах Лейпцига, или в избранном обществе ценителей музыки. Потом он сел к столу и стал запечатлевать огненными красками, как, скажем, она слушает сегодня «Ифигению в Тавриде» Глюка; потом принялся сочинять блаженные стихи о ней; потом поднес эти бумаги, наполненные райским блаженством, к пламени свечи и сжег всё дотла: потому что не понимал, как он выразился, по какому праву он, не поставив ее в известность, столь многое о ней открывает – ей самой или другим людям.
Улегшись в постель, он позволил себе видеть во сне сны Вины. «Кто мне запретит, – сказал он, – посещать ее сновидения или даже обильно одалживать ей свои —? Разве сон разумнее, чем я? О, ей вполне могло бы в диком безумии сна присниться, что мы оба стоим под водопадом; соединившись, взлетаем в нем ввысь; обнявшись, плывем по его текуче-огненному золоту; и, чтобы умереть, обрушиваемся вместе с ним вниз; и, обретя божественность, безмятежно теперь продолжаем наш путь среди цветов, и она со своей волной сверкает в моей волне, и так, слившись друг с другом, мы впадаем в просторное вышнее синее чистое море, распростертое над грязной землей. О, если бы ты захотела видеть такие сны, Вина!» Потом он посмотрел на подушку очень ясно и пристально – потому что по ночам, в дикарском преддверии сна, перед душой все бледные образы обретают краски молодой жизни и открывают сверкающие глаза – милый, кроткий глаз Вины открылся перед ним и, подобно луне, днем истончающейся до едва заметного облачка, властно засиял на ночном небе; и Вальт погрузился в этот милый глаз, как верующий погружается в Око, в виде которого принято изображать Господа. Как легок и истончен любой взгляд, пусть и оставшийся в памяти! Его навряд ли можно сравнить даже с альпийской розочкой, которую человек приносит вниз с высочайшей вершины своей жизни. И все же из всей массы материальных и небесных сфер человек предпочитает держаться за эту малую, прикрытую глазным веком: за взгляд, испустивший дух, едва он успел возникнуть; и на таком небесном Ничто прочно покоится человеческий парадиз со всеми деревьями! Таков дух; ибо, поскольку его миром является незримость, Ничто легко становится для него зримостью!
Наутро вокруг нотариуса были разлиты солнечный свет и блаженство. Все цветы, из которых могли бы родиться яблоки раздора, облетели. Утро дарит нам золото, причем чистейшее: солнце очищает замутненный шлаками нрав; темный излишек, особенно ненависть, исчезает. Вальт оглянулся в утреннем свете, и ему показалось, будто некая рука, выпроставшись из облаков, вознесла его – через все наслоившиеся друг на друга облачные слои жизни – в синеву… Кто любит, прощает остальным, по крайней мере, упомянутый излишек; нотариус спросил себя: как он мог вчера, аккурат в праздник возвращения, так рассердиться на бедного брата.
«Да, именно бедного, – продолжил он, – ведь у брата наверняка нет любимой, чей любящий взгляд пребывал бы, как фокус жизни, у него в сердце». Теперь он целиком перешел к частностям и – следуя своему инстинкту, который всегда загонял его в чужую душу и принуждал осматривать ее изнутри, – поставил себя на место Вульта, представив, как тот ничего хорошего не имеет, ничего не знает (о водопаде, прежде всего), как он во всем или во многом желает только добра, особенно Вальту, только вот ведет себя чересчур деспотично и жестко… ну и так далее.
Обуреваемый такими мыслями, он решил немедленно отправиться к брату и ни слова не говорить ему о вчерашней уксусно-кислой размолвке, а просто: дотронуться рукой до другой руки (которая была соединена с ней еще в материнской утробе) и спокойно кое-что обсудить – особенно то, что касается предстоящего выбора новой наследственной обязанности.
Оказалось, что Вульт в отъезде. Письмецо к Вальту было пришпилено к двери: «Драгоценнейший! Я сегодня поспешно уехал, дабы сыграть в Розенхофе обещанный концерт. В будущем я намерен работать гораздо усерднее; ибо, по правде говоря, я делаю для нашего совместного романа слишком мало – в особенности потому, что не делаю для него вообще ничего. Мы оба не могли не заметить, что я охотнее разговариваю – чувствуя себя как рыба в воде даже в самых бурных словесных потоках, – чем пишу. Однако ничего хорошего в этом нет – ни для литературы, ни для гонорара. В школах, между прочим, мастерству считать и писать обучает один человек; тогда как настоящий мастер писать книги редко бывает одновременно и мастером счета; сам я, увы, не владею даже одним мастерством из упомянутых двух, а вот в деньгах, тем не менее, нуждаюсь. Адьё! ф. X.».
«Бедный загнанный брат! – воскликнул Вальт. – Теперь, значит, он должен отыгрывать подарок, который прежде так забавно – играючи – подсунул мне. Почему я всегда с таким неистовством обрушиваюсь на этого добряка и пригибаю его к земле?» Он принял серьезное решение: что впредь будет совсем иначе, чем прежде, натягивать вожжи – дабы держать в узде свой бурный, неистовый нрав.
Но мысли о Розенхофе вскоре залили всё радостным светом и превратили флейтиста чуть ли не в святого, который теперь представлялся Вальту осыпанным блестками и бредущим по сияющим пойменным лугам этого прекраснейшего утра.
Мужественнее, чем когда-либо прежде, Вальт вновь ступил в запутанные коридоры своего нотариата, которые по мере приближения конца этой его наследственной обязанности раскрывались перед ним все чаще. Ему было совершенно безразлично (настолько радостно бился теперь его пульс), о чем именно он составляет документ – о наследстве ли какого-нибудь придворного проповедника, или о продырявленной бочке с оливковым маслом, или о чьем-то пари: он постоянно думал о доме генерала, или о том водопаде, или о Лейпциге, и ему, наверное, было все равно (ибо он не обращал на это внимания), что он в данный момент записывает в качестве принесшего публичную клятву императорского нотариуса.
Опутанный сверкающей паутиной этого бабьего лета сердца, он наконец перенесся из сентября и нотариата в октябрь, где должен был отчитаться перед исполнителями завещания Кабеля за выполнявшуюся им до сего момента наследственную обязанность, что не внушало ему ни малейшего страха: ибо взгляд Вины разжег в нем столь пламенное сердцебиение, что он оказался наделен теперь таким весенним пульсом, который помогал сохранять внутреннее тепло при любых внешних заморозках, насылаемых на него судьбой.
Его отец Лукас в последнее время во многих копиях собственных писем-оригиналов (которые шультгейс оставлял у себя, поскольку, когда дело касается написания писем, оригинал всегда выглядит хуже всего) высказывал ему свой страх перед закулисьем нотариата и настойчиво напоминал о приближении решающего срока. Вальта такое многократное повторение все той же сухой мысли (подавлявшей другие, свежие) весьма тяготило, и он ничего так горячо не желал, как прежней свободы, позволявшей ему думать о сотне разных вещей. «Не потому ли ошибочный путь столь огорчителен, – говорил он себе, – что человек, пока не выйдет снова на правильную дорогу, вынужден постоянно видеть перед собой, держать в голове только устаревшую плоскую идею пути?» Обычные горести жизни менее весомы в момент своего рождения, нежели в период внутриутробного созревания, и подлинный день скорби приходит на двадцать четыре (условных) часа раньше, нежели тот же день в его внешнем воплощении. Когда Вальт в назначенное ему утро вошел в ратушу, уже первый шаг превратил его в другого человека, а именно в прежнего: ведь для него вся процедура уже закончилась, поскольку ее конец был так близок. Он оказался в приемной слишком рано, но сохранил хорошее настроение и даже сочинил полиметр, в котором воспел некоторые приятные композиции в технике барельефа, украшающие ратушную печь и заключающие в себе столько теплоты, сколько дозволяет проявить такое время года, если печь остается нетопленной. Но, конечно, эти танцующие Оры, наполненные сеном рога изобилия, фруктовые косички, или гирлянды, связки пузатых и твердых цветов или овощей и шесть изображений весны (печь была циркуляционной), все из майолики, сумели обогреть поэта, каковым был Вальт. Поскольку нужная ему комната в ратуше пока оставалась закрытой, он углубился в отвлеченные рассуждения – о том, например, нельзя ли создать целый роман, особенно комический, на основе таких вот печных изразцов. Только мужчина способен вот так, перед важным поворотным пунктом в своей судьбе (например, перед коронацией, битвой, казнью, самоубийством), – но не его жена перед столь же решающим для нее моментом, например, перед балом, – сочинять стихи, предаваться сну, читать.
Тут наконец появился патрон обделенных наследством наследников Кабеля – пфальцграф Кнолль, – и всё началось, и все надлежащим образом предстали перед бургомистром Кунольдом.
Вальт еще никогда не чувствовал себя в помещении ратуши таким невесомо-легким: сейчас он мог бы раскачиваться, как на качелях, на тычинке лилии. Но он очень быстро упал со своей лилии на грядку, когда патрон начал произносить речь и заявил, что «принесший публичную клятву нотариус до сих пор выполнял возложенные на него обязанности совершенно абсурдно»: что он не только, во-первых и во-вторых, дважды употребил сокращения в документах – в-третьих, один составлявшийся ночью документ (завещание в башне) записал двумя разными чернилами и, в-четвертых, при одном-единственном светильнике – в-пятых, один раз стер уже записанное – в-шестых, один раз вообще не указал, что его специально пригласили для составления документа, – в-седьмых, в том же документе не указал и часа – в-восьмых, гвоздично-коричневую бечевку, которой было обмотано исковое заявление N. N. против N. N., описал в протоколе как желтую – в-девятых, когда домашние слуги под присягой давали показания в пользу своего господина, совершенно забыл как предварительно освободить их от прежде взятых на себя обязательств посредством протягивания руки, так и зафиксировать этот акт освобождения, – но что он, в-десятых, даже проставил неправильную дату в сертификате опротестования векселя и, в-одиннадцатых, недавно, уже напоследок, без зазрения совести датировал один документ 31-м сентября, хотя такой даты вообще не существует. Теперь Вальта судебным порядком спросили, что он может против этого возразить. «Даже не знаю, что, – ответил нотариус, – да и чужой памяти я в данном случае доверяю гораздо больше, чем собственной. В отношении же упомянутых слуг я решил, что это самоуправство, и что вообще невозможно – одним моим словом отнять у них их обязательства, а потом вернуть». В ответ господин Кунольд сказал: мол, такое обоснование свидетельствует скорее о благородных мыслях, нежели о юридической компетентности; и обратился за подтверждением к господину фискалу Кноллю. «Ничего не может быть смехотворнее», – согласился тот и нагромоздил еще десять или двадцать тягуче-пустопорожних слов, чтобы побудить исполнителей завещания сделать то, что и так само собой разумелось: вскрыть соответствующую тайную статью.
Однако прежде чем Кунольд приступил к этому, он возразил пфальцграфу, что отнюдь не все знатоки права требуют использования при составлении ночных контрактов именно трех светильников – а лишь некоторые; и потянулся – поскольку Кнолль упорно настаивал на своем, – чтобы достать из шкафа, как ближайшее доказательство, promptuarium juris Хоммеля или Мюллера. Библиотека ратуши содержала не более четырех юридических справочных томов; но в ней, как и в большинстве публичных библиотек, отсутствовал каталог.
Кнолль остался при своем мнении; Кунольд тоже не пошел на уступки, но все же зачитал вслух штрафной тариф: «…а именно, что за каждый нотариальный промах молодого Харниша каждому из наследников должно быть предоставлено право срубить в Кабелевом лесочке по одному еловому дереву». Поскольку же Вальта уличили в десяти прегрешениях (если не считать спорных светильников), то эта Весет, помноженная на семь упомянутых казней, предполагала внушительную вырубку, семьдесят древесных стволов, и в результате подобной исправительной меры Вальт не мог бы быть «просветлен» даже наполовину так основательно, как сам лесок. – «Ну, – вздохнул, разведя руками, нотариус, – что ж тут поделаешь?» – Он умел в глубине души утешать себя относительно всяческих превратностей жизни так же хорошо, как сапожник утешает клиентов относительно принесенных им новых сапог; если сапоги жмут, мастер говорит: они, мол, наверняка растопчутся; если же слишком велики, обещает: из-за сырости они обязательно скукожатся. Так и Вальт втайне думал: «Это научит меня уму-разуму. И все-таки теперь, как нотариус, я буду спокойно составлять любые документы, зная, что никакая тайная статья больше не может ни в малейшей степени помыкать мною или что-то у меня отнять». Однако под конец фискал Кнолль все же превратил легкий поэтически-божественный ихор его сердца в нечто тяжелое, густое и соленое: когда, ничуть не обезумев и не опьянившись радостью от обретения обреченных на вырубку деревьев, возобновил свой протест по пункту, касающемуся трех светильников. Зримое присутствие существа, очевидно преисполненного ненависти, гнетет и терзает неизменно любящую душу (для которой и простая холодность равносильна ненависти) душной атмосферой приближающейся грозы, громовые удары коей менее мучительны, чем сама ее близость. Опечаленный – даже мягкими попреками Кунольда, объявившего его ошибки непростительными именно потому, что их так легко было избежать, – отправился Вальт домой; и уже заранее предвидел проклятия и насмешки Вульта.
Первым, что он сделал, придя домой, было бегство из дому на прекрасные тихие холмы октябрьской природы – ради того, чтобы убежать от отца, шультгейса, который наверняка захочет подвергнуть его остракизму: ведь Вальт точно знал, что отец тотчас помчится в город, чтобы запустить ему в голову каждым черепком от расколовшегося «горшка счастья». С мирного холма напротив того самого лесочка Вальт – пока, сочиняя стихи и предаваясь охватившим его чувствам, превращал медицинское Miserere своей судьбы в музыкальное – очень хорошо видел, как уже несколько наследников в сопровождении опытных лесорубов с удовольствием прохаживаются по упомянутому в завещании лесу, дружно ставя особым молотком клейма на стволы доставшихся им по милости Кабеля деревьев. Наконец неспешно прибыл на лошади Флитте – во главе жадной до древесины компании с топорами, пилами и линейками в руках. Подобно вдовцу, который ежедневно разбивает свой траур на все более мелкие дроби, превращая его в треть траура, 1/4, 1/8, 1/64 часть (при том что траур, или числитель, никогда не может, согласно математическим законам, стать нулем), Вальт, наблюдая эту картину, преобразовывал свой слабый полутраур, выражаясь арифметически, в бесконечно большой знаменатель и бесконечно малый числитель, то есть под конец его настроение стало таким, какое принято называть радостным. «Ну и правильно, – думал он, что этому добряку Флитте, который был столь щедр, что включил мою персону в число наследников, я все же подбросил, благодаря совершенным мною ошибкам, какой-никакой благодарственный дар: он наверняка почувствует радость, причем без малейшей примеси злорадства». Однако радость самого Вальта, связанная с утратой деревьев, несколько подвяла, когда он увидел старого шультгейса: как тот в терновом венце и со скипетром мученика в руках шагал со стороны города и потом углубился в лесок. Лукас теперь подходил к каждому помеченному стволу – задавал вопросы, что-то говорил и ругался – пересекал лесосеку во всех направлениях – пытался, не имея никаких полномочий, опять всё оспорить – носился туда и сюда, как летучий лесной суд и лесническая коллегия в одном лице, подбегая к каждому кустику, к каждой пиле, – пустыня его лица становилась всё более сухой и аравийской по мере того, как перед ним представали всё новые наследники, эти наихудшие из лесных вредителей, каких он только мог вообразить, – он смотрел, горестно вздыхая, на каждую крону, которой предстояло рухнуть, – и не мог ничего поделать, кроме как, в соответствии с лесным законом, указать, в каком направлении должно падать дерево, чтобы меньше пострадали кусты.
Вальт издали с жалостью наблюдал за ним; как бы легко – в других случаях – ни растирал он свою судьбу (то черную, то белую) для получения поэтических красок, словно превращая ее в уголь и мел: эту рубку предназначенных для вырубки деревьев преобразовать в поэтическую картину не удавалось, потому что ему было больно смотреть на отца. Он, однако, с упорством дожидался, когда отец уйдет; а потом, не обращая внимания на прекраснейший закат, пылавший перед его глазами, провел внутри себя голосование по вопросу о том, какую из наследственных обязанностей ему теперь следует выбрать, чтобы порадовать отца.
Из-за отсутствия флейтиста ему не хватало кворума и хоть какого-то, пусть самомалейшего, меньшинства: поскольку большинство (то есть сам он) состояло только из одного человека, а значит, было, если и не минимальным (ибо нередко случается, что на голосование не приходит вообще никто), то совсем незначительным.
В конце концов он выбрал самую кратковременную обязанность, а именно – семидневное проживание у одного из наследников. Соответствующее место в Corpus juris завещания (клаузула 6, литера «ж») звучит так: «он (Вальт) должен прожить по неделе у каждого из господ потенциальных наследников (если наследник не будет возражать) и добросовестно исполнять все желания своего временного квартирного хозяина, если они согласуются с честью». Такую краткосрочную обязанность он надеялся выполнить без серьезных ошибочных шагов и ошибочных скачков в сторону, притом в самое короткое время – прежде, чем появится его брат. После выбора обязанности ему еще надлежало определить того из наследников, кому первому он окажет такую честь. Нотариус выбрал для недельного проживания того из них, у которого жил до сих пор, – господина Нойпетера. «Помимо прочего, этого требует чувство деликатности», – сказал он себе.