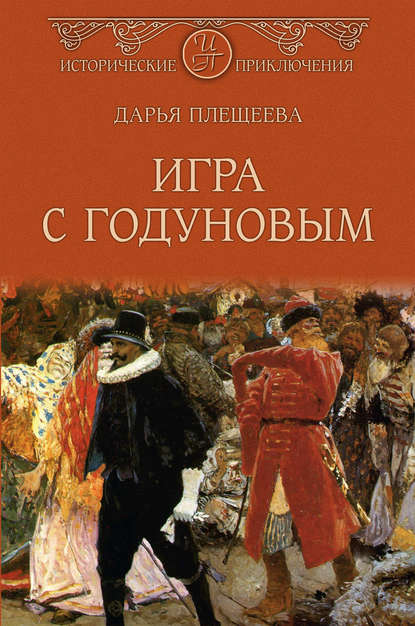000
ОтложитьЧитал
Похвалу мастер Кит, как все близкие к театру люди, очень любил. И ведь слова Меррика действительно не были лестью. Меррик очень хотел попасть на Крымский двор и встретиться с послом. Посла охраняли – но способ должен, обязан быть! И мастер Кит вдруг ощутил знакомое волнение – не такое, что лишает способности мыслить и двигаться, а более спокойное – как перед поединком с противником, который владеет шпагой хуже, чем ты.
Ему уже хотелось пройтись вокруг Крымского двора, поглядеть, кто и как его охраняет.
– Любопытно, о чем договорятся киргиз-кайсаки с господином Годуновым. Он хитер, да и они не простодушны. Может статься, они все же у него что-то выторгуют. Но не союз против калмыцкой орды, не оружие и не воеводу. Мастер Кит, ты завтра возьмешь Стэнли с Диком, пойдешь на Торг, к тестю Дика, узнаешь, кто из татарских купцов поставляет припасы на Крымский двор. Нам нужен такой человек, которого бы туда пускали как близкого по крови, который бы уже поладил с киргиз-кайсаками. Дик и Стэнли – славные молодцы, но решать, кто из купцов нам более подходит, будешь ты. Значит, пойдешь с ними.
– Если верить старухе, мало кого из купцов допустят на Крымский двор, – возразил мастер Кит. – Милорд Годунов будет опасаться, как бы через купцов не наладилась переписка между воеводой и послом. Воевода уж точно попытается что-то сделать…
– Тебе нужно понять, кто из купцов все же имеет доступ к киргиз-кайсацкому послу. А также нужно найти нашего Сулеймана. Не удивлюсь, если он встретит в посольстве давних знакомцев.
– Да, этот проник бы и в гарем персидского шаха.
Сулейман был старый татарин, много где побродивший, прежде чем осесть в Замоскворечье, в Толмачевской слободе. Когда у Меррика возникала необходимость в толмаче при переговорах с татарами или ногайцами, что бывали в Москве наездами и русскую речь знали плохо, он всегда посылал за Сулейманом. Тот, скорее всего, знал и киргизское наречие, и киргиз-кайсацкое. Во всяком случае, он как-то рассказал, что несколько лет прожил в тех краях. Но он и о совершении хаджа в город Мекку тоже рассказывал…
Приказание доставить Сулеймана относилось не к мастеру Киту. Он в Толмачевской слободе никогда не бывал. А вот Дик и Стэнли бывали, даже могли кое-как объясниться со старыми татарами, на три четверти по-русски и на четверть по-татарски. Им и следовало тайно привести Сулеймана.
– Завтра начинаем осаду Крымского двора по всем правилам фортификации, – пошутил Меррик. – Когда узнаем побольше, составим диспозицию…
Мастер Кит, словно не слыша, взял со стула лютню, сел и тихонько забренчал. Ему не хотелось слоняться в мороз по московскому Торгу, который простирался от Покровского храма, что на Рву, до Земского двора, а это чуть ли не полверсты. Вот если бы посольство прибыло летом!
Если все же кто-то из купчишек по особой милости Годунова будет допущен на Крымский двор – как догадаться, подойдет ли он для задуманного дела, и как понять, во что он ценит свои опасные услуги? Хотя русский язык мастер Кит за время сиденья в Москве освоил, но еще не настолько, чтобы понимать все словесные выкрутасы. Дик – тот здесь родился, Стэнли привезли ребенком, они говорили так же, как природные московиты, Арчи – тот умел изъясняться и на северный лад, как говорят за Вологдой, в городе с диким названием, куда приходили и бросали якорь английские суда. И что в самом начале этой интриги может сделать человек, чьи таланты лазутчика хвалил сам сэр Фрэнсис Уолсингем, мастер Кит пока не понимал. Выбрать из тех, кто с соизволения Годунова уже торгует с Крымским двором, подходящего купца? Да они же для человека постороннего все одинаковы: все в глаза тебе льстят, а потом стараются обмануть на деньгу или подсунуть гнилой товар. Тут не то что от Дика – от старухи, годуновской служанки, было бы больше проку.
Меррик молча смотрел на мастера Кита. Он знал, что поэты большей частью безумны, и знал, что сейчас произойдет: мастер Кит примется петь. Песней он покажет Меррику, насколько тот ниже поэта во всех отношениях, допоет до конца, гордо положит лютню и уйдет – чтобы завтра без особой охоты, но честно исполнять поручение. Так приучил его покойный Уолсингем. Мастер Кит причудлив и своенравен, как светская красавица-вдова, имеющая право выбирать любовников по зову непутевого сердца. Но мастер Кит понимает, что верхушку «Московской компании» сердить опасно, – могут, забыв о былых заслугах капитана Марло, отправить поэта назад в старую добрую Англию, где его ждут не прекрасные зеленые луга и поля, а тюремная камера.
Побренчав и подкрутив колки, поэт запел. Голос у него был приятный, да и песенка сладостная.
– Приди, любимая моя! С тобой вкушу блаженство я. Открыты нам полей простор, леса, долины, кручи гор, – с преувеличенной томностью исполнял Кит свое сочинение.
Чтобы прекратить музицирование, Меррик вышел из Казенной палаты. Кит выругался и положил лютню на стол. Завтра предстояло полдня слоняться по Москве. А для этого – одеться потеплее. Хотя долгополая московская шуба хорошо грела спину и грудь, но штаны поверх исподних требовались плотные.
В московской зиме он видел одно благо – улицы под слоем снега ему казались чистыми. Конечно же, летом они были не менее грязны, чем лондонские улицы, но зима, но белизна…
Лютня молчала. Должно быть, стоило разломать ее на мелкие кусочки и скормить печке, чтобы не напоминала более о настоящей жизни. Мастер Кит не думал, что будет так скучать по Лондону. Даже по мрачным башням Тауэра, даже по Лондонскому мосту, изысканно украшенному кольями с насаженными на них отсеченными головами преступников. Даже по Темзе, вонь от которой заставляла благовоспитанных господ прижимать к носам надушенные платки.
Лютня молчала, но память жила и не давала покоя. Мастер Кит понимал, что отчаянный дядюшка, капитан Энтони Марло, спас ему жизнь, похитив его из Лондона и случайно передав в долговременное пользование «Московской компании». Жизнь-то спас… а душу?.. Ту, о которой говорится в проповедях? Может, даже душу спас – здесь, в дикой Московии, мастер Кит при всем желании не мог бы грешить так, как грешил в Лондоне.
Но что-то же он погубил!
Что-то в душе порой сильно болело, и звуки лютни сперва несли исцеление, это была единственная живая связь с зелеными лугами далекого острова, а потом они начинали безмерно раздражать – потому что мастер Кит снова вспоминал о своем бессилии. Там, в Лондоне, остались гениальный воин, скиф Тамерлан, и презревший богословие ради тайн мироздания и власти доктор Фауст, отчаянный чернокнижник, и король Эдуард, убитый таким способом, что не приведи господь, и даже Дидона, царица Карфагенская, – трагедию о ней, написанную в веселой юности, мастер Кит почти не помнил.
Дядюшка Марло и лорд Барли увезли только тело сочинителя – а рукописи, его истинная душа, остались дома. И мастер Кит тосковал по ним, как мать о навеки потерянных детях.
Татарина Сулеймана удалось отыскать не сразу – уезжал куда-то по загадочным делам. Перед этим, как и предсказывал мастер Кит, выяснилось кое-что неприятное.
Он обычно с великой неохотой покидал теплую Казенную палату, чтобы тащиться на Торг. С ним обычно выходил Дик. Они искали подступов к купцам, которые снабжали припасами Крымский двор. И узнали занятные подробности.
Припасы требовались такие, что не сразу и сыщешь. Взять ту же баранину. Масленица на носу, дай Боже расторговать до нее все замороженное мясо, а за новым посылать уже опасно – не остаться бы с никому не нужным товаром на руках. Посольство же привыкло есть баранину, особливо жаловало бараний курдюк. А где такой курдюк, как им по душе, на Москве взять? У них в степях овцы иной породы. Татары пригнали им здешних овец, а они недовольны…
Молоко им тоже требуется в немалом количестве – но какой купец торгует молоком? Кому молоко требуется – тот заводит корову или же сговаривается с соседями. Многим этот товар доставляют из подмосковных деревень в замороженном виде. А женщины, которых Кул-Мухаммад привез с собой, готовят какие-то свои особые сыры. Предложили им купить пару дойных коров – коров они взяли, и даже сено для них приобрели.
Правда, мешки с мукой тонкого помола только успевай подвозить. В степи-то хорошая пшеничная мука – роскошь.
Дело следовало вести осторожно, чтобы не спугнуть добычу. Первые переговоры вел Дик. Мастер Кит лишь поддакивал, но внимательно следил за собеседниками. Наблюдательность выручала его не раз – не то во Франции бы и остался, удобрять грешной плотью траву в придорожной канаве.
Четыре дня потратили на то, чтобы окончательно уяснить: припасы на Крымский двор уже поставляются, но дальше ворот никого не пускают, то есть вообще никого, без единого исключения. Кроме того – не давая купцам возможности нажиться на гостях, боярин Годунов велел многое поставлять киргиз-кайсакам с Сытного государева отдаточного двора; хорошо испеченный хлеб везли оттуда коробами, потому что подходящих печей на Крымском дворе отродясь не бывало, и муку везли мешками, зная, что эти люди готовят в казанах свои пряженые лепешки, и крупы – на всякий случай, вдруг в степи тоже едят гречневую кашу.
На четвертый день стало ясно, что на Торгу ничего и никого подходящего не найдется. Но оба на Английский двор не спешили. Дик любил в свободное время слоняться меж лавок и рундуков, прицениваясь и даже кое-что покупая, а мастер Кит задумал посетить иконный и бумажный ряды.
Меррик сказал однажды, что там порой продают русские книги более веселого содержания, чем «Жития святых», по которым мастер Кит осваивал русскую письменную речь. Дик к этому добавил, что книгу порой можно встретить и у торговцев в овощном ряду, на что мастер Кит возвел очи к потолку – чего еще ожидать от нелепого и безумного города?
Потом он расхохотался. Меррик и Дик переглянулись – они ничего не поняли, да и не могли понять. А мастер Кит просто представил себе столицу своего Тамерлана, где книги, привезенные из захваченных городов, скорее всего, тоже продавались где попало – и даже на вес.
– Пойдем еще к Флоровскому мосту, – сказал Дик, когда в иконном и в бумажном ряду не нашлось ничего подходящего. – Там, говорят, тоже что-то можно раздобыть, и даже печатные листы с картинками. И помни, мастер Кит, что нас ждет отличное жареное мясо. Просто помни, что еще немного – и ты получишь превосходный жирный кусок мяса. Ведь на Торгу и не захочешь, а купишь какую-нибудь гадость, да там же и съешь. Торговцы как-то понимают, кому можно всучить тухлятину, а от кого лучше держаться подальше. По глазам они, что ли, понимают, кто голоден, а кто сыт?
– По запаху, – буркнул мастер Кит. И так оттолкнул парнишку-разносчика с лотком пирогов, что тот едва не свалился на грязный снег.
Московский Торг недавно горел, развалины лавок снесли, а новые были поставлены кое-как – по государеву указу следовало здесь вскоре строить каменные торговые ряды. Пройти между лавками было особенным искусством. Дик уже наловчился – шел впереди и прокладывал дорогу мастеру Киту. Вдруг Дик остановился.
– Гляди, приказные… Посольского приказа писцы… Видишь?..
– Вижу.
– И с ними киргиз-кайсак…
– Вижу… Как ты их различаешь – этих киргиз-кайсаков, татар, крымчаков, ногайцев?
– Ты тоже научишься отличать.
Этих молодцов мастер Кит уже знал в лицо, хотя знакомства не было: писцы, Никита Вострый и Михайла Деревнин, оба молоды, чуть за двадцать, Михайла – ростом повыше и в плечах пошире, румян, почти дороден, Никита – бледноват, худощав, нос прямой и тонкий, подбородок острый, этого и бородка скрыть не может, серые глаза глубоко посажены, а вот киргиз-кайсак – мужчина лет тридцати, хотя кто этих степных жителей разберет. Округлое смуглое лицо, в меру скуластое, веселые черные глаза, из-под белого войлочного колпака выбиваются черные прядки. И все ему тут в диковинку, и во все он тычет пальцем, а приказные потихоньку объясняют.
Пропустив этих троих, Дик и мастер Кит, не сговариваясь, пошли следом. Было любопытно, отчего именно этого человека выпустили с Крымского двора и о чем он с писцами толкует.
Киргиз-кайсак глядел в будущее: безбожно коверкая русскую речь и произнося звуки так, что мастер Кит знакомых слов не узнавал, он обещал, что через полгода будет разговаривать не хуже любого московского жителя.
– Сдается, он останется тут при Посольском приказе, будет учить язык, чтобы потом служить при своем хане толмачом, – шепнул Дик. – Сейчас толмачами служат астраханские и прочие татары, а хану, видать, нужен надежный человек. Может, даже родня.
– И вряд ли татары знают русское письмо, – ответил мастер Кит. Сам он пока спотыкался на каждой причудливой букве и знал, что у татар в ходу письмо арабское – справа налево.
Разумеется, тут же вспомнился «Тамерлан» – героев на сцену автор согнал со всех концов света и не придал им ни единого толмача. Даже дитя, глядя на раскрашенную карту в Казенной палате, сказало бы, что все эти люди не могут говорить на одном языке. Мастер Кит отвлекся на размышления – как, в самом деле, передать на сцене такую разноголосицу? Да и нужно ли передавать, если публика не возражает?
Веселый киргиз-кайсак принялся что-то объяснять приказным.
– Я понял тебя, Бакир, сейчас пойдем туда, где продают украшения. Порадуешь свою женку, – сказал Никита Вострый. – Я-то знаю, что женкам по душе.
– Так ты ж не женат, – напомнил Никите Михайла Деревнин.
– Не женат, а зазноба есть. Я ей то перстенек приношу, то низку речного жемчуга. Нельзя же без подарков.
– Вдова, что ли?
– Девка. На Красную горку сваху зашлю. Мы с ней уж сговорились. Мой крестный обещал к тому времени мне другое жилье приискать.
И мастера Кита, и Дика мало беспокоило, какая такая зазноба завелась у Никиты Вострого. И они пошли с Торга прочь – Дик к спуску, чтобы перебежать через реку и выйти к сперва к Татарской, потом к Толмачевской слободе, а мастер Кит свернул на Варварку, к Английскому двору.
Он хотел со всем возможным ехидством сообщить Меррику, что оказался прав и вербовать купца для переговоров с посольством – бесполезная затея. А вот татарин Сулейман мог бы оказаться полезен – он так пронырлив, что и в царицын терем незамеченным проберется.
К тому же на поварне Английского двора, это мастер Кит знал точно, к обеду готовили пирог с почками и йоркширский пудинг, было намечено и открыть бочонок с хересом. И это хоть на полчаса переносило едоков в Лондон…
Глава 3. Безымянная девка
Подьячий Земского двора Иван Андреевич Деревнин сидел за столом в том мутном состоянии души и тела, когда глядишь перед собой без единой мысли и без всякого соображения, а руки-ноги чуть ли не человеческим языком шепчут: шелохнуться не можем, и не приказывай – бесполезно.
Умаялся!..
Сутки не спал подьячий – вместе со своими людьми и стрельцами брал ватагу налетчиков, что пришли на Москву из Ростокина и промышляли когда воровством, а когда и грабежом. Последнее, что они учудили, – напав на обоз, уложили кистенем насмерть купца и даже его жену. После этого и решено было брать любой ценой.
Поскольку шалила ватага и на Москве, и за пределами, ею занимался и Земский двор, отвечавший за порядок на Москве, и Разбойный приказ, в чьем ведении были головорезы из окрестностей.
Пришлось Деревнину вместе с товарищем из Разбойного приказа сидеть в засаде, причем место для засады очень толково подсказал ростокинский поп, отец Пафнутий, и потом, когда лиходеи чуть не взяли попа в заложники, отбивать его и руководить стрельцами, среди которых было двое молодых, совсем неопытных.
Так ведь мало же взять налетчиков – нужно их привезти и сдать с рук на руки смотрителям подземной тюрьмы Земского двора, а смотрители, хоть и были предупреждены, завалились, сукины дети, спать. Так ведь мало сдать им добычу – нужно еще заставить кузнеца тут же наложить на добычу цепи и так все заклепать, чтобы налетчики не то чтобы бежать – а пошевелиться с трудом могли. И еще наказать, чтобы с утра им хоть по куску черствого хлеба дали, а хлеб – казенный, за ним придется посылать с бумагой ярыгу на Сытный государев двор, откуда выдается пропитание, и ставить злодеев на довольствие, чтоб им сдохнуть…
И вот подьячий Деревнин сидел в приказной избе на лавке, не находя в себе сил подняться на ноги, и думал, что завтра с утра придется отбирать сказки у лиходеев, что врать они будут немилосердно, валя вину друг на дружку, что путаницы в этих сказках явится изрядно, что придется снимать с высоких полок лубяные короба со свитками столбцов, в которых записаны злодеяния чуть ли не десятилетней давности, и искать в них следов нынешних налетчиков, а он, Иван Андреев сын Деревнин, даже не сможет выспаться, чтобы утром бодро приступить к допросу.
И даже самому себя жаль стало – в сорок шесть-то лет носиться ночью на санях по проселочным дорогам, которые и не дороги даже, а так – санный след; летом же по тем дорогам только чертям за дровами ездить…
Виски уж поседели, бороду проседью пробило. Спину порой ломит. А служи, раб Божий, служи государю! Государь же и твоего имени не ведает. Государю, сказывали, до Земского двора вовсе дела нет, столь богомолен, что мирской суетой вовсе пренебрег. Вот разве что боярин Годунов – того следует благодарить: придал Земскому двору стрельцов. Без них бы совсем плохо было…
Да, умаялся… Так умаялся, что даже голод брюхо не гложет…
В приказную избу заглянули двое – товарищ по службе Василий Еремеев да сомнительный человечишко Данило Воробей. Данило порой оказывал Деревнину услуги, а кормился тем, что при Ивановской площади состоял площадным подьячим. Он мог подсказать, кто и когда из налетчиков объявился, скажем, в Замоскворечье, на чьем дворе прячется. Откуда такое тайное знание – Деревнин не спрашивал, а отдаривался вот чем: приходившим в приказ бестолковым просителям, не умеющим внятно изложить свою беду, велел искать на площади Воробья да не скупиться – Данило всю кляузу толково запишет и научит, как на расспросы в приказе отвечать.
– Что ты тут сидишь, понапрасну казенную свечу жжешь? – спросил Еремеев. – Шел бы домой, право.
– Хочешь – за извозчиком сбегаю? – предложил Воробей.
Деревнин только головой помотал. Напротив Земского двора денно и нощно торчали извозчики с лошадьми – на случай, ежели где-то вдруг полыхнет и особая стража, заведенная для того, чтобы тушить пожары, помчится с лопатами и баграми исполнять свое ремесло. То место, где они ждали беды, так и называлось – Пожар, и было оно на краю Торга. Да и в кремлевских приказах люди допоздна сидят, может, есть хитрые извозчики, которые у Никольских ворот околачиваются. Обычно-то Деревнин ходил домой пешком… обычно, а вот сейчас…
– Вставай, вставай! – Еремеев потряс товарища за плечо. – Ефимка-сторож уж не знает, как тебя выпроводить, чтобы двери запереть.
– А ты? – спросил Деревнин.
– А я, вишь, Воробья ждал. По своему дельцу…
Знал Деревнин, что это за дельце. Еремеев собрался сына женить и просил Воробья тайно разведать про невестину родню. Свахи мало ли что наболтают, а после венчания поздно ахать и кулаками махать. Ждать пришлось долго.
– И то… Пойду, пожалуй, – решил Деревнин. – Данило, нам ведь по пути… Так и быть, доведу тебя до твоего дворишки.
Хотя площадному подьячему лучше всего иметь хоть убогонький двор в самом Кремле, Воробей предпочитал жить и столоваться у замужней сестры Ульяны. Это было всем удобно – Воробей получал утром и вечером хоть простую, но горячую еду, был обстиран, спал в тепле. Ульяна же получала от него деньги и помощь по хозяйству – муж, Аверьян, совсем обезножел, дочери были выданы замуж в Тверь и даже в Вологду.
Оба – и Деревнин, и Воробей – жили в Остожье. Место не знатное, чуть ли не впритык ко многим дворам – заливные луга, где пасется скот, что очень удобно для хозяек, имеющих корову, а то и двух. Деревнин все собирался оттуда съехать, чтобы заполучить достойных соседей, поскольку признаваться, что твой дворишко – на Остожье, порой даже неловко. Опять же – сын. Единственный.
Сыновей ему покойная Агафья родила четверых, двое померли в самом раннем младенчестве, третий, Алешенька, уродился сущеглупым, бродил, разинув рот, слюни текли, утереться не умел. Деревнин сговорился, сделал за него вклад в обитель, отдал под присмотр инокам, имевшим послушание – заведовать богаделенкой. Судя по тому, что из богадельни известий не поступало, Алешенька жил, был по-своему здоров, а годочков ему исполнилось уже двадцать четыре.
Михайлу удалось пристроить писцом в Посольский приказ. Этим сыном Деревнин гордился. Тем, кто в Посольском приказе, такие дороги открыты – иным приказным и не снилось. Они у самого Годунова на виду. А Годунов – все ведали! – государство под себя подмял. Так и говорили: на царство помазанный царь Федор Иванович царствует, а непомазанный царишко Борис – правит. Коли важное дело – к нему и идти. Да еще за спиной у него – женушка, о коей шептали: не к ночи будь помянута. Дочь недоброй памяти Малюты Скуратова.
Однако, пока жив государь, годуновское семейство никуда не денется – еще покойный Иван Васильевич сам сосватал сыну Федору Борисову сестрицу Ирину, словно знал: у Годуновых хватка цепкая, куда там волчьей пасти, за ними сын будет – как за каменной стеной.
А ведь сказывали шепотом, что Годунов-то с Бельским покойного царя и уморили…
Но в приказной избе Земского двора еще и не таких чудес наслушаешься.
Деревнин присматривал сыну невесту – в семействах, близких к Годунову. Коли изловчиться – так, может, когда чадо народится, и сам Борис Федорович соизволит в крестные пойти. То-то была бы удача! Даже не в подарках дело – а годуновского крестника в любом приказе хорошо примут. Разумеется, Деревнин первым делом о Посольском приказе думал. И уже предполагал – как и когда начнет учить внука грамоте, какого опытного немца из Немецкой слободы ему наймет для обучения языкам.
Однако первым делом следовало вложить прикопленные денежки в хороший дом и двор. В этот, на Остожье, ведь жену из почтенного семейства привести страшно. То-то Михайла так и норовит переночевать в Кремле, у приятеля Никиты Вострого, с которым в приказе рядышком сидит, в одну чернильницу они перья тычут. Стыдно ему звать гостей в Остожье…
С одной стороны, нужно отселева съезжать, а с другой – Деревнин, уже несколько лет вдовевший, задумал жениться. А свадьба – расходы, да и после свадьбы молодую жену надобно наряжать. Это тебе не ключница Марья, что после смерти Агафьи согласна спать с хозяином за скромные подарки.
Щуплый Воробей был очень рад, что с ним пойдет статный и осанистый подьячий. И они двинулись потихоньку, несуетливо, беседуя о приказных делах. Воробей в порядке благодарности взялся нести небольшой слюдяной фонарь.
Фонарь был делом необходимым – не для того лишь, чтобы, споткнувшись о колдобину, ноги не переломать, а еще для того, чтобы решеточные сторожа видели: идет человек ведомый, лица не прячет, можно пропустить. А кто без огня – того имать и в тюрьму препровождать, потому – вряд ли что хорошее ночью затеял. Попадались и такие, что пытались зажечь богатый двор, чтобы в суматохе добром поживиться.
Зимняя ночь на Москве была тиха, только дальняя перекличка сторожевых стрельцов на кремлевских башнях эту тишину нарушала. Да время от времени кричали десятские: совершая положенный обход по своей улице, вспугнули вора или даже просто молодца, что тайно пробирался к зазнобе.
Двор Воробья был совсем рядом, когда случилось неожиданное.
– Иван Андреич, слышь-ка? – вдруг прервал толкующего о ростокинских налетчиках подьячего Воробей. – Бежит кто-то?
– Да, от реки.
– Самое время бегать.
– Да уж…
Скрип быстрых ног по снегу приближался.
– Парнишка, что ли?
– Кажись, за ним гонятся.
– Что ж молчит? Десятских надобно кликать.
Десятские недавно голос подали – были не так чтоб совсем рядом, но и недалеко, там, где уже более десяти лет все строили, строили, да никак не могли достроить каменный собор – сказывали, быть ему Зачатьевским.
Из темного переулка вынырнул невысокий беглец, метнулся влево – да и налетел на Деревнина, да и прижался, словно бы с великого перепуга. Преследователи перешли на шаг – должно, заметили двух хорошо освещенных фонарем мужчин.
Сабли с собой Деревнин не таскал, а вот хороший турецкий нож на поясе был, да за голенищем – как водится, ножик-засапожник. Данило также не ходил безоружный.
– Эй, кто там шалит?! – грозно крикнул Деревнин. – Пошли вон, не то десятских кликну, за стрелецким караулом пошлю!
Незримая погоня остановилась.
– Иван Андреич, они так просто не уйдут, они затаились, – сказал Воробей. – Ну-ка, глянь-ка, кого нам Бог послал…
Он осветил лицо беглеца.
– Ох ты! Девка!
Для этого и фонарь не требовался – беглец благоухал розовым маслом.
– Девка, – подтвердил Деревнин. – Ты чья такова? Отчего по ночам носишься, как угорелая?
Ответа не было.
– Нерусская, – сказал Воробей. – Гляди ты, совсем с перепугу онемела. Из Татарской слободы, что ли, сбежала?
– Отсюда до Татарской слободы версты полторы, не меньше. И как бы она проскочила мимо решеток?
– Там тоже на ночь ставят решетки?
– Ставят… И сторожа при них стоят… – Деревнин заглянул девке в лицо, она отвернулась и прикрылась ладошкой. – А вроде бы татарка…
– Косы черные. Да скажи хоть слово! – потребовал Воробей.
Девка молчала.
– Син кем? Сине ничек чакырырга? – Воробей перешел на татарскую речь.
Ответа не было.
– Син татарча?
– Или насмерть перепугана, или не татарка, – сказал Деревнин. – Оставлять ее на улице нельзя.
– Сам вижу.
– Вот что – ты ее к себе возьми, переночует в подклете, утром выпустишь.
Воробей нахмурился, но слово подьячего – закон; вот так-то ослушаешься, а он запомнит и потом найдет способ тебя прищучить.
– Минем белен барыйк, – сказал девке Воробей. – Не разумеет! Ну, Господи прости, Аллах акбар!
– Аллах акбар, – повторила девка. – Сен мусумансын ба?
– Мусумансын, – согласился Воробей. – Что делать, приходится врать. Пойдем, голубушка, у нас ты будешь безопасна.
– А коли турчанка? – предположил Деревнин.
– У турчанок и глаза другие, и лицо. У этой, вишь, личико плоское, глазки узковаты. Хотя… Тюрк кизисин?
Познания Воробья Деревнина не удивили – на Ивановской площади кого только не встретишь, и литву, и армян, послужи там годик-другой – намастачишься и по-персидски малость лопотать. Знал площадной подьячий три десятка слов по-татарски, столько же по-турецки, полсотни – по-польски и по-немецки, даже по-шведски – от пленных шведов научился, которых недавно привели. Этого хватало, чтобы определить, откуда иноземец, довести его до Посольского приказа, пусть там с ним толмачи разбираются, и взять за услугу хоть полушку.
Когда Воробей взял девку за руку, чтобы привести на двор, она свою руку выдернула, всем видом показывая: не дамся!
– Ну, Данило, я с ней постою, а ты беги, приведи кого ни есть из баб, – догадался Деревнин. – С бабой, да еще старой, она пойдет.
Так и сделали. Воробей знал, что Ульянина свекровь Тимофеевна, бабка лет семидесяти пяти, мается бессонницей и, чтобы никого не смущать, летом в хорошую погоду часто сидит ночью в садике, зимой же – просто у кухонного окошечка, вполголоса вычитывая молитвы – больше-то впотьмах заняться нечем.
Тимофеевна пришла, ей объяснили положение дел, она поахала, приобняла узкоглазую девку и повела на двор. Девка не сопротивлялась.
– Слава те Господи! – сказал Деревнин. – Ну, Данило, тебе на том свете зачтется. Ты утром разгляди, во что она одета, составь опись, пойдешь к себе на Ивановскую – занеси ко мне в приказную избу. Может, девку станут искать, так пригодится. Давай фонарь.
До своего двора он добрался без приключений. И нет бы ему задуматься – отчего люди, от которых убегала девка, не попытались как-то наказать ее спасителя. После бессонных и суетливых суток, после того, как улов, три грешные души, был доставлен и сдан в тюрьму, что тут же, возле приказной хоромины, Деревнину было не до умопостроений.
Когда он подходил к калитке, его приветствовали два дворовых пса.
В доме все уже спали. Он прошел на поварню в надежде, что в печи стоит и еще не успел остыть горшок-кашник. Ему хватило света от лампадки, горевшей в углу перед образком Николая-угодника. Горшок был, Деревнин подхватил его ухватом, выставил на стол и по-простому навернул оттуда теплой пшенной каши, приправив конопляным маслицем. Потом вернул ополовиненный горшок в печь – стряпуха Ненила, коли верить запаху, с вечера поставила тесто на хлебы и на пироги, значит, поднимется ни свет ни заря, и это будет почти скоро; пусть бы поела каши.
Потом он пошел в опочивальню, моля Бога, чтобы ключница Марья, с которой он втихомолку сошелся после смерти жены, не прокралась туда с вечера и не заснула на кровати. Марьи не было, и он сообразил – среда же завтра, постный день, в ночь на постный день такие дела возбраняются, и батюшка в церкви, после службы и проповеди, всегда о том бабам напоминает.
Раздевшись, Деревнин рухнул на постель – было не до вычитывания вечернего молитвенного правила. Встать он хотел до рассвета, чтобы бежать в приказ, и ему это удалось.
На кухне уже хозяйничала Ненила. С ней была Марья, бабы развлекались беседой. Одновременно Марья резала вареное мясо и выкладывала его в миску с кашей – чтобы сделать начинку для пирогов.
– Марьюшка, накрой Ивану Андреичу, – попросила Ненила. Она делила поставленное с вечера и старательно вымешенное квасное тесто на большие шматы, чтобы каждый еще отдельно подмесить на доске и собрать в ковригу. Не только руки по локоть были в ржаной муке, но и нос, и щека.
– Оладьи будешь, наш батюшка? – спросила Марья.
– Буду.
Пока ключница пекла большие, «приказные» оладьи в палец толщиной, пока ходила за горшочком меда к ним, Деревнин помолился на образ Николы-угодника. Вычитывать правило полностью не стал – спешил.
Горячие поджаристые оладьи очень его порадовали. Пока ел – даже окончательно проснулся.
– Не послать ли тебе в приказ пирогов? – спросила Ненила. – Ивашка бы снес. Все лучше, чем брать на Торгу. Там такую тухлятину в тесто завернут – три дни будешь брюхом маяться.
Ивашка, соседский парнишка, охотно исполнял такие поручения: Земский двор у Воскресенских ворот в двух шагах от Торга, а на Торгу весело! Вот земский ярыга воришку за ворот сгреб и в приказную избу тащит, вот баба клюкой отгоняет от красивой внучки доброго молодца, вот разносчик пироги с лотка в снег уронил – успевай хватать да удирать!
– Я сваху вчера видала, – сказала Марья. – Сказывала, есть для Михайлы Иваныча невеста – шестнадцати годочков, хорошего рода, батюшка ее в Постельном приказе служит, недавно его туда взяли из Твери, услуги боярину Годунову какие-то оказал. Годунову! То, что нам надобно. Вот он семейство и перевез, а на Москве у него тетка жила, да померла во благовременье.
- Слоны Ганнибала
- Трое из навигацкой школы
- Канцлер
- Закон парности
- Свидание в Санкт-Петербурге
- Белая рабыня
- Паруса смерти
- Сказание о граде Ново-Китеже
- Последний часовой
- Таинственный двойник
- Воевода Дикого поля
- Камеи для императрицы
- Русский легион Царьграда
- Гибель Царьграда
- Дуэль на троих
- На край света
- Чекан для воеводы (сборник)
- Меч Вайу
- Карфаген должен быть разрушен
- Окаянная сила
- Слепой секундант
- Аляска, сэр!
- Вайделот
- Звенья разорванной цепи
- Заклятие Лусии де Реаль (сборник)
- За столбами Мелькарта
- Батареи Магнусхольма
- Шпионские игры царя Бориса
- Царское дело
- Чернокнижник
- Холод южных морей
- Тайна могильного креста
- Карнавал обреченных
- Курьер из Гамбурга
- Кладоискатели
- Наследник поручика гвардии
- Курляндский бес
- Наследник Тавриды
- Однажды в Париже
- Ниндзя в тени креста
- Повелители волков
- Посох волхва
- Приключения поручика гвардии
- Последний поход «Новика»
- Офицерская честь
- Принцесса крови
- Приключение ваганта
- Полет орлицы
- Операция «Аврора»
- Проклятие красной стены
- Агент из Версаля
- Блудное чадо
- Забытый князь
- Завещание лейтенанта
- Изгои Рюрикова рода
- Карта царя Алексея
- Корсары Мейна
- Грозное дело
- Месть Аскольда
- Имперский раб
- Двести тысяч золотом
- Наблюдательный отряд
- Олимпионик из Ольвии. «Привидения» острова Кермек (сборник)
- Через Западный океан
- Игра с Годуновым
- Пятый крестовый поход
- Жонглёр
- Русский с «Титаника»
- Дьявол против кардинала
- Четвертый бастион
- Тайна розенкрейцеров
- Персидское дело