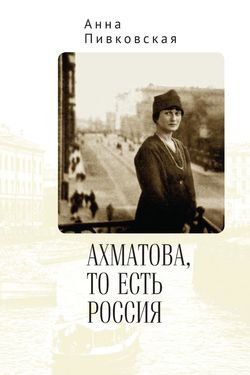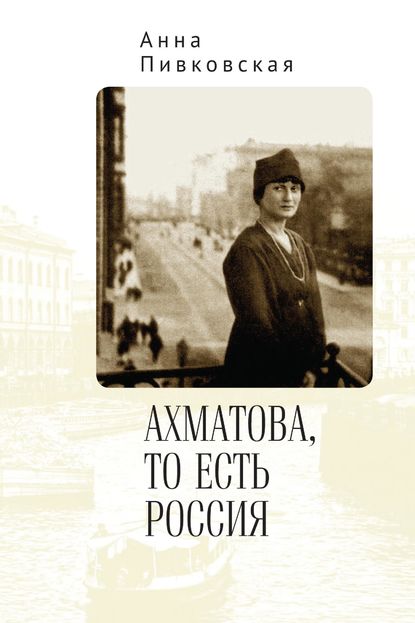Благодарю Адама Поморского, главного моего гида по жизни и творчеству Анны Ахматовой, и Томаша Любеньского – моего гида по России.
Анна Пивковская
«Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя, двадцать процентов мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в литературоведческие работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что – то забывать…»
Анна Ахматова
Черный лебедь
… Себя чуть помню – я себе казалась
Событием невероятной силы
Иль чьим –то сном, иль чьим –то отраженьем (…)
Анна Ахматова «Энума Элиш»
Какой она была? Тринадцатилетней девочкой, представляющей себя черным лебедем на царскосельском пруду. Черных лебедей привезли из Италии при царице Екатерине II, и в детские годы Анны Горенко, будущей Анны Ахматовой, они были явлением необычайным и редким. Все восхищались черными лебедями не только из – за их красоты. Они были также и диковинкой. Чужеродные и непохожие на белых лебедей, хорошо известных и легко приручаемых. А в нашем тринадцатилетнем черном лебеде оставалось еще многое от гадкого утенка, к тому же писавшего стихи. Стихи позволяли ей приручать мир и давали ощущение своей исключительности. Итак, Аня Горенко чувствовала себя поэтессой чуть ли не со дня своего рождения. Особенная, вовсе непростая красота выделяла ее среди ровесниц. О девочке с таким типом красоты можно было справедливо сказать, что она в равной степени и красива, и некрасива. Одно дело быть неземным созданием с белокурыми локонами, как Ольга Глебова – Судейкина, ее будущая подруга, а другое – высоким черноволосым подростком со странным горбатым носом и челкой. Впрочем, челку она придумала позднее, по образцу наимоднейших парижских причесок начала XX века. Придумала она также и себя и выросла красавицей. Иосиф Бродский скажет, что она принадлежала к числу поэтов, которых в нашем мире попросту не встретишь, они являются в него готовыми, полностью сформированными. Она тоже была готова. А также и история была готова вписать ее в свой бег – в «Бег времени», как Ахматова назовет свою последнюю, изданную в 1965 году книгу стихотворений…
Отец Ани еще в ее детстве, прежде чем та начала писать стихи, по какому –то поводу назвал ее из чувства противоречия «декадентской поэтессой». Ко всему прочему она во сне проявляла лунатизм и считала себя дочерью месяца. Но в шестнадцать лет она уже писала стихи с полным сознанием того, что она – поэтесса. Позднее поэзия Анны Ахматовой станет, по ее предсказанию, чем – то вроде особенных прожекторов, вырывающих из непроницаемой тьмы фрагменты ее жизни. И какие фрагменты! Детство в Царском Селе, легендарное здание Лицея, где учился молодой Пушкин, дореволюционная петербургская молодость в кабаре «Бродячая собака» и первая литературная слава. Дождливый Париж с Амадео Модильяни, супружество с Николаем Гумилевым, дружба с Осипом Мандельштамом, весенние, мокрые кисти сирени, поцелуи и пахнущие кожею дрожки. Всю эту атмосферу можно обнаружить в ее первых стихах, вошедших в сборники «Вечер» и «Четки». Но уже очень рано в эти лирические стихи вторглась история. В стихах шестнадцатилетней Анны Горенко уже слышны отзвуки революции 1905 года и потрясение, вызванное гибелью русского флота под Цусимой. Потом взрыв Первой мировой войны, революция, бездомность и голод во время гражданской войны, а в конце слова из «Элегии»: «Меня, как реку, / суровая эпоха повернула».
После революции ее жизнь фактически распалась на две части. Более того, временами у Анны возникало чувство, будто она жила не своей жизнью, а ту настоящую, принадлежащую ей жизнь, у нее незаконно отобрали. Она часто прибегает в своих стихах к слову «двойник». В 1945 году в Ленинграде она напишет в «Пятой северной элегии»:
Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что – то,
О чем теперь не надо вспоминать.
И женщина какая – то мое
Единственное место заняла,
Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу…
Позднее ее поэтической миссией станет описание жизни послереволюционной России и оплакивание жертв сталинского террора. Ее жизнь и стихи неразрывно связаны с Петербургом – Петроградом – Ленинградом, какие бы имена не носил этот город. В своей поэзии она умела передавать, а, может быть, и создавать мистику этого, как сказал Бродский, «переименованного города», описывать его химерическую красоту и печальный гоголевский страх. «Медный всадник» Пушкина и «Шинель» Гоголя – это как бы две стороны одной и той же медали. С нее смотрят два лица человека, побежденного этим городом. И еще – лицо Раскольникова, крадущегося к дому старухи – процентщицы, лицо Анны Карениной на скачках, когда прекрасная Фру – Фру ломает себе хребет, и Татьяны, по – королевски удаляющей от себя Онегина пушкинской фразой. А также, как в стихотворении Анненского «Петербург»: «пустыни немых площадей, / где казнили людей до рассвета».
Окно, прорубленное в Eвропу
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.
Анна Ахматова «СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ»
Необычайна судьба Петербурга, города Ахматовой. Основанный в 1703 году, в 1712 он становится столицей Империи. В ХХ веке он пережил три переименования, три революции, Большой Террор и 900 – дневную блокаду. Санкт – Петербург, возведенный на болотах тираном и безумным визионером Петром I, названным Великим, поглотил во время своего строительства тысячи жертв. Их кости легли в фундамент этого самого европейского города России, где Нева впадает в Финский залив, а в июне солнце почти одновременно скрывается за горизонт и восходит снова. Петр приказал: «быть здесь городу», и город возник. Его решение воспел Александр Пушкин, гениальный поэт, цензором которого был сам царь Николай I.
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложон
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море…
«Окно в Европу» фактически было, как писал Пушкин, «прорублено». Город, возникший на болотах и на костях его строителей, вопреки логике архитектуры, только благодаря необычайной воле и капризу своего властителя. Очень скоро Петербург сделался по – настоящему европейской столицей и оброс легендами. Европейской, но все –таки имперской, где улицы слишком широки, a тротуары слишком высоки для человека. Простым людям пришлось жить в городе, построенном для героев, и умирать в нем иногда героической, а иногда и унизительной смертью.
Петр Великий следовал римской традиции, присвоив себе титул императора, а «Петрополь» сравнивали с древним Римом. Жители этого трижды переименованного города продолжают называть его попросту Питером. В мифе этого города взрослела и жила Анна Ахматова, «златоустая Анна всея Руси», как охотно называли ее современники. В значительной мере она сама помогала создавать этот миф. Великорусский ген, зазвучавший восторженным тоном в даваемых ей именах и прозвищах, наверняка был ей приятен. Великая поэтесса, неповторимая Анна, которая даже в тюремных очередях Ленинграда, где стояли измученные российские женщины, или в очереди за селедкой, которую заворачивали в газету, чувствовала себя «Анной всея Руси», «Королевой – бродягой». Наверняка ей не была чужда раздвоенность, характерная для всей тогдашней русской интеллигенции, которая с такой силой проявилась во время блокады Ленинграда. Немецкое вторжение могло привести к упадку ненавистного режима. Однако ценой была бы гибель либо, по крайней мере, унижение России. Поэтому Анна Ахматова стояла в противогазе на крыше своего Фонтанного дома, в дежурстве, борясь с зажигательными бомбами, в буквальном смысле слова с разбитым сердцем, еще перед первым инфарктом, из – за сидящего в советских лагерях сына. И спустя лишь три года после смерти в лагере Осипа Мандельштама, друга и поэта, которого она еще не успела оплакать Стояла, ибо любила Россию, свою великую, великолепную, а временами и ненавистную родину. И любила этот город, где Петропавловская крепость, в бастионах которой содержались и подвергались пыткам поколения политических узников, возвышается над барочными монастырями и дворцами, спроектированными выдающимся архитектором Франческо Бартоломео Растрелли – младшим. Он был любимцем императрицы Елизаветы, дочери Петра I, открытой для европейской моды. Открытой до такой степени, что, ставши императрицей, она уже в 1741 году запретила применение пыток в уголовном следствии и отменила смертную казнь. Запретила также жителям Москвы держать домашних и дворцовых медведей, сидящих на цепи и рычащих на прохожих……
Любимый город Ахматовой строился как произведение искусства, он был воплощением великого плана Петра, сотворенного из воды, воздуха и камня. Возможно, Анна Ахматова сама была особым Божьим творением, созданным из плоти и духа. Маркиз де Кюстин писал в воспоминаниях, что Петр Великий и его наследники относились к своей столице как к какому – то театру. В «Записках из подполья» Достоевский назвал Петербург «самым отвлеченным и умышленным городом на всем земном шаре», а Гоголя – иностранцем на собственной родине. Иосиф Бродский по – другому прокомментировал осуществившуюся мечту Петра Великого: «Город стал пристанью, причем не только в физическом значении. Также и метафизически. Нет другого места в России, где воображение отрывалось с такой легкостью от действительности: русская литература родилась вместе с появлением Петербурга». Ахматова была очарована архитектурой Петербурга, прекрасно ее знала и написала несколько очерков на эту тему. Петербург стал также героем и лирическим адресатом ее стихотворений, сценой для ее собственной мифологии: «А не ставший моей могилой, / Ты, гранитный, кромешный, милый, / Побледнел, помертвел, затих» («Моему городу»). В то же время он был для нее городом прóклятым, что нашло поэтическое выражение в «Поэме без героя»:
И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.
Уже царица Евдокия Лопухина, первая жена Петра Великого, прокляла этот город, когда, брошенная Петром, умирала в одиночестве в Новодевичьем монастыре в Москве. Ахматова в своей жизни тоже неоднократно чувствовала себя прóклятой.
Красная шаль Прасковьи
Что бормочешь ты, полночь наша?
Всё равно умерла Параша,
Молодая хозяйка дворца.
Анна Ахматова «ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ»
Более тридцати лет домом Ахматовой в Петербурге был знаменитый Фонтанный дом. Дворец принадлежал одному из знаменитейших родов России, покрытому воинской славой, графам Шереметевым. Легендарный Фонтанный дом, то есть дом на Фонтанке, был построен с европейским размахом, как и весь Петербург. Первый дворец с таким наименованием, построенный фельдмаршалом Борисом Шереметевым, награжденным Петром I графским титулом за заслуги в Северной войне, был деревянным. В сороковые годы XVIII века сын Бориса, насмотревшийся на другие архитектурные чудеса своего времени: Летний и Зимний дворцы, расширил дом, придав ему форму нынешнего строения. Все эти шедевры барокко перенесли на российскую почву итальянцы и французы, создав вначале в воображении, а позднее – на зыбком болотистом грунте вырастающий из тумана Петербург. Фонтанный дом создавался с огромным размахом, достойным своего города, города изменяющихся форм и красок. Строил его Савва Чевакинский – ученик Растрелли, архитектор его школы. Классический фасад был украшен львиными масками и иными символами, прославляющими воинскую славу рода Шереметевых. Львиные маски венчали также железные дворцовые решетки и ворота. Позади дворца простирались сады. Заболевшая туберкулезом Ахматова будет впоследствии в этих садах страдать от холодного воздуха и сырости, которой тянуло от Невы и петербургских каналов. В дворцовых покоях очередные владельцы собирали коллекцию европейской живописи и скульптуры Пол был выложен дубовым паркетом, а плафоны украшены росписью. Из высоких окон, от пола до потолка, открывался вид на реку, блестели золотые украшения и канделябры.
Ахматова, провела в этом доме почти всю свою жизнь. Она утверждала, что дубы в его саду были старше самой столицы. Зеркальный Белый зал, который при ее жизни отпугивал холодом, плесенью, трещинами в стенах и на потолке, стал местом действия ее стихов стихов, в особенности первой части «Поэмы без героя», необычайной петербургской повести.
Она поселилась в нем в 1918 году со вторым мужем, выдающимся ассирологом Владимиром Шилейко. Было ей тогда двадцать девять лет.
Дореволюционная пышность дворца принадлежала уже тогда прошлому: его последний владелец, граф Сергей, внук легендарной Прасковьи и Николая Петровича Шереметевых, устроил в нем музей рода Шереметевых. Во время Октябрьской революции, чтобы защитить дом от полного уничтожения, он передал его государству, подписав договор с советским правительством. Фонтанный дом уцелел: в нем разместился государственный музей. Бывшим служащим было даже разрешено в нем остаться, а Шилейко, любимый учитель графских внуков, в соответствии с этим договором сохранил свое жилище в северном крыле дворца. Ахматова говорила о себе, что она смотритель Фонтанного дома, изучала его историю и на самом деле его полюбила. После развода с Шилейко она на некоторое время выехала из дворца. В 1926 году поселилась там снова с очередным спутником жизни, будущим своим мужем Николаем Пуниным. На Фонтанке она оставалась до 1952 года. Она ощущала присутствие в нем русских поэтов, связанных с этим местом: Тютчева – друга Сергея Шереметева, Вяземского, который тут бывал, и прежде всего Пушкина, дружившего с сыном Прасковьи Дмитрием Шереметевым – отцом последнего владельца дома. Трагическая история Прасковьи, нежеланной жительницы и печальной заложницы Фонтанного дома, была особенно близка Ахматовой.
Прасковья родилась в семье крепостных крестьян в имении Шереметевых в Юхоцке Ярославской губернии. Отец Прасковьи в середине 70 –х годов XVIII века стал главным кузнецом в Кусково, дворцовой резиденции Шереметевых под Москвой. У него был собственный дом и земельный надел. Младших сыновей он послал в обучение к портному, а старший, наделенный талантом, получил музыкальное образование в оркестре Шереметевых. Также и прекрасную Прасковью, дочь кузнеца, обладавшую исключительным голосом граф Петр Шереметев повелел воспитать оперной певицей. Наилучшие преподаватели, приглашенные из Европы, должны были обучать ее пению, танцам и актерскому мастерству, а также языкам: итальянскому, французскому и немецкому. Способная и очаровательная девушка легко овладела ими в разговорном и письменном варианте, а своим голосом, исключительно чистым сопрано, и актерским талантом в значительной мере помогла опере Шереметевых прославиться в последних двух декадах XVIII века.
Более того, между сыном графа Николаем Шереметевым и Прасковьей вспыхнула любовь. Это чувство было как в трагических операх: влюбленных разделяла социальная пропасть. Николай Шереметев был романтиком и обладал художественным вкусом. Он любил музыку так же, как и обладавшая талантом Прасковья. Он влюбился до потери чувств и к тому же искренне. До этого молодой человек охотно пользовался своим «правом» на крепостных девушек и, случалось, что днем, когда те работали, обходил их избы и бросал свой платок в окошко одной из них. Ночью он посещал отмеченную платком девушку, а утром просил ее вернуть платок. Но с Прасковьей все было иначе. В 1809 году он писал: «Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные… наблюдал я украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Сии качества… заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою… Постыдную любовь изгнала из сердца любовь постоянная, чистосердечная, нежная, коею навеки я обязан покойной моей супруге…»
Тайная связь Прасковьи с молодым графом ставила ее в нелегкое положение, поэтому Шереметев построил дом вблизи родового поместья, в котором она поселилась. Ей разрешено было выходить только в церковь и в театр. В апреле 1797 года по случаю визита недавно коронованного императора Павла I в останкинском дворце была поставлена опера «Самнитские свадьбы» французского композитора Андре Гретри. Прасковья восхитила двор исполнением роли Элианы, а сюжет оперы напоминал ее собственную историю. В племени самнитов существовало правило, запрещавшее девушкам объясняться в своих чувствах к мужчине. Элиана нарушает это правило и признается в своих чувствах к военачальнику Парменону, который не хочет и не может на ней жениться. Эта роль была последней в ее карьере. Заболевшую туберкулезом Прасковью влюбленный граф перевозит в Фонтанный дом, где она жила до самой смерти и где ее дух позднее посещал поселившуюся там поэтессу. В 1801 году Николай Шереметев дал Прасковье вольную, а позже обвенчался с ней в маленькой церкви в деревне Поварская под Москвой. Свадьба была окружена глубокой тайной. Считалось, что, женившись на крестьянке, граф, представитель одного из самых видных родов русской аристократии, предал свое сообщество. В довершение он еще отказал царице Екатерине II, сватавшей за него свою внучку, великую княгиню Александру Павловну. Единственным, кто поддерживал и одобрял связь графа, был царь Павел I. Несмотря на это, великолепные салоны Фонтанного дома стали пустеть, а Прасковью с графом посещали лишь ближайшие друзья и артисты, связанные с оперой Шереметевых.
Иногда появлялся и сам царь, которого с Николаем Шереметевым связывала большая дружба. Они были знакомы с детства, и граф Николай был одним из немногих, у кого властный и склонный к неконтролируемым взрывам гнева Павел любил бывать. Восхищенный красотой, талантом и характером Прасковьи, он подарил ей собственный перстень с бриллиантом. Этот перстень изображен на ее портрете кисти Николая Аргунова. В 1802 году Прасковья родила сына Дмитрия и через три недели, измученная туберкулезом, скончалась. Согласно православному обычаю открытый гроб был выставлен в Фонтанном доме, чтобы друзья могли попрощаться с умершей. Однако почти никто не пришел. Не было никого из дворни и семьи Шереметевых. Гроб был перевезен в Александро – Невскую лавру, где Прасковья упокоилась рядом со своим тестем. После ее смерти граф Николай посвятил себя воспитанию сына Дмитрия, а также благотворительной деятельности. Он построил больницу для самых бедных и богадельню. Особенно его сердце трогала судьба крепостных, многим из которых он даровал свободу.
Ахматова очень любила волнующий портрет Прасковьи кисти Николая Аргунова (1802), на котором Прасковья, укрытая красной шалью, с миниатюрным портретом мужа на груди и перстнем на пальце смотрит прямо перед собой с грустью, но и не без вызывающей гордости. Портрет черноволосой Ахматовой, также в красной шали, написала в 30 – е годы ХХ века русская художница – экспрессионистка Татьяна Глебова, ученица знаменитого художника авангардиста Павла Филонова, умершего от голода во время блокады.
Тень Прасковьи промелькнет среди других теней в «Поэме без героя». Эту поэму Ахматова увидит в своем воображении и первые строфы запишет в одинокую новогоднюю ночь 1940 года в своей комнате в Фонтанном доме.
Анна Ахматова всю свою жизнь верила в пророческую силу поэзии. Уже в 1915 году она заклинала («Молитва»):
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Марина Цветаева, прочитав это стихотворение, написала Ахматовой: «как Вы могли! Разве Вы не знаете, что в поэзии все сбывается?»
Ахматова хорошо знала, что да, «сбывается». Может быть, она даже подсознательно хотела, чтобы сбылось. Все – таки среди всех ее сердечных привязанностей поэзия и Россия были для нее самой большой любовью. И как всегда бывает с самой большой любовью – также и самой трудной.
Великолепная, харизматичная, измученная
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Анна Ахматова (1961)
Петербург. Дом Ларисы Георгиевны Кондратьевой на углу улицы Некрасова и Греческого проспекта. Лариса, ровесница и, вероятно, первая учительница английского языка Иосифа Бродского, показывает мне дом, видный из окон кухни. Говорит, что там собирался весь Серебряный век русской поэзии. Вероятно, в нем жил Николай Гумилев уже после развода с Анной Ахматовой. Но все продолжали в нем собираться, дружили, поддерживали друг друга. «Все» это кто? В кухне Ларисы, на высоком четвертом этаже, мы пьем горячий чай и называем имена, как бы призывая отсутствующих: Анна Ахматова, Николай Пунин, Осип Мандельштам, Михаил Лозинский, Артур Лурье, Ольга Глебова – Судейкина. Я пытаюсь понять, сколько в рассказе моей хозяйки, как говорила скептичная Ахматова, «благовонной легенды», а сколько правды. Сколько же в Петербурге таких домов, окруженных легендой, где якобы «все собирались», а теперь лишь витают духи прошлого.
По кухне бродит кот, по улице Некрасова проезжает трамвай, я выглядываю в окно. Нынешнее здание разваливается, и трудно вообразить себе следы давнишней красоты. На балконах, украшенных барельефами, растут сорняки и рахитичные деревья, окна местами выбиты, сыплется штукатурка, а в неотапливаемых помещениях, как утверждает Лариса, находят пристанище азербайджанцы, торгующие наркотиками.
Мимо нас пронесся ХХ век. Тот страшный век, о котором Ахматова написала, что на самом деле он начался лишь в 1914 году. До 1913 года, в котором начинается действие ее знаменитой «Поэмы без героя», был еще предыдущий, XIX век. Или скорее предыстория XX – го, так же, как предысторией своей жизни Ахматова назвала встречу в Париже с Модильяни в 1911 году.
От Петербурга до Сицилии, куда в 1964 году поэтесса ездила получать престижную литературную премию «Этна –Таормина», около трех тысяч километров. Из кухни Ларисы даже теперь, в эпоху самолетов и виртуальных путешествий, это кажется очень далеким. Когда Ахматова отправилась в это путешествие, ей было 75 лет, а за спиной была жизнь, которой бы хватило не на одну биографию. Я пытаюсь представить, какой она была.
В моем распоряжении ее стихи, записки, письма, воспоминания людей, которые близко ее знали, написанные о ней книги, ее портреты, рисунки и несколько десятков не очень разборчивых фотографий. В них нет ее жестов, голоса, смеха, и прежде всего – контекста, в котором ее задержали «на мгновение». На что или на кого она глядела в тот момент, с кем разговаривала, о ком и о чем думала? Ее стихи говорят больше, чем фотографии. Ахматова говорила, что ее собственная поэзия бывала для нее и счастьем, и горечью. Но никогда не приносила утешения…
На одной из последних фотографий она выглядит высокой, величественной, с серебряными гладко зачесанными волосами и с мудрым совьим взглядом.
«И кто бы поверил, что я задумана так надолго», – это фраза из книги, которую она так и не закончила и которая должна была стать частным дневником своего времени, чем –то вроде «Письма» Бориса Пастернака или «Шума времени» Осипа Мандельштама. Под конец жизни она ненадолго уехала из России, чтобы получить литературные награды, собрать дань уважения и принять почести. Из окон поезда, едущего из Рима в Таормину, ей было видно, как волны Тирренского моря разбиваются о скалы. Ехала поездом, так как не выносила самолетов. Этот морской вид после постоянно меняющегося любимого Петербурга должен был ей показаться чем – то действительно постоянным, почти вечным. «Много ли зим перед нами, а может, зимою последней бросается море Тиррен на упрямые скалы?» – спрашивал за 2000 лет до этого Гораций. Ахматова хорошо знала в оригинале Горация, Петрарку и всю европейскую литературу. В своей поэзии она задавала те же вопросы, что и они, и всегда говорила о Горации, Данте или Петрарке как о друзьях, которые никогда не подведут, не бросят, не предадут, не будут замучены системой, ибо, к счастью для нее и для них, они уже переплыли на другой берег Леты.
Тогда, едучи на Сицилию, Ахматова была в Италии уже не впервые. Как и в молодости, она еще раз посетила Рим, а год спустя – Англию и Париж. Из Рима послала открытку с видом Испанской лестницы молодому поэту, своему секретарю Анатолию Найману. Написала ему: «Вот он каков – этот Рим. Такой и даже лучше. Совсем тепло. Подъезжали сквозь ослепительную розово – алую осень, а за Минском плясали метели…»
Спутницей Анны была Ирина Пунина, дочь ее третьего мужа Николая Пунина и Анны Аренс. 10 декабря 1964 года они добрались до Сицилии; после долгого и утомительного путешествия поездом, а затем кораблем, остановились в старом монастыре. Во дворе цвели разнообразные цветы и апельсиновые деревья, пели птицы. 13 декабря поэтесса получила литературную премию, присужденную ей Европейским Сообществом писателей (Comunitá Europea degli Scrittori).
Перед выездом в Италию она ждала несколько месяцев выдачи паспорта и других проездных документов. Нервничала, а, возможно, только удивлялась: «Они что, думают, что я не вернусь? Что я для того здесь осталась, когда все уезжали, для того прожила на этой земле всю – и такую – жизнь, чтобы сейчас все менять!»
Торжество происходило в Катании. Ахматова читала свои стихи характерным для себя способом: глубоким голосом, почти без интонаций. Великолепная, харизматичная. И измученная.
Потом Арсений Тарковский и Александр Твардовский читали посвященные ей стихи, а затем гостям показали последний фильм Пазолини «Евангелие от святого Матфея». Ахматова ценила Пазолини и любила кино. Особенно близок ей был Чарли Чаплин, она ценила его чувство юмора. В отеле «Эксельсиор», где они остановились, она до поздней ночи угощала гостей привезенными из России икрой, черным хлебом и водкой. А пить, говорят, она умела, как мало кто. Принимала также поздравления и выражения благодарности свободного мира – депеши и телефоны. Любопытно, что она думала, читая поздравления Сартра и Симоны де Бовуар, для которых еще недавно синонимом «деятельного интеллектуала» был интеллигент, безоговорочно поддерживающий коммунизм в его советском издании.
В 1965 году она снова выехала за границу. На этот раз ее сопровождала внучка Николая Пунина, любимица Ахматовой Анна Каминская. 4 июня в Оксфорде состоялась церемония присвоения поэтессе титула почетного доктора Оксфордского университета. Присуждению этого титула поспособствовал сэр Исайя Берлин, выдающийся философ, дипломат, историк развития идей. Ахматова по – своему радовалась этой встрече, состоявшейся много лет спустя с мифическим Гостем из Будушего, одним из протагонистов «Поэмы без героя». Это петербургское знакомство 1945 года она, проявив фантазию, с полной осознанностью мифологизировала в стихах из циклов «Cinque» («Пять») и «Шиповник цветет». Мифологизация жизни, перенесение ее из исторического пространства в пространство вечное – ведь миф это вечность, вторгающаяся во время – была одним из поэтических методов Ахматовой. Возможно, была даже чем – то бóльшим, попыткой осмысления своей жизни в мифических категориях для того, чтобы придать им смысл. Миф упорядочивает непонятные события в жизни индивидуума, поскольку, как писал философ Лешек Колаковский о феномене мифа, «человечность всегда предшествует истории». Ахматова бывала в своих стихах Клеопатрой, Медеей, Саломеей, Дидоной, но прежде всего – Антигоной. Однако оксфордская встреча Дидоны и Энея – так она изобразила себя и Исайю Берлина в стихах – спустя годы оказалось совершенно лишенной силы или хотя бы очарования мифа.
3 июня она прибыла в Лондон, конечно же, поездом. Ее фотографии и статьи о ней появились почти во всех лондонских газетах. Принимая звание почетного доктора, она выглядела, как привыкла, по – королевски. Монументальная, изысканная, в черном платье под пурпурной тогой. Накануне, после официального приема в Новом колледже, Исайя Берлин вместе с женой пригласили Ахматову на ужин. Жена сэра Исайи Берлина Алина была наполовину русской, наполовину француженкой и происходила из богатой еврейской семьи. Ее отец, русский банкир барон Пьер де Гунцбург, после революции эмигрировал в Париж. Будущая леди Берлин воспитывалась в великолепной резиденции, принадлежащей семье, на авеню д’Иена в XVI квартале Парижа. Она не знала русского языка и, возможно, также из – за этого, а не только из – за легендарного высокомерия Ахматовой, во время этой встречи между ними так и не возникло понимания. Алина так вспоминала эту встречу: «Она вообще не разговаривала со мной, нисколько. И была такая властная, а я очень робела (…)». На ужине Ахматова была одета в черное платье, а плечи прикрыла кружевной шалью. Той самой, в которой ее многократно фотографировали в последние годы жизни. Она уже не напоминала «гибкой гитаны», о которой писал Мандельштам. Однако от нее исходило величие, хотя она приехала из своей деревянной будки в Комарово (где нужно было самой носить воду из колодца) прямо в грегорианский дворец Берлинов с двадцатью четырьмя окнами на парадном фасаде. Огромный салон, где они сидели, был украшен хрустальными абажурами и картинами, а в столовой имелся овальный эркер с тремя окнами, выходящими в сад.
Ахматова была очень серьезна и разговаривала, вероятно, только с сэром Берлиным, игнорируя его жену. Среди прочих она вспомнила об Иосифе Бродском и его поэтическом гении. Спустя годы Берлин вместе с поэтами Уистеном Хью Оденом и Чеславом Милошем поможет Бродскому сделать первые шаги на чужбине.
Рышард Пшибыльский в своем великолепном эссе «Гость из Мира, судьба и Принцесса» строго и проницательно порицает Исайю Берлина за его высказывания об Ахматовой. Особенно неприятно, может быть, даже покровительственно прозвучало интервью Берлина о его встрече с Ахматовой, данное «Газете выборчей» в 1995 году: «Мы провели вместе с ней неделю, но она была сердита на меня. По ее мнению, между нами существовал некий мистический союз, союз духовный, и мы должны были одинаково переживать это, хотя и порознь. А я позволил себе совершить вульгарный поступок – я женился! Когда я пригласил Ахматову на обед, она проморозила меня насквозь. Разговаривала со мной мило, но я знаю, что так меня и не простила. Она была легендой России, а я ее бросил». Рышард Пшибыльский отвечает на эту тираду такой фразой: «Ну, конечно же, простила, просто он, очевидно, не понял, что простила». И далее подробно анализирует эту встречу, очарование и недоразумение, ставшее уделом «Гостя из мира» и «Принцессы».