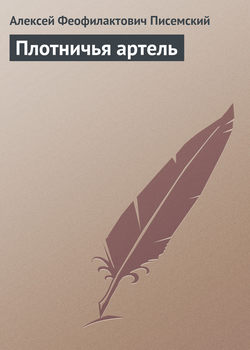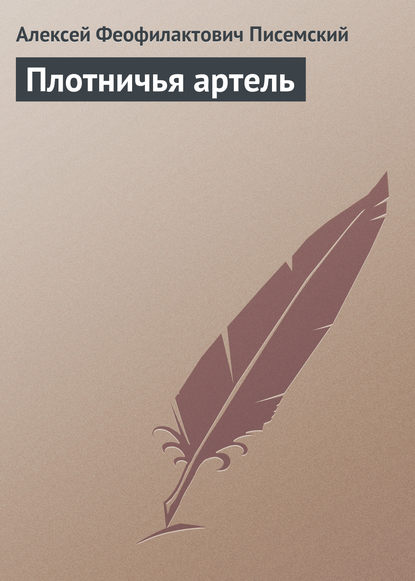I
Зиму прошлого года я прожил в деревне, как говорится, в четырех стенах, в старом, мрачном доме, никого почти не видя, ничего не слыша, посреди усиленных кабинетных трудов, имея для своего развлечения одни только трехверстные поездки по непромятой дороге, и потому читатель может судить, с каким нетерпением встретил я весну. И – боже мой! Как хороша показалась мне оживающая природа и какую тонкую способность получил я наслаждаться ею, способность, которая – не могу скрыть – была мною утрачена в городской жизни, посреди чиновничьих и другого рода мирских треволнений. Настоящим образом таять начало с апреля, и я уж целый день оставался на воздухе, походя на больного, которому после полугодичного заключения разрешены прогулки, с тою только разницею, что я не боялся ни катара, ни ревматизма, ходил в легком платье, смело промачивал ноги и свободно вдыхал свежий и сыроватый воздух. Протаявший на пригорке луг сделался для меня предметом неистощимого вниманья; по нескольку раз в день я наблюдал, как он больше и больше расширяется, свежей и свежей зеленеет; появившиеся на садовых вербах почки я почти пересчитывал, как будто бы в них было все мое богатство. С каким живым чувством удовольствия поехал я, едва пробираясь, верхом по проваливающейся на каждом шагу дороге, посмотреть на свою родовую речку, которую летом курица перейдет, но которая теперь, несясь широким разливом, уносила льдины, руша и ломая все, попадающееся ей навстречу: и сухое дерево, поваленное в ее русло осенним ветром, и накат с моста, и даже вершу, очень бы, кажется, старательно прикрепленную старым поваром, ради заманки в нее неопытных щурят. Целую неделю на небе хоть бы облачко; солнце с каждым днем обнаруживает больше и больше свою теплотворную силу и припекает где-нибудь у стены, точно летом. И сколько птиц появилось и как они ожили, откуда прилетели и все поют: токуют на своих сладострастных ассамблеях тетерева, свищет по временам соловей, кукует однообразно и печально кукушка, чирикают воробьи; там откликнется иволга, там прокричит коростель… Господи! Сколько силы, сколько страстности и в то же время сколько гармонии в этих звуках оживающего мира! Но вот снегу больше нет: лошадей, коров и овец, к большому их, сколько можно судить по наружности, удовольствию, сгоняют в поля – наступает рабочая пора; впрочем, весной работы еще ничего – не так торопят: с Христова дня по Петров пост воскресенья называются гулящими; в полях возятся только мужики; а бабы и девки еще ткут красна, и которые из них помоложе и повеселей да посвободней в жизни, так ходят в соседние деревни или в усадьбы на гульбища; их обыкновенно сопровождают мальчишки в ситцевых рубахах и непременно с крашеным яйцом в руке. Гульбища эти по нашим местам нельзя сказать, чтоб были одушевлены: бабы и девки больше стоят, переглядываются друг с другом и, долго-долго сбираясь и передумывая, станут, наконец, в хоровод и запоют бессмертную: «Как по морю, как по морю»; причем одна из девок, надев на голову фуражку, представит парня, убившего лебедя, а другая – красну девицу, которая подбирает перья убитого лебедя дружку на подушечку или, разделясь на два города, ходят друг к другу навстречу и поют – одни: «А мы просо сеяли, сеяли», а другие: «А мы просо вытопчем, вытопчем». Самой живой сценой бывает, когда какой-нибудь мальчишка покатится вдруг колесом и врежется в самый хоровод, причем какая-нибудь баба, посердитее на лицо, не упустит случая, проговоря: «Я те, пес-баловник этакой!», толкнуть его ногой в бок, а тот повалится на землю и начнет дрегать ногами: девки смеются… Иногда привяжется к хороводу только что воротившийся с базара пьяный мужичонко и туда же лезет целоваться с девками, которые покрасивее; но этакого срамного кто уж поцелует? И он начнет выкидывать другие штуки: возьмет, например, две палки, из которых одну представит будто смычок, а из другой скрипку, и начнет наигрывать языком «Барыню»[1] или нагонит какого-нибудь мальчишку, стащит с него сапог силой, возьмет этот сапог, как балалайку, и, тоже наигрывая языком, пустится плясать и, подняв на улице своими лаптями страшную пыль, провалится, наконец, куда-нибудь; хороводницы после этого еще постоят, помолчат, пропоют иногда: «Калинушка с малинушкой лазоревый цвет»; мальчишки еще подерутся между собой и затем начнут расходиться по домам… Вот вам и игрище все!
Между тем время идет: яровое допахивают. Вечер ясный, теплый. Я сижу на задней галерее дома, обращенной во двор. В зале шумят двое маленьких сыновей: старшему, Павлу[2], четвертый, а младшему, Николаю[3], второй год. Они всеми силами стараются перекричать друг друга, вскрикивая: «Пли, пли, пли!» Это они играют в солдаты и воюют с турками; вдруг один заревел. «Поля! Ты опять брата дразнишь?» – кричу я, наперед зная, что старший, буян, обидел младшего, и хочу идти; но слышу, пришла мать: она лучше восстановит мир. Поля пренаивно объявил, что он братца пикой заколол; ему объясняют, что братца стыдно колоть пикой, потому что братец маленький, и в наказанье уводят в гостиную, говоря, что его не пустят гулять больше на улицу и что он должен сидеть и смотреть книжку с картинками; а Колю между тем, успокоив леденцом, выносят ко мне на галерею. Он так огорчен, что все еще продолжает всхлипывать; большие голубые глазенки полны слез.
– Что, Коля, тебя обидели? – говорю я, беря его за подбородок.
Он несколько времени смотрит на меня, потом прижимает головку к плечу няньки и, как бы вспомнив тяжко нанесенную ему обиду, горько-горько опять заплачет.
– Полно, батюшка, полно! Вон, посмотри, какая идет кошка, а, а, а, кошка!.. Кис, кис, кис!.. – говорит ему в утешенье нянька, показывая на перебирающуюся по забору кошку.
Ребенок занялся.
– Кис, кис, кис! – шепчет он тихонько.
– Да, батюшка, кис, кис, кис, – повторяет за ним нянька, и оба, очень довольные друг другом, отправляются в залу баюкаться. «Бай, бай, бай!» – начинает напевать старуха. «О, о, о!» – окается ребенок, а я все еще продолжаю сидеть: не хочется в комнаты, отрадно на воздухе, хоть и становится свежо. Однако дедушка Фаддей прошел уж за квасом – значит, девятый час в исходе. Дедушка Фаддей только три раза в день (перед завтраком, обедом и ужином) слезает с печи и ходит за квасом, и – не беспокойтесь, никогда не опоздает; всегда первый нацедит из общественной квасницы в свой бурак; не любит жидкого квасу; ну, а дворня не маленькая, как раз сольют и набурят водой. Чалый мерин, которому дозволено гулять в саду по дряхлости лет и за заслуги, оказанные еще в юности, по случаю секретных поездок верхом верст за шесть, за пять, в самую глухую полночь и во всевозможную погоду, – чалка этот вдруг заржал; это значит, слышит лошадей – такой уж конь табунный, жив-сгорел по своем брате; значит, это с поля едут. Сначала показываются боронщики-мальчишки, верхами на лошадях; Васька, сын кучера, обыкновенно впереди всех и что есть духу мчится, но, завидев меня, поехал шагом. Этакого сорванца-мальчишки и вообразить трудно: его пошлют, например, за грибами, а он поймает в поле чью-нибудь чужую лошадь, взнуздает ее веревкой, да верст в десять конец и даст взад и вперед.
«Однако что ж это оральщики не шабашат?» – думаю я сам с собою. Но и оральщики отшабашили, едут! Это можно догадаться по крику задельного мужика, Петра Завирохи; не зная, можно подумать, что он с кем-нибудь бранится, а вовсе нет: он только говорит, и беспрестанно говорит, и все криком кричит; поэтому его Завирохой и прозвали. От оральщиков отделился староста, худощавый и с озабоченным лицом мужик, отличающийся от прочих только тем, что в сапогах и с палочкой, но, как и все другие, сильно загорелый и перепачканный в грязи; он входит на красный двор, снимает шапку и подходит к перилам галереи.
– Здравствуй, Семен, надевай шапку. Что скажешь хорошего? – говорю я.
– Овес выкидали, – отвечает Семен неторопливо.
– Ну, и слава богу! Вовремя, значит, управляемся; теперь, стало быть, ячмень и лен только остался, – продолжаю я.
– Лен и ячмень остался теперь, – подтверждает Семен.
Несколько времени мы оба молчим.
– Теперь бы дождичка надо, – замечаю я.
Семен вздыхает.
– Не мешало бы и дождичка, – соглашается он.
Вообще он говорит как-то лениво: видно, устал да и… Я, впрочем, понимаю, что это значит.
– Эй! Кто там? – кричу я. – Скажите ключнице, чтоб дала старосте водки.
Лицо Семена в минуту освещается удовольствием; ключница выносит стакан водки и вместе с тем полломтя густо насоленного хлеба. Она, по разным сношениям, большая приятельница Семену и всех почти детей у него крестила.
Семен берет стакан, крестится и, проговоря:
– С засевом, батюшка, поздравляю! – выпивает сразу и потом морщится.
– Закусите, – говорит ключница, подавая ему хлеба.
Семен отламывает небольшой кусочек, съедает и откашливается.
– Озими, сударь, нынче, слава богу, хороши подымаются, – заговаривает уж он сам.
– Хороши, братец, хороши, видел я; и травы, кажется, тоже будут порядочные.
– Травы важные засели-с, – подтверждает Семен, – весна-то нынче, сударь, что бог даст вперед, вольготна для всего идет; оно, выходит, тепло, да и дождички перепадают.
– Заморозков чтоб не было – это вот скверно для всего, – замечаю я.
Семен усмехается.
– Пожалуй, что того и жди, – подтверждает он. – Покойный ваш папенька тоже говаривал, как этак с весны теплая погода начнет: «Ну, говорит, будет вычет; как подует от Николы любезный, так и ходи недели две в шубах».
(Никола – приход, от нас в северной стороне.)
– Неужели каждый год это бывает?
– Почесть что каждый год, что вот я ни живу; бог знает, отчего это! Кто говорит, что пахать начнут, пласт поднимут, так земля из себя холод даст, а кто и на черемуху приходит: что как черемуха цветет, так от нее сиверко делается… Бог знает, как и сказать.
– А куда завтра народ пошлешь? – спрашиваю я его.
– Завтра на дороги надо выгнать: выбивают. Сотской два раза прибегал, исправник его хлестать хочет, что дороги долго не чинят.
– Ну, на дороги, так на дороги, откладывать нечего в дальний ящик, не отвертишься!
– Известно-с, – соглашается Семен, – за нами хоть бы и без вас, – прибавляет он, – хошь кого извольте спросить, никогда супротив прочих ни в чем остановки нет; как другие вышли, так и мы.
– Это хорошо; так и надо. Ступай, однако, отдыхай, – заключаю я.
Семен сначала пошел было, но потом приостановился, подумал немного и опять воротился ко мне.
– Насчет плотника вы приказывали… – проговорил он.
– Ну да; что ж?
– Наказывал я: на этой неделе обещался побывать.
– И хорошо; только сделает ли он ригу-то?
– Как бы, кажись, не сделать: по мужикам здесь на всем околотке работает; рига не какая хитрость, не барские хоромы.
Тем разговор мой с Семеном и кончился.
II
Дня через три я сижу в кабинете, который, как водится в помещичьих домах, прилегает к лакейской; слышу: кто-то вошел. Я окрикнул; вместо ответа в сопровождении Семена вошел мужик небольшого роста, с татарским отчасти окладом лица: глаза угловатые, лицо корявое, на бороде несколько волосков, но мужик хоть и из простых, а, должно быть, франтоват: голова расчесанная, намасленная, в сурьмленной поддевке нараспашку, в пестрядинной рубашке, с шелковым поясом, на котором висел медный гребень, в новых сапогах и с поярковой шляпой в руках. Как вошел, так и начал молиться, и молился долго, потом вдруг подошел ко мне, и не успел я опомниться, как он схватил и поцеловал у меня руку. Мне это с первого раза не понравилось.
– Что это за глупости? – сказал я с сердцем, отнимая руку.
Он отступил несколько шагов назад.
– Это, ваше высокоблагородие, так следствует: когда выходит господин, значит, опосля бога и царя первый, ваше высокопривосходительство, – проговорил он с умилительной физиономией.
– Да кто ты такой? Что ты за человек?
– Пузич, ваше привосходительство.
– Что такое Пузич?
– Фамилья такая у меня, значит, ваше привосходительство, и таперича наслышан я, что работа у вас имеется, ваше привосходительство, что ежель таперича вам мастера хорошего надобно, чтоб в настоящем виде мог представить, ваше привосходительство…
– Плотник это-с, что этта говорили, – разрешил, наконец, Семен.
– А! Плотник! Я и не догадался. Красно уж очень говоришь ты, братец, – сказал я.
Похвалу эту Пузич принял за чистую монету.
– Нельзя, ваше высокопривосходительство, нам разговору не знать: ежель таперича дела имеем мы с господами хорошими, значит, компанию им должны сделать завсегда, ваше привосходительство.
– Конечно, – сказал я, – только так ли ты хорошо строишь, как говоришь?
– Работа моя, ваше привосходительство, извольте хоть вашего Семена Яковлича спросить, здесь на знати; я не то, что плут какой-нибудь али мошенник; я одного этого бесчестья совестью не подниму взять на себя, а как перед богом, так и перед вами, должон сказать: колесо мое большое, ваше привосходительство, должон благодарить владычицу нашу, сенновскую божью матерь[4], тем, что могу угодить господам. Таперича хоша бы карандашом рисовка на плане, али, примерно, циркулем, али теперь по ватерпасу прикинуть – все в разуме моем иметь могу, ваше привосходительство.
Семен усмехался и качал головой.
– Как же, братец, ты вот все это в разуме имеешь, а работаешь больше по мужикам? – заметил я.
– Нет, ваше привосходительство, как перед богом, так и перед вами, говорю: за бесчестье себе считаю у мужика работать. Что мужик? Дурак, так сказать, больше ничего! – возразил Пузич.
– Да ведь и ты не княжеского рода. Говори дело-то, а не то что… – вмешался Семен.
– Известно, слово твое настоящее, Семен Яковлич, коли говорить, так говорить надо дело, – отвечал, не сконфузясь, Пузич.
Он начал производить на меня окончательно неприятное впечатление, но вместе с тем я с удовольствием смотрел на несколько ленивую и флегматическую фигуру моего Семена, который слушал все это с тем худо скрытым невниманьем и презреньем, с каким обыкновенно слушает, хороший мужик плутоватую болтовню своего брата.
– Брать ли нам его? – спросил я Семена.
Он посмотрел в потолок.
– Возьмите. Здесь ишь какая сторонка – глушь: хоть бы и из их брата, первой, другой, да, пожалуй, и обчелся.
– Без сумления будьте, ваше привосходительство, сделайте такую милость! – подхватил Пузич.
– Что ж ты возьмешь? Как твоя цена будет? – спросил я.
– Цена моя, ваше привосходительство, – начал Пузич, – будет деревенская, не то, что с запросом каким-нибудь али там прочее другое, а как перед богом, так и перед вами, для первого знакомства, удовольствие, значит, хочу сделать: на ваших харчах, выходит, двести рублев серебром.
При этом Семен мой даже попятился назад.
– Что ты, паря, сблаговал, что ли? – сказал он, устремив глаза на Пузича.
– Меньше одной копейки, Семен Яковлич, взять не могу, – отвечал тот.
Я с своей стороны понял, что имею дело с одним из тех мелких плутишек, которые запрашивают рубль на рубль барыша, и хотел разом с ним разделаться.
– Твоя цена двести рублей, а моя – сто, – сказал я, думая, что снес, сколько возможно, много. По лицу Пузича быстро промелькнул какой-то оттенок удовольствия, а Семена опять подернуло.
– Сто – много, помилуйте! Семидесяти рублев с него за глаза будет, – произнес он с укоризною.
Пузич усмехнулся.
– Не то что об семидесяти, а и об ста рублях, Семен Яковлич, разговаривать нечего. Этой цены малой ребенок не возьмет! – сказал он с такой уж физиономией, как будто скорей готов был умереть, чем работать за сто рублей.
– Полно врать, Пузич! Полно! Что язык понапрасну треплешь! – возразил Семен, начинавший выходить из терпенья.
– Може, вы сами язык понапрасну треплете, Семен Яковлич. Здесь идет разговор с господином, а не с мужиком: значит, понимаем, с кем и пред кем говорим, – возразил Пузич.
– Сто рублей, больше не дам: согласен – хорошо, а нет – так можешь убираться, – сказал я и нарочно стал заниматься своим делом.
Пузич не уходил.
– Позвольте, ваше привосходительство, – начал он, прикладывая руку к сердцу, – так как таперича я оченно желаю, чтоб знакомство промеж нас было; значит, полтораста серебром вы извольте положить, и то в убыток – верьте богу.
– Больше ста не дам, убирайся! – решил я.
– Ваше высокородие, позвольте! – продолжал Пузич, еще крепче прижимая руку к сердцу, – кому таперича свое тело не мило, а лопни, значит, мои глаза, ваше привосходительство, ежели кто хоть копейку против меня уваженья сделает.
– Ломается еще туда же, дура-голова! – проговорил Семен.
– Ломаться мы не ломаемся, Семен Яковлич, уж это вы сделайте такое ваше одолжение, а, значит, дело, выходит, неподходящее.
– Неподходящее? – повторил Семен сердито. – Мало тебе, жиду, ста рублев! Двадцать пять серебром и то лишних передано.
Пузич как будто бы не слыхал этого замечания и обратился ко мне:
– Накиньте, ваше высокопривосходительство, хоть четвертную еще; ей-богу, безобидно будет.
Я молчал.
– Это что говорить, – продолжал Пузич, – сработать можно всяко; только я худого слова, значит, заслужить не хочу, а желаю так, чтоб меня и напередки знали… Може, ваше привосходительство, изволите знать по Буйскому уезду генерала Семенова: господин, осмелюсь так, по своей глупости, сказать, строжающий, в настоящем виде, значит… когда у него эта стройка дома была, пятеро подрядчиков, с позволенья доложить вашему привосходительству, бегом сбежали от него; и таперича, когда он стал требовать меня: «Что ж, думаю, буди воля царя небесного! А я готов завсегда служить господам», ваше привосходительство. И как перед богом, так и перед вами потаить не могу, первые две недели все мои ребра палкой пересчитаны были; раз пять, может статься, кровянил меня; но я, по своему чувствию, ваше привосходительство, не то что брал в обиду, а еще в удовольствие – значит, нас, дураков, уму-разуму учат; когда таперича мужик над тобой куражится и ломается, а от барина всегда снести могу.
«Экая подлая натуришка!» – подумал я и молчал.
– Таперича при разделке, когда дело это было, – продолжал опять Пузич, – генерал сейчас сделал мне отличнейшее угощенье и выкинул пятьдесят рублев серебром лишних. «На, говорит, тебе, Пузич, за то, что нраву моему, значит, угодил». И эти деньги мне, ваше высокопривосходительство, дороже капитала миллионного: значит, могу служить господам.
Я все молчал. Выждав немного, Пузич снова заговорил:
– А насчет вашей работы, я так полагаю, что мое особенное старание быть должно. Таперича, когда моя работа у вас пойдет, вы извольте лечь на ваш диванчик и почивать – больше того ничего сказать не могу.
Я взглянул на Семена: в лице его изображались досада и презрение.
– Не дам больше ста, – сказал я решительно.
Пузич перенял свою шляпу из одной руки в другую.
– Этой цены, ваше высокородие, никому взять несообразно, – проговорил он и потом, постояв довольно долго, присовокупил, вздохнув: – Прощенья, значит, просим, – и стал молиться, и молился опять долго. – Только то выходит, что за пятнадцать верст сапоги понапрасну топтал, – пробурчал он.
– Эка, паря, что ты сапоги потоптал, так и дать тебе тысячу! – возразил Семен.
Пузич, ничего на это не возразив, повторил еще раз:
– Прощенья просим, ваше высокородие, – и пошел; Семен за ним; но я видел, что Пузич не уйдет и воротится, потому что шел он очень медленно по красному двору и все что-то толковал Семену. Через несколько минут они действительно опять воротились.
– Сто берет, – сказал Семен.
– Хоша три рублика серебром, ваше высокородие, набавьте: по крайности я на артель ведро вина куплю, – присовокупил Пузич с подло просительным выражением в лице.
– На артель, братец, я сам куплю ведро вина, а тебе копейки не прибавлю, – возразил я.
Пузич грустно покачал головой.
– Как нынче и на свете стало жить – не знаем, – начал он, – господа, выходит, пошли скупые, работы дешевые… Задаточку уж, ваше высокородие, извольте мне пожаловать, – прибавил он еще более просящим голосом.