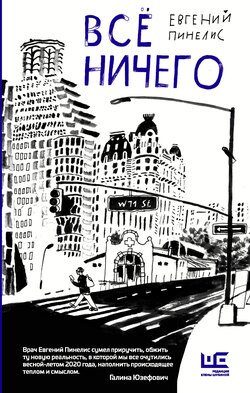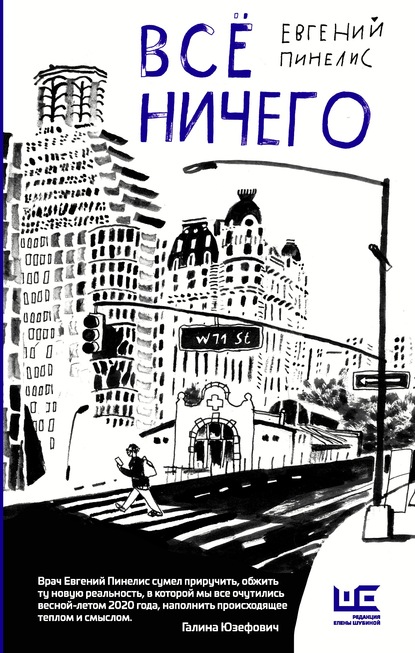Моей семье, друзьям, учителям. Всем тем, с кем я вместе учился и работал. Всем, кто помогал мне с этой книгой. Всем, кто писал подбадривающие комментарии к моим записям. Всем, кто помогал и собирал необходимое для работы. Всем, кто аплодировал каждый день в семь вечера, поддерживая. Всем, кто не пережил этот неизвестно откуда появившийся бессмысленный кошмар.
© Пинелис Е.В.
© Смирнова А.Д., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»
Предисловие
Бо́льшая часть этой книги написана в марте-апреле 2020 года во время эпидемии коронавируса в Нью-Йорке. Какую-то часть материала я написал раньше, но редактировал и соединял по смыслу разрозненные сюжеты одновременно с ведением ковидного дневника.
Я вырос в семье врачей и после некоторых вялых попыток юношеского бунта отправился по проторенному несколькими поколениями моей семьи пути – в медицинский институт. Я окончил институт в Москве, но никогда не работал в России, а настоящим врачом стал в Америке. Профессиональное становление в эмиграции заняло у меня добрый десяток лет. По дороге я встретил множество прекрасных людей. Стать врачом помогают не только уже состоявшиеся специалисты, но и те, кто выше на ступень или равные тебе резиденты (русский эквивалент этого слова, наверное, «ординаторы»). Слово «резидент» (от английского reside – «проживать») ввели в обиход, когда заметили, что находящиеся на обучении врачи фактически живут на работе, получая крайне редкие передышки. Обычный график был тридцать шесть часов каждые три дня. Я застал самый конец эпохи почти круглосуточного резидентского труда и начало времен небольших послаблений. Но и сегодня резиденты работают невероятно много – как в добрые докоронавирусные времена, так и при эпидемии. Не случайно в Нью-Йорке именно резиденты и медсестры стали первыми жертвами COVID-19 среди медперсонала.
В период эпидемии моя жизнь превратилась в наполненные бессильным отчаянием долгие часы в больнице, изматывающие поездки домой в ставших еще более грязными поездах нью-йоркского метро и постоянный страх не только заболеть самому, но и заразить своих домашних. Именно в метро я начал делать короткие заметки о том, что творится в эти страшные дни в нью-йоркских госпиталях. За время эпидемии, как мне сейчас кажется, на моих глазах умерло больше пациентов, чем за всю мою десятилетнюю карьеру врача-интенсивиста. Во всяком случае так я думал в те дни. Больше имен и лиц, чем я был в состоянии запомнить. Я пытался рассказать какие-то истории, частные трагедии и счастливые исходы, очеловечивающие сухую статистику заболевших и умерших.
Сейчас мы переживаем совершенно беспрецедентную ситуацию, каждый день узнаём что-то новое об этом неизвестно откуда взявшемся на нашу голову вирусе. Считавшееся верным еще несколько дней назад ставится под сомнение новыми данными или новым экспертным мнением. Я подозреваю, что к моменту выхода книги то, что казалось разумным в первые дни эпидемии, сильно поменяется. Мне очень хочется узнать, что будет после этого вируса, каким будет новый мир, какой будет медицина, каким будет Нью-Йорк. Вероятно, глядя оттуда, я улыбнусь наивности своего нынешнего восприятия.
Я очень не хотел делать свою книгу мрачной. Пациенты и коллеги для меня никогда не были просто работой, а были живыми людьми, которые порой злили, часто утомляли, но нередко и веселили. «Смешной» – это для меня главный комплимент. Уже давно, говоря жене о ком-то «смешной», я имею в виду, что человек мне необычайно понравился. Мой ребенок долго обижался на этот эпитет, но теперь он сам называет себя «смешным», когда доволен собой. Врачебный юмор достаточно специфический, но я ни в коем случае не смеюсь над смертью и страданиями. К сожалению, именно болея и страдая, люди обычно встречают врачей, и мне кажется, что непроницаемое выражение лица и неоправданный пафос последних тут не обязательны.
В книге довольно много медицинской специфики и терминов. Что-то я объясняю в тексте, для терминов даю определения в сносках. Во время эпидемии я постоянно думал о работе, даже в нечастые выходные. Многие из этих рассуждений касаются именно американской медицины, но читателям из России это всегда казалось интересным.
Самой сложной частью книги для меня оказалось название. В какой-то момент жена вспомнила часто используемое моим любимым братом выражение «Всё ничего». Он регулярно отвечает этой фразой на вопрос «Как дела?». Мы подумали, что она неплохо описывает нас в эти дни: Нью-Йорк был «всем», каждый мог найти в нем что-то для себя – и вдруг за несколько дней наполненный жизнью мегаполис превратился в пустынное и не слишком приятное «ничего». Мы живем в одном из богатейших городов мира, где только бездомных детей больше ста тысяч. Наше настроение в те дни постоянно летало маятником между крайностями. Ежедневно возникали мысли об отъезде без всякого понимания куда, так как на этой планете мест без коронавируса осталось немного и я не уверен, что нас там ждали. Периодически эти мысли сменялись вспышками оптимизма, который питала сильно преувеличенная интерпретация всех мало-мальски неужасных новостей. Для меня фраза «Всё ничего» также достаточно близка по духу любимой английской присказке S.N.A.F.U. – Situation Normal: All Fucked Up[1]. Мы регулярно это говорим в ситуациях условно контролируемого и нередко возникающего в интенсивной терапии хаоса. Сражаясь с коронавирусом, мы потеряли любую, даже эфемерную видимость контроля над реальностью. Мой друг, врач и писатель Иосиф Раскин, объясняя, что творится при массовом поступлении в приемное отделение иерусалимского госпиталя, сказал: «Единственное, над чем мы сохранили контроль, – наши сфинктеры». Во время эпидемии в некоторых лечебных заведениях врачи потеряли даже эту возможность, так как им предписали ходить в подгузниках.
До эпидемии я не писал книг. В этой нет «главных героев» и «развития персонажей». Коронавирусный дневник разбивается флешбэками, повествование нелинейно, какие-то имена и лица появляются вновь и вновь, а какие-то упоминаются один раз и исчезают. Надеюсь, это не испортит ощущения от чтения.
28 апреля 2020
Пролог. 23 марта 2020
– Позвони семье, он скоро остановится! – кричу я высоченному резиденту из Колумбии.
Сам пациент – из Доминиканской Республики. Я почти всегда спокоен на работе, но теперь всё время кричу, так как в респираторе и с акцентом доносить информацию иначе практически невозможно. Резидент, кажется, готов сломаться. Дикие глаза, порванная одноразовая полиэтиленовая накидка для работы с инфицированными пациентами. Кажется, в этих перчатках он был в палате уже несколько раз, хотя из палаты нельзя в них выходить. Он, конечно же, говорит по-испански. Как-то он добродушно сказал мне, что его невероятно раздражают доктора, которые пытаются провести осмотр, тыкая в пациента и повторяя: «Долор»[2]. Я тогда смутился, промямлил, что знаю еще «Респиро профундо»[3], «Комуста»[4] и «Апрето ле мано»[5]. Для оценки тяжести состояния пациента и необходимости перевода в интенсивную терапию мне этого зачастую достаточно. После этого разговора, встречаясь с резидентом в коридоре, мы стукались кулаками и говорили: «Долор» – «Воистину долор». Теперь – никаких кулаков. И за руку я уже давно ни с кем не здоровался. Замечаю, какой телефон он схватил и на каком компьютере искал номер семьи пациента. Делаю мысленную заметку. В эту часть отделения я не пойду без жизненной необходимости. Звонит. Быстрый испанский. Кладет трубку, качает головой. Значит, делать всё, включая массаж сердца, – семья не отпускает несчастного.
На мониторе волнообразная линия насыщения крови кислородом показывает 80, безумные настройки вентилятора. Давление на выдохе 26, на вдохе 44[6]. Нормальные легкие при таком разорвало бы, но сейчас необходимые дыхательные объемы еле доставляются ИВЛ в пораженный болезнью организм. Тяжелая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)[7]. Плохо. Выкручиваю давление на 40 на выдохе, кричу, чтобы кто-нибудь засек 40 секунд. Рекрутирующий маневр, попытка раскрыть легкие и хоть немного поднять уровень насыщения кислородом. Помогает минут на пять. Медсестра и резиденты увеличивают дозы препаратов, пытаясь привести в норму давление, упавшее вместе с насыщением кислородом крови. Кто-то дает дозу адреналина. Частота сердечных сокращений подскакивает до 180, давление повышается, видно, как неравномерно дергается сердце между ребрами. «Мерцание предсердий!» – орет обычно тихая феллоу[8] из Пакистана. Она тоже в респираторе и на взводе. Подсоединяем дефибриллятор, но ритм уже синусовый и частота падает, действие адреналина уже закончилось, препарат насытил рецепторы умирающего организма и перестал давать эффект. Частота сокращений на мониторе 180–140 – 120 – 80–40[9].
«Код!»[10] – кричит медсестра.
Клерк звонит оператору, раздается сигнал кода остановки сердца в блоке интенсивной терапии (БИТ). Я регулирую поток прибывших на помощь.
«Не больше трех человек в комнате, три подхода, три дозы адреналина. Беречь средства индивидуальной защиты!» – кричу я через маску.
Трое парней-резидентов вбегают в палату пациента, выстраиваясь в очередь для непрямого массажа сердца. Выкручиваю на вентиляторе настройки, чтобы хоть как-то подходили для сердечно-легочной реанимации (СЛР). В нормальные докоронавирусные времена вентилировали через мешок Амбу[11] – это естественней, – но теперь считается, что эта процедура увеличивает риск распространения вируса. У вентилятора закрытый контур, так хоть немного безопасней для персонала. Через семь минут появляется пульс. На мониторе агональные широкие комплексы идиовентрикулярного ритма[12] с частотой 40 в минуту, насыщение крови кислородом – 50 %. Резидент звонит семье и говорит, что продолжать бессмысленно, сердце скоро снова остановится. Через несколько минут медсестра распечатывает прямую линию кардиограммы. Я подписываю протокол сердечно-легочной реанимации.
Часть первая
Этот чудесный доковидный мир
Октябрь 2003
В аэропорт меня повезли родители и лучший друг. Там я договорился встретиться с будущей женой. (Тогда я, конечно, не знал, что через шесть лет мы устроим в нью-джерсийской деревеньке свадьбу, которая многим запомнится.) Моя будущая жена просто хотела что-то передать своей нью-йоркской подруге. Я летел в Вашингтон, жить мне предстояло где-то недалеко от Балтимора, но Америка была чем-то абстрактным и на карте все эти города были не очень далеко друг от друга. У меня были два чемодана, папка с бумагами и зачем-то рентгеновский снимок моих легких. В одном из чемоданов придавленный кучей любимых книг валялся диплом об окончании медицинского института.
Не помню, чтобы я сильно хотел в Америку. Мне казалось, что я счастлив в Москве начала 2000-х. Хотя сейчас я мало что могу вспомнить. Чаще в моих воспоминаниях об этом времени почему-то осень. Дождь и серый цвет. В девятом классе мы писали сочинение на тему «Запах серого». Я написал о московской осени. Это была моя первая и последняя пятерка по русскому языку. А вот другое воспоминание: в октябре 2002-го мы набились в общежитие мединститута и с ужасом слушали о штурме «Норд-Оста».

Еще помню, что все мы очень много пили. Во время попойки на какой-то дорогой даче мой лучший друг, желая произвести впечатление на девушку, с разбегу прыгнул в бассейн. Был январь, в бассейне было несколько сантиметров льда. Утром мы увидели следы его локтей и коленей. Девушка его после этого случая почему-то избегала.
Я уже на четвертом курсе знал, что уеду в Америку, и со спокойной душой не думал о дальнейшей карьере. Учиться было несложно; недельный кофейно-никотиновый штурм учебников – и экзамены сдавались. Что делать в Штатах – я не знал. Старший брат уехал давно, работал в лаборатории и сдавал экзамены на врача. Этот вариант я тоже рассматривал, но, бросая осторожные взгляды в присланные братом американские учебники, терял весь энтузиазм. О жизни в Америке я также почти ничего не знал. На вопросы брат обычно отвечал неопределенным: «Да так, всё ничего». Иногда он становился немного разговорчивее и использовал украденное у кого-то: «Трудовой лагерь с усиленным питанием». Первоисточника этого клише я так и не нашел. Один раз оно попалось мне в ужасной книге неподалеку от фразы «брать девицу на абордаж». Надеюсь, братец изъял свою фразу из книги поприличней.
Брата я очень люблю. Если бы не он, то ни в какую Америку я бы в жизни не поехал. Мы познакомились с ним в день моего рождения. Для многих этот день запомнился началом московской Олимпиады. Своим рождением я, как всякий ребенок, несколько нарушил планы родителей. Мама в шутку сетовала, что не удалось посмотреть церемонию открытия. А еще я оказался мальчиком, а маме очень уж хотелось девочку. Видимо, она понимала, что неприятности на этом только начинаются. Тринадцатилетний Димка был в пионерском лагере. Папа отправился за ним на старой дедушкиной «Победе». У меня была желтуха новорожденных и незаросшие ушные свищи, оставшиеся от жаберных дуг зародыша. Вероятно, были и другие изъяны. Посмотрев на меня, Димка, оторванный от друзей, футбола и подъема под «Пионерскую зорьку», спросил:
– Может, мы его отдадим кому-нибудь?
В аэропорту я купил бутылку виски в дорогу. Место мне досталось в самом конце салона у прохода, где постоянно били по локтю проходящие в туалет люди. Я слушал Joy Division, перечитывал «Норвежский лес» Мураками и прихлебывал виски. Настроение стремительно улучшалось. Я летел с пересадкой в Нью-Йорке, где мне надо было пройти паспортный контроль. Пока мы кружили по аэропорту Джона Кеннеди, умерла вечно прекрасная Наоко из книги. Как и батарейки в плеере. Я отдал офицеру в будке толстенную папку с бумагами. Увидев ее, он произнес знакомое слово «фак» и вернул мне конверт с рентгеном, который я тоже попытался ему всучить. Через полчаса он вручил мне паспорт, и я оказался в Америке. Это было как-то даже слишком буднично. Местным рейсом я прилетел в Вашингтон и стал скучать в аэропорту, ожидая брата. Он, тогда уже резидент на втором году обучения, задерживался. У меня был номер телефона и код от карточки для звонков за границу. Я начал обзванивать московских друзей; почти никто не снимал трубку, а с ответившими говорить было не о чем, так как мы только расстались после долгой череды прощальных вечеринок. Они стали расспрашивать меня об Америке, но, кроме аэропортов, я еще ничего в новой стране не видел.
Мы приехали к брату домой, я свалился спать и лишь на следующий день разобрал чемодан. Среди книг, дисков с музыкой и футболок нашлись посылка в Нью-Йорк и мой диплом. На подарочную упаковку была наклеена бумажка с телефоном отправительницы. Я собрался с духом и позвонил. После разговора неожиданно для себя сел за стол и начал читать фармакологию. Первую главу – об ацетилхолиновых рецепторах и миорелаксантах[13], которые на них воздействуют по принципу яда кураре.
Июль 2004 – июль 2006
Я сдал первый экзамен! Брат позвонил мне на работу. Преемственность поколений проявила себя, и я трудился в той же лаборатории, где когда-то работал он. Тогда, после переезда, открыв фармакологию в свой первый день в Америке, я не закрывал учебники месяцев шесть, чему весьма способствовало отсутствие в то время работы, денег и настроения. Я учился по семь-восемь часов в день и ждал разрешения на трудоустройство. Тогда я узнал, что в Америке всё происходит очень медленно. Шесть недель надо было ждать номера социального страхования, с которым уже можно было подать документы на разрешение поработать. О сроках последнего кокетливо написали «от восьми недель».
Когда сидеть дома становилось уже невозможно, я с опаской, не очень хорошо зная язык, вылезал в книжный магазин. Со столиками и хорошим кофе, он был для меня в новинку. (Теперь все книжные закрыты и неизвестно сколько их останется после карантина.) По-английски я мог читать, но вот разговаривать совсем не умел. Читая в книжном за чашкой кофе иммунологию, я понял, что без конспекта не смогу осилить все пути презентации антигена Т-клеткам. Ручка у меня имелась, а бумагу надо было добыть. За соседним столиком сидели симпатичные студентки. У них были учебники, хорошее настроение и множество блокнотов и тетрадей. Я стал репетировать про себя вступительную фразу. «Would you mind lending me a piece of paper?»[14] Нет, «пис» как-то похабно звучит. Кстати вспомнилось слово «sheet»[15]. «Could I please borrow a sheet of paper?»[16] – приготовил я. Приблизившись к столику девушек, я улыбнулся, надеясь, что они заметили стопку моих толстых медицинских учебников, и выпалил: «I would like to borrow piece of sheet… no, paper!»[17] Они засмеялись, и всё закончилось благополучно. Я смущенно уселся чертить свои иммунограммы на добытом «шите». Вступительная фраза, к моему разочарованию, стала завершающей.
В Америке всё было медленно, но стабильно. Мне дали социальное страхование, а затем и разрешение на работу. Не прошло и восьми месяцев после моего переезда, как я оказался помощником старшего научного сотрудника в иммунологической лаборатории департамента инфекционных болезней. Была в этом какая-то ирония. Или логика. Институт был не простой, а военный. Используя значительный капитал Билла Гейтса и американской армии, мы пытались разработать противомалярийную вакцину. Паразит, убивающий в год миллионы людей, страшно раздражал Гейтса, который искренне надеялся помочь регионам, где свирепствовала зараза. Американская армия, как я цинично подозревал, была вообще-то не против обезопасить от этого недуга солдат. Ну просто так, дабы поспокойнее проводить миротворческие миссии в тех же регионах. С малярией пока ничего путного не вышло, а Билл Гейтс теперь жертвует средства на вакцину от коронавируса, порождая безумные теории заговора.
Канадский профессор-иммунолог по имени Роберт, которому меня назначили в помощники, был симпатичнейшим невротиком с болезнью Крона[18]. О напасти своей он знал намного больше меня, но был преисполнен уважения к моему уже отглаженному, переведенному и нотариально заверенному медицинскому диплому. Иногда он спрашивал у меня рекомендации, которые я ему с неизвестно откуда взявшимся апломбом давал. Часто, сидя с пипеткой и капая микрограммы антигена в нанограммы антитела или наоборот, я слушал о течении этой загадочной болезни, анализах Роберта и бесчувственности американских врачей. За мою чуткость он научил меня множеству интересных и никогда больше не понадобившихся лабораторных методик. Например, я до сих пор помню, как отделить слюнные железы от малярийного комара и добыть оттуда несколько тысяч малярийных плазмодиев.
В институте было много для меня необычного: пропускной пункт с автоматчиками, дешевые сигареты в небольшом магазинчике на территории, множество людей в форме, уткнувшихся в пробирки, лаборатории, разводящие комаров. Каждую въезжающую машину досматривали. В моей всегда был сущий бардак. Ее кое-как проверяли брезгливо кривящие рты, аккуратные, с иголочки одетые вояки. Зато выходить из здания института и выезжать с его территории можно было совершенно свободно.
Как-то в поисках нужной пробирки мы с Робертом залезли глубоко в недра огромного холодильника с температурой минус 70 градусов. Я достал коробку с пробирками, которая, если судить по количеству наросшего льда, была там очень давно, и поинтересовался, что это. Мой профессор посмотрел, немного побледнел и, пробормотав, что это очень опасная вещь, засунул коробочку еще глубже, чем раньше. Я успел разглядеть выцветшую надпись на пробирках: «Стафилококковый супертоксин» и сразу вспомнил майора Куприянова, который читал у нас военную токсикологию. На военной кафедре у каждого преподавателя была своя фраза, которую студенты передавали из поколения в поколение. «Нетленкой» Куприянова было: «А сейчас я вам покажу рисунки людей после приема ЛСД. Нет, рисую их не я. Но я их коллекционирую». Бо́льшую часть своих лекций он в красочных подробностях рассказывал, что случится, если в систему водоснабжения или вентиляции большого города противника добавить какую-нибудь страшную гадость. Бактериальные токсины в его списках, насколько я помнил, тоже были.
Хотя мне почти не платили, работать в институте было сплошным удовольствием. Устроила меня туда подруга брата, а потом и моя, Таня Савранская, вовремя угостив сигаретой заведующую лабораторией. Разобравшись с требованиями Роберта, я быстро наполнил свои рабочие дни приятной рутиной: каждое утро поднимался в лабораторию, закидывал что-нибудь в автоклав или, наоборот, в морозилку, и, обозначив таким образом начало рабочего дня, бежал пить кофе. Привычно фыркнув, проходя кабинет майора Гея и следующий сразу за ним кабинет полковника Стрейта (мы шутили, что тут несомненная дискриминация), я удалялся минут на пятьдесят в наш кофейно-сигаретный клуб. Начали мы его всё с той же Таней, потом к нам присоединились старший научный сотрудник Боря, подполковник Рауль и младший научный сотрудник из Индии по имени Сачин, помимо прочего примечательный тем, что для защиты своей кандидатской диссертации по молекулярной биологии использовал сперму индюков, еженедельно добывая ее у подопытных все два года экспериментальной части своей работы. В тот погожий день мы взяли чашки кофе с собой и нелегально наслаждались сигаретой на увитой зеленью веранде. Место для легального курения – маленькую беседку, где было нечем дышать, – мы избегали. Во время такого перекура мне и позвонил брат:
– Ты сдал!
– Как?
– Неплохо. 96 перцентилей[19].
Хорошо ли это, я не знал – никто у нас перцентилями не измерял результаты экзаменов, – но 96 звучало довольно солидно. Следующий экзамен был много проще, сдался без боя на 98, и пришел черед экзамена по клиническому искусству. Очень странное мероприятие, где нужно было провести осмотр актера-пациента, изобрести набор диагнозов и план лечения. И так восемь раз по двадцать пять минут. Готовился я к нему с другом, который изображал пациентов и, будучи прекрасным врачом, с удовольствием развлекался. Например, превращаясь в паркинсоника, он отвечал на вопросы невероятно медленно и не давал возможности закончить в положенные пятнадцать минут (десять оставляли на записи), а на попытки поторопить изображал типичное для паркинсоника раздражение и медленно и без мимики бранился.
Мне, конечно, грех ругать американскую систему медицинской сертификации. Отдел мозга, ответственный за тесты с возможностью выбора ответа, у меня явно развит неплохо, но порой даже ему не удается следовать за извилистым ходом мысли создателей вопросов. Обычно я схватываю идею вопроса, нахожу фразу, позволяющую мне раскрутить заданную ситуацию до диагноза. Как только я понимал диагноз, к нему с радостью вспоминались патофизиология, лечение, интересные факты о нужной болезни. Но иногда хотелось отчаянно закричать и выкинуть монитор в окно. Вот, например, был такой вопрос.
Женщине с плохой наследственностью по поводу тромбоэмболической болезни надо выбрать контрацептив. Потом следует длинный рассказ о неприятностях многочисленных ее родственников с тромбами в разных частях тела и заканчивается сообщением о том, что сама пациентка здорова, хотя и полновата. Последняя фраза задачи: пациентка наотрез отказывается от медной внутриматочной спирали в качестве контрацепции. Дальше варианты ответов. Мучительно соображаю и наконец выбираю комбинацию таблеток с самым низким содержанием эстрогена, так как нас с воображаемой пациенткой больше всего волнуют потенциальные тромбоэмболические осложнения. Компьютер зажигается тревожным красным светом. Правильный ответ: не медная внутриматочная спираль. Создатели этого произведения вопросительного искусства посчитали, что на основании данного мне описания я должен был сообразить, что пациентка имеет давний устоявшийся антагонизм к меди, а вот спирали ее совсем не смущают. Видимо, моего английского для таких тонкостей недостаточно.
Сданные экзамены означают поиск резидентуры. Пора подавать заявки, писать личное заявление, находить рекомендации настоящих американских врачей. Личное заявление – страшный документ, где я должен был объяснить, почему я хочу быть врачом, каковы мои планы на будущее и почему я хочу стать резидентом именно в этом госпитале. Этот документ невозможно написать хорошо. В лучшем случае он не повредит карьере. Однажды мой приятель-онколог рассказывал, как читал личное заявление одного неплохого по многим параметрам кандидата. Документ начинался словами: «Почему, о почему в мире так много раковых опухолей?» На собеседование кандидата не позвали. В моем личном заявлении были в основном банальности: семья врачей, призвание, тернистый путь от лаборанта на самый верх.
Меня пригласили на несколько собеседований. На первом же предложили контракт. Я этого предложения не принял, сказав, что готовлюсь испытать свои шансы в мэтче. «О'кей, – сказал заведующий резидентурой, – мы тебя внесем в мэтч-лист». Мэтч – еще одно изобретение американской системы медицинского образования. Резидентские программы расставляют по порядку понравившихся им кандидатов, а кандидаты – их. Мудрый компьютерный алгоритм сопоставляет списки и находит совпадения, практически заключая брак на небесах между резидентом и программой. За изобретение мэтча Элвин Рот получил Нобелевскую премию по экономике (и множество нехороших слов в свой адрес от будущих резидентов). После данного мне обещания я решил, что резидентура у меня в кармане, и спокойно ходил на другие собеседования, задрав нос. Я отверг еще один контракт в больнице поменьше. Из Филадельфийского университета мне прислали хвалебное, переполненное восторженными эпитетами в мой адрес письмо, которое моя мама могла бы смело поместить у нас дома в Москве на мой «алтарь». Есть в моей бывшей комнате странная тумбочка, куда мама поставила множество моих фотографий с неестественными улыбками. Во время частых родительских отъездов задержавшиеся на ночь или пару недель друзья раздраженно говорили, что видеть этот кошмар с похмелья очень неприятно.
В день мэтча я спокойно развлекался со своими пробирками. Я сообщил Роберту, что в 11:55 мне надо быть у компьютераа, чтобы ровно в полдень узнать, где проведу следующие три года. На первое место я поставил больницу в Лонг-Айленде, на второе – Филадельфию с хвалебным письмом. Потом шли вашингтонские и балтиморские медицинские учреждения. В полдень я обновил страницу и узнал, что никуда не попал. Я?! С моими баллами?! С двумя контрактами в кармане и письмом, наполненным дифирамбами, не попал никуда?! Это был шок. Как всегда, когда что-то не складывалось, я позвонил брату. «Всё ничего», – сказал он. Оказалось, что на мэтче ничего не заканчивается. Начинается послемэтчевая чехарда[20]: программы с пустыми позициями ловят резидентов, которые никуда не попали, – и наоборот. Проглотив без труда гордость, я написал в маленькую балтиморскую больницу, где до этого гордо отказался от контракта. «Как хорошо, что вы написали, – пришел вежливый и спокойный ответ через час, – у нас как раз не нашлось кандидата на одно место. Давайте встретимся послезавтра».