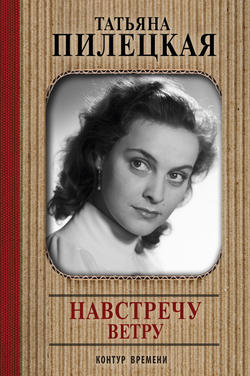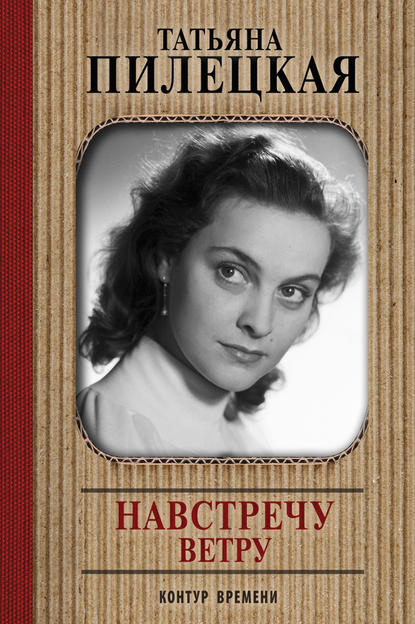Посвящается моим родным, друзьям и коллегам
Идем навстречу ветру не робея.
(«Хрустальный дождь»)
Вступительное слово
По профессии я мим и на сцене молчу, а жена – драматическая актриса. Вот уже более сорока лет я каждый день убеждаюсь, что эти два искусства, драматическое и пантомимы, прекрасно понимают и дополняют друг друга. Я вспоминаю, как всё начиналось. В те далекие годы гастроли длились не день и не три, а месяц, а то и два. Петербургский театр Ленинского комсомола[1], где Таня работала и работает сегодня, так и выезжал. Выезжал и я. Но где бы на гастролях я ни был, летел к Татьяне. Отпуска редко совпадали. У меня отпуск, а она на гастролях. Ну, город Горький – это близко, а Дальний Восток или Комсомольск-на-Амуре – это чуть подальше. Все новые работы Тани, на сцене и в кино, мы всегда горячо обсуждали и делаем это по сей день. Спорим, но находим почти всегда общие точки зрения. В моем жанре век актера, как и век артиста балета, короток: 20–30 лет. Я сейчас на сцену не выхожу, но передаю свой опыт и знание своего жанра молодым актерам, которые ступили на этот непростой путь.
Таня же продолжает работать в театре. Занята во многих спектаклях. А в свободное время успевает записывать свои мысли и интересные события жизни.
Так родились три книжки: «Серебряные нити», «Хрустальные дожди» и «Судьбы у всех разные». А начала она писать вот как. Был у Тани период творческого простоя и в театре и в кино. Наверное, это бывает у каждого актера. И, как говорится, нет худа без добра. Таня пропадала в архивах, в музеях, нашла множество материалов о своих предках, среди которых были художники, чьи картины есть и в Русском музее, и в Третьяковской галерее; архитекторы, чьи здания еще до сих пор украшают улицы нашего города. Надо было составить генеалогическое древо и все это записать. И что удивительно, Таня всегда к стихам относилась прохладно, а тут вдруг мысли у нее стали складываться в рифму и появились стихи, которых накопилось около ста.
Но жизнь актера так неровна
И так зависима порой,
То за труды тебе корона,
То вдруг забвенье и простой.
Но простой закончился, появились новые роли в кино и театре, а любовь к литературе и к стихам не прошла. Чему я бесконечно рад. Вот теперь и ее следующая книга.
Борис Агешин,
заслуженный артист России
Март 2016
Детство. Моя семья
Я жизнь воспринимаю как дар божий,
Я воздух пью как солнечный нектар,
День на день, право, не похожий,
Все будет так, как Бог предначертал.
Судьба послала мне цветок, ромашку,
Где в каждом лепестке столько добра,
Боюсь я в жизни совершить промашку,
Чтоб мне могли сказать: ты не права…
И, обрывая лепестки ромашки,
Хочу узнать, что будет, а что нет,
Артист всегда живет чуть в мире сказки,
Совсем неважно, сколько ему лет.
Мой крестный
В жизни каждого человека есть места, которые вызывают удивительные воспоминания, даже против его желания, невольно. Таким местом для меня является дом № 14 в Петербурге по Каменноостровскому проспекту, на котором совсем недавно появилась мемориальная доска в память о К. С. Петрове-Водкине. Сколько сладких, щемящих воспоминаний вызывает этот адрес! Каждый раз, когда я проезжаю или прохожу мимо, всегда поднимаю голову и вижу окна той квартиры, в которой столько раз бывала. Что же связывало нашу семью, и в особенности отца, с К. С. Петровым-Водкиным, почему Кузьме Сергеевичу было интересно с ним и почему их дружба длилась много лет, до самой смерти художника?
Ответом на эти вопросы служат воспоминания моего отца, Л. Л. Урлауба, которые я когда-то попросила его написать. Поэтому далее я привожу их.
«Летом 1925 года я с семьей жил на даче в Шувалове (поселок под Ленинградом). Дача эта находилась на Варшавской улице, дом № 13, а в конце этой улицы, на берегу третьего озера, находилось место моей работы: техно-химическая лаборатория И. О. Колецкого, которого я знал еще с первого класса гимназии и был знаком со всей его семьей. Я часто бывал у них, они жили круглый год возле второго озера между Озерками и Шуваловом. Как-то раз, зайдя к ним, в разговоре с женой Колецкого я узнал, что она в поезде познакомилась с одним художником и, разговорившись с ним, узнала, что его фамилия Петров-Водкин, что живет он круглый год в Шувалове, на Ново-Орловской улице, женат и имеет маленькую дочку. Далее она рассказала, что пригласила их прийти к ним завтра, и просила меня с женой тоже зайти к ним. Фамилия Петров-Водкин мне показалась знакомой, и я вспомнил, что на выставке в 1918 году видел картины этого художника, в том числе знаменитую „Cеледку“, которую специально отметили в каталоге выставки. Когда на следующий день мы пришли к Колецким, у них еще никого не было. Через некоторое время раздался звонок и вошли довольно полная женщина и мужчина среднего роста, с бритой головой и небольшими усами. Особенно запомнились его серые пронзительные глаза. Это и были Кузьма Сергеевич и Мария Федоровна Петровы-Водкины. Так состоялась первая встреча с этим интересным, высококультурным человеком, положившая начало нашей взаимной привязанности, длившейся почти пятнадцать лет.
После первой встречи и знакомства мы с женой стали частыми посетителями уютной квартиры художника. Жил он в одноэтажном доме (дом не сохранился), в одной половине жил владелец, а другую занимали К. С. с женой и дочерью. Квартира эта, половина дома, была совершенно изолирована и имела отдельный вход. Состояла она из четырех комнат и утепленной стеклянной веранды с маленькой финской печкой. Веранда эта служила художнику мастерской. Перед домом был расположен небольшой садик. До шуваловского вокзала было не более пяти минут ходу. Первое впечатление, когда мы пришли в эту квартиру, – запах краски, скипидара и лака. На стенах висело несколько картин, во всех комнатах чистота и порядок. В большой комнате, служившей столовой, стояло пианино, на передней доске которого рукой художника был написан сверток нот и миниатюрный портрет его дочери в виде овального медальона. Как-то, придя к К.С., мы застали его за работой над картиной „Рабочие“. Уже темнело, но художник не прекращал работы, и только наш приход прервал ее. Мы продолжали часто встречаться, и все теснее становилось наше знакомство. Кузьма Сергеевич был очень интересным, разносторонним человеком. Он прекрасно понимал и очень любил музыку, был писателем, выпустившим немало книг и пьес. Даже позже, переключившись целиком на деятельность художника, не оставлял литературы, написав две книги – „Хлыновск“ и „Пространство Эвклида“. Он часто посещал место моей работы и интересовался ею. В январе 1927 года мы были приглашены на елку, где весело и непринужденно провели вечер. У Марии Федоровны было сильное меццо-сопрано, и я с ней пел дуэты. Хочу добавить, что у К. С. была собака – китайская лайка, по виду напоминавшая лисицу. Она была уже довольно стара и толста, ходила, шаркая по полу когтями, и, когда сидели за столом, подходила к каждому и клала морду на колени. Собака эта, по прозвищу Ласка, изображена на картине „Утренний натюрморт“, где она выглядывает из-под стола. В 1926 году художник начал картину „За самоваром“, Кузьма Сергеевич писал ее при мне. В июле или в августе 1927 года мы получили приглашение пожить в квартире К.С., так как они уезжали в Коктебель. Работа моя, как сказано выше, находилась в Шувалове, и мы согласились пожить на Ново-Орловской, где и прожили по ноябрь, до приезда семьи художника из Крыма. Он был полон впечатлений от крымского землетрясения и много о нем рассказывал. В результате этого появилась картина „Землетрясение в Крыму“.
В конце 1927 года или в начале 1928-го семья Петровых-Водкиных переезжает из Шувалова в город Пушкин, в здание Лицея. В Пушкине мне пришлось присутствовать при зарождении картины „Смерть комиссара“, лицо комиссара К. С. писал с поэта [Сергея Дмитриевича] Спасского, которого я часто встречал у него. Как сейчас вижу большой белый холст, на котором углем были набросаны основные контуры фигур. Композиция резко отличалась от первого варианта, меньшего размера, написанного в 1927 году, который я видел в Шувалове.
Квартира, которую занимала в Пушкине семья художника, состояла из двух больших комнат во втором этаже Лицея. Вход был со стороны лицейского сада. Окна выходили на северную сторону. Вообще входа в квартиру было два, но второй вход был закрыт, и в этой комнате художник работал, она служила ему и мастерской и спальней. Там же была написана картина „Интерьер в Детском Селе“, где у туалета стоит мой сын, а девочка, играющая сидя на скамеечке, – дочь художника Елена. Картина эта находится в Русском музее.
В Пушкине, как и в Шувалове, мы часто бывали. Там встречались со многими интересными людьми. Частым гостем у Кузьмы Сергеевича был композитор Попов, встречал я там Андрея Белого, Вячеслава Шишкова, Иванова-Разумника. Очень часто бывал ученик К.С., художник Голубятников, с дочерью и сыном. На вечерах у Петровых-Водкиных музицировали, читали, и сам К. С. как-то читал свою большую юмористическую поэму. В этой квартире, в Лицее, семья прожила до 1936 года, когда они получили квартиру в Ленинграде, на Кировском проспекте, в доме работников искусств. В 1930 году Кузьма Сергеевич сильно заболел. Это была первая волна туберкулеза. Однажды, придя к нему, мы застали его в кровати. М.Ф. буквально не отходила от него, заставляла усиленно питаться, причем еда была очень жирная – как говорил К.С., „заливала его жиром“. В это время К. С. закончил свою книгу „Хлыновск“ и делал к ней, несмотря на болезнь, иллюстрации, а также оформлял свою вторую книгу „Пространство Эвклида“. Я помню, как он возмущался, что потерялась одна из его иллюстраций, автопортрет в юные годы, и вот, лежа в постели, он восстанавливал тот рисунок.
Возвращаясь назад, хочу вспомнить еще несколько эпизодов из того, что осталось в моей памяти. Кузьма Сергеевич очень любил гулять с моим маленьким сыном и после прогулки не раз говорил: „Нет, с этим мальчиком невозможно гулять, встречные женщины останавливаются и ахают, и ахают – ах, какой мальчик, это ангел какой-то“. Дело в том, что мой сын в детские годы был очень красив, с прекрасным цветом лица и длинными белокурыми волосами, рассыпавшимися по плечам, что и вызывало восторг встречных. Мы часто совершали прогулки с К.С., его жена Мария Федоровна много ходить не могла, так как у нее был тромбофлебит, что очень мучило ее и не поддавалось никакому лечению.
В 1929 году художник при мне писал свой автопортрет. В июле 1928 года у меня родилась дочь, и посещения города Пушкина сократились, но вместо этого К. С. стал частым гостем у нас на Таврической улице. Он говорил, что у нас он чувствует себя как дома. Через некоторое время после рождения дочери мы решили крестить ее на дому и пригласили Кузьму Сергеевича быть крестным отцом, на что он охотно согласился. Церемония крещения происходила у нас на квартире, и таким образом К. С. как бы вошел в нашу семью. Через шесть недель после крещения моя жена с семилетним сыном и полуторамесячной дочерью выехала к родителям в Каунас, в тогда еще Литовскую буржуазную республику, и пробыла там два месяца. Я, оставшись один, довольно часто стал бывать в Пушкине. Кузьма Сергеевич чувствовал себя хорошо и очень много работал. Никто не мог полагать, что злой туберкулез только притаился и нанесет в любой момент неотвратимый удар. За это время появилась чудесная „Черемуха в стакане“, портрет Андрея Белого и другие. Кузьма Сергеевич не любил, когда во время работы кто-либо мешал ему, единственным исключением был я, меня он приглашал присутствовать при его работе, во всех стадиях.
В 1934 году К. С. задумал картину „Тревога“. Так как ему нужен был натурщик, который по замыслу стоял бы у окна, то он попросил меня постоять в соответствующей позе в открытой двери платяного шкафа, надел на меня свой жилет и тапочки. Таких сеансов было несколько, пока художник набрасывал композицию картины. Когда картина была закончена, то я увидел на ней себя, вернее свою спину, во всей красе. В этом же году были написаны картины: „Девочка за партой“ и портрет Ленина, которого художник изобразил за чтением „Песен западных славян“ Пушкина. В 1935 году Кузьма Сергеевич начал картину „Весна“, которую мне удалось видеть в разных стадиях готовности. В 1936 году К. С. уезжал в поездку по Каме. В результате этой поездки появилась картина „Дочь рыбака“ и целый альбом рисунков. Как я упоминал выше, в 1936 году семья Водкиных получила квартиру в Ленинграде на Кировском проспекте. Квартира была на пятом этаже и состояла из трех комнат, а на шестом этаже была большая комната, которая служила художнику мастерской. Она была обставлена очень скромно. Посередине стоял большой мольберт, в стороне небольшой столик для кистей и палитры, у стены мягкий диван, на который иногда, утомившись от работы, ложился отдохнуть художник. Дверь была завешена ковром, по стенам висело несколько картин, а из мебели – только два плетеных кресла.
В 1937 году, весной, М.Ф. уговорила нас ехать на лето в Сиверскую и даже съездила туда и сняла для нас целую избу в три комнаты в так называемом Финском краю. Когда потеплело, мы с К. С. и моим сыном, которому было уже семнадцать лет, поехали на Сиверскую, чтобы посмотреть, в каких условиях мы будем жить. Как раз туда впервые был пущен автобус, и мы, как сказал К. С., явились пионерами в освоении этого транспорта. Помещение оказалось очень хорошим, а через улицу К. С. снял двухэтажную дачу со стеклянной верандой. А несколько в стороне поселился художник Голубятников с семьей. Таким образом образовалась целая колония близких знакомых, и предстояло интересное лето. Мы часто совершали целой компанией прогулки в лес, купались в реке Оредеж, играли в крокет, который привез К. С. Играли, как сейчас помню, в дождливые дни в каком-то огромном сарае, где был плотно утрамбованный земляной пол, а также в саду, возле дачи К. С. В Сиверской были написаны картины „Букет цветов“, который К. С. написал при мне в течение двух дней, и портрет моей дочери Татьяны, назывался он „Девочка с куклой, или Портрет Татули“. Кузьма Сергеевич не любил фотографироваться, но мне все же удалось сделать один снимок, у нас в саду за чайным столом. Я часто приходил к К. С., чтобы брить ему голову, поблизости парикмахерской не было, а длинных волос он не носил.
Не могу не вспомнить один случай. У меня была собака по кличке Джой, овчарка, которая ревниво оберегала наш сад от посторонних. Семью Водкиных она считала своей, и они беспрепятственно могли открывать калитку и спокойно входить. Голубятников же бывал у нас реже, и Джой к нему не успел привыкнуть. И вот как-то раз сидим мы у нас на веранде с Марией Федоровной и Кузьмой Сергеевичем, пьем кофе и вдруг слышим дикий лай. К нашему ужасу, видим, что в калитку вошел Голубятников. Не успел он сделать двух шагов, как на него набросилась наша собака, и этот полный, солидный мужчина в белом нарядном пиджаке рухнул навзничь в куст малины. Я выбежал в сад, успокоил собаку, а бедного Голубятникова, наверное, с полчаса трясло от испуга. Прошло лето 1937 года, с наступлением осени мы все перебрались в Ленинград, где наша дружба с семьей художника продолжалась по-прежнему. Помню еще одну елку, уже на Кировском проспекте, было очень весело. Елка стояла в комнате К. С., и под ней были разложены подарки. Подарки раздавал сам Кузьма Сергеевич, каждому индивидуально.
В 1937–1938 годах К. С. очень много работал. Как-то он пригласил меня в мастерскую. Войдя туда, я увидел на мольберте огромный холст, еле помещавшийся поперек мастерской. На этом холсте уже начала намечаться композиция будущей картины „Новоселье“. Все это соответствовало эскизу, размером около метра, который висел в спальне К. С. Первоначально эта огромная картина (200 × 297 см) имела несколько иное цветовое решение. В законченном виде цвет обоев темно-красный, а первоначально он был ультрамариновый, этот цвет художник очень любил и часто им пользовался („Играющие мальчики“, „После боя“, письменный прибор из лазурита в портрете Ленина). Работая над „Новосельем“, К. С. часто приглашал меня в мастерскую, говоря, что у меня верный глаз, и интересовался моим мнением, даже спрашивал моих советов. Он задумал картину „Пушкин в Болдине“ и захотел, чтобы я позировал. Я часто приезжал к нему и сидел в позе Пушкина, но в конце концов К. С. остался недоволен уже почти законченной картиной и уничтожил ее, использовав холст для других произведений. В это же время был сделан эскиз „Кировский проспект“, который он писал со своего балкона, с пятого этажа. В 1936 году была организована выставка произведений Петрова-Водкина, я присутствовал на вернисаже. На этой выставке были вещи, которые потом нигде не встречались, как, например, „Элегия“, созданная художником еще в молодые годы. В 1937 году К. С. написал целую серию очень интересных небольших картин для детского журнала (игрушки, фрукты) и начал картину „Семья командира“, а также „Пушкин в Петербурге“ – этот образ не давал ему покоя. Картины были закончены в 1938 году. В ту пору у К. С. часто бывали композитор Шапорин с женой, художник Чупятов и кинорежиссер Ивановский.
В этом же 1938 году произошел очень интересный и, я сказал бы, странный случай. Кузьмы Сергеевича не было дома, в квартире раздался звонок, и Мария Федоровна открыла дверь. В дверях стоял молодой человек, представившийся Васильевым, учеником К. С., он подал небольшой длинный предмет, завернутый в газету, с просьбой передать его Кузьме Сергеевичу. М. Ф. сверток не развернула, а когда К. С. вернулся домой и снял газету, то в нем оказалось изображение святого Козьмы на дереве, видимо, выпиленное из какой-то иконы. К. С. сказал, что такого ученика у него никогда не было и этого человека он не знает. Изображение он повесил на стену у себя в спальне и мне неоднократно говорил, что это его „Черный человек“.
В начале 1938 года еще ничто не предвещало угрожающего обострения туберкулеза, и только во второй половине года, после перенесенного гриппа, художник почувствовал слабость, все чаще ложился в кровать, но преодолевал это и всегда выходил к гостям. К концу года здоровье Кузьмы Сергеевича резко ухудшилось. Туберкулез делал свое страшное дело. К. С. как-то показывал мне рентгеновские снимки, на которых его легкие все были пробиты мелкими очагами. В последний раз при жизни художника мы были у Водкиных в день его рождения, ему исполнилось 60 лет. Несмотря на плохое самочувствие, он все же вышел к столу и даже выпил маленькую рюмку водки, настоянной на лимонных корочках. 10 ноября К. С. положили в больницу им. Свердлова, и домой он больше не вернулся. Последней его работой был портрет профессора Канторовича, который художник закончил за день до больницы. На последней выставке 1966 года этого портрета не было, был только эскиз к нему.
Стало пусто в уютной квартире на Кировском проспекте, словно душа покинула дом. Мы часто навещали М. Ф. и всегда были в курсе состояния больного. А состояние было очень серьезным. Ничего не помогало, несмотря на наилучшие условия и уход. Не желая беспокоить тяжелобольного, я долго не ходил в больницу и только 2 февраля 1939 года пошел навестить К. С. Он лежал в отдельной палате и встретил меня лежа в постели. Он мало изменился, но казался каким-то отсутствующим и равнодушным. Я немного посидел у него, рассказал о недавно вышедшей картине „Александр Невский“, он постепенно оживился и попросил поподробнее рассказать о ней и все не отпускал меня. Еще некоторое время я провел у постели больного, угасавшего художника. Он все жаловался, что кормят плохо, все какое-то горькое, невкусное, я понял, что это не каприз, а действие неотвратимой болезни. С тяжелым чувством покинул я больницу, но все же не думал, что конец так близок.
16 февраля 1939 года, идя на работу, в газете, расклеенной на улице, я увидел его портрет. В некрологе сообщалось, что заслуженный деятель искусств художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 15 февраля скончался. Умирал он, по словам М. Ф., присутствовавшей при его последних минутах, очень тяжело, сильно задыхался. Как выяснилось, у него был общий туберкулез, поразивший все внутренние органы и совершенно не поддававшийся никаким медицинским мерам. Через три дня состоялись похороны. Гроб с телом покойного был установлен в конференц-зале Академии художеств на высоком постаменте, задрапированном красной материей. Над изголовьем на двух красных полотнищах были написаны даты рождения и смерти: 1878–1939, а между ними помещен автопортрет художника, где К. С. изобразил себя еще с бородкой, которую в последнее время не носил. У гроба все время менялся почетный караул из художников. Речи произносили скульптор Манизер, художник Дубов и многие другие. Я сверху видел, как гроб подняли на руки и понесли вниз по лестнице, в этот момент казалось, будто хозяин навсегда покидает свое жилище. Гроб установили на колесницу, запряженную шестью лошадьми, и Кузьма Сергеевич тронулся в свой последний путь по родному городу. Первая остановка была на улице Герцена у Ленинградского отделения Союза художников, которым с 1932 года руководил покойный, вторая – у Академического театра имени Пушкина, где К. С. оформлял спектакль „Безумный день, или Женитьба Фигаро“. Мне довелось быть на этом спектакле по его приглашению. Декорации поражали необычным сочетанием цветов и были настолько хороши, что бурей аплодисментов художник был неоднократно вызываем на сцену вместе с актерами, участниками спектакля. Возвращаясь к похоронам, хочу сказать, что погода в этот день была ужасная. Шел мокрый снег, и дорога до Волкова кладбища казалась бесконечной. Когда процессия прибыла на кладбище, стало темнеть, и гроб опускали в могилу при фонарях. Для последнего прощания открыли крышку гроба, и на такое знакомое и близкое лицо падали снежинки и, не тая, оставались на нем. Последние минуты прощания, крышка закрыта, и только гулкие удары комьев земли были последним приветом навсегда ушедшему от нас талантливому человеку.
Чтобы не оставлять Марию Федоровну одну, мы с женой почти ежедневно ее навещали. Как-то придя к ней, мы увидели на столике у окна стеклянный прямоугольный ящичек и в нем – голову, да, да, голову Кузьмы Сергеевича. Оказывается, это была посмертная маска, но несколько необычного вида – целая голова телесного цвета и даже со следами волос покойного. Впечатление было потрясающее. В дальнейшем М. Ф. сделала на этот стеклянный ящичек зеленые шелковые занавески, которые скрывали его внутренность. М. Ф. решила привести в порядок все художественное наследие К.С., составив подробную опись, и попросила ей помочь. И вот мы с ней начали эту большую работу. Приходилось обмерять каждую картину, описывать материал и устанавливать дату написания. Я по два-три раза в неделю после работы приезжал на Кировский проспект, и дело понемногу начало подвигаться. Кроме того, М. Ф. решила сделать перевод на русский язык всей переписки с К.С., которую он вел на французском языке, так как М. Ф. плохо владела русским языком. Воспитывалась она в Париже, где и познакомилась с К. С. По происхождению она была югославкой, но, если так можно выразиться, офранцузилась, говорила на русском очень плохо, а писала только на французском языке. Для того чтобы сделать эти переводы, была приглашена переводчица, в совершенстве владевшая французским языком. Одновременно с составлением описи я решил сфотографировать некоторые картины и интерьеры квартиры художника. Некоторые фотографии получились очень хорошо. Особенно удачными вышли спальня К.С., его письменный стол и мастерская. В процессе работы мне посчастливилось увидеть картины, которые не были широко известны. В качестве примера могу привести огромную картину „Богоматерь с Младенцем“. Когда мы развернули холст, свернутый в рулон, он с трудом поместился на полу большой комнаты. Картина эта была создана для изготовления настенной керамики по заказу травматологического института в Ленинграде. На керамику она была переведена в Англии и помещена на одной из стен института. После Октябрьской революции панно замазали белилами, но постепенно они смылись, вид был очень неприглядный, но в настоящее время, после реставрации, эту картину можно увидеть в прежнем виде.
В спальне Кузьмы Сергеевича висела очень большая картина „Изгнание из Рая“, а в мастерской художника, помимо других работ, уникальная картина – монументальный головной портрет М. Ф. Нельзя обойти молчанием печальный случай, который привел к гибели многих картин. Дело обстояло так: в одной из комнат, в столовой, я по просьбе М. Ф. развесил картины. Они были без рам и заняли всю стену. Тут же на стене был повешен эскиз „Новоселье“, а под ним стоял небольшой стол, на котором обычно гладили белье. Вскоре М. Ф. положили в больницу из-за обострения тромбофлебита, и дочь Елена осталась в квартире одна. И вот однажды она приезжает к нам на Таврическую, совершенно растерянная, и рассказывает: „Не знаю, что делать, – я гладила белье и оставила включенным утюг, стоявший на одеяле, и довольно долго отсутствовала, а когда вернулась, застала дома пожарных, тушивших пожар. По счастью, дверь комнаты я закрыла, и от отсутствия притока воздуха огонь задохнулся и не распространился на всю квартиру“. Я тотчас же поехал на Кировский и увидел печальную картину. Из всех развешанных мною картин не уцелела ни одна. Погибли и эскиз „Новоселья“, и монументальный портрет М. Ф., перенесенный из мастерской художника, и многие другие работы. На обоях остались только светлые квадраты, там, где висели картины. Сильно обгорел буфет красного дерева, и совсем сгорел стол, на котором стоял утюг. Елена сказала, что когда мать вернется из больницы, она скажет, что в квартире был ремонт, чтобы не пускать ее в сгоревшую комнату. Конечно, это была наивная идея. Возвратившись из больницы, М. Ф. начала ходить по квартире и в кухне наткнулась на обломки сгоревшего подрамника, открыла дверь в столовую и обнаружила следы этого ужасного пожара. По предварительным подсчетам, погибло картин на сто пятьдесят тысяч рублей старыми деньгами.
Еще до этого печального случая М. Ф. устроила вечер, на котором состоялось чтение уже переведенных писем К. С. На этом вечере присутствовали композитор Шапорин с женой и сыном, художники Чупятов, Пахомов, Верейский, Остроумова-Лебедева, Прошкин, Кругликова и другие. Это была последняя встреча с творчеством Кузьмы Сергеевича. Мы с М. Ф. и Еленой часто ездили на кладбище, сажали цветы, следили за могилой, на которой временно установили небольшую мраморную доску с надписью: „Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, заслуженный деятель искусств, профессор, 1878–1939 гг.“. На этой надписи я неоднократно подновлял позолоту. 4 апреля 1939 года в Доме искусств имени Станиславского состоялся вечер памяти К. С.
Началась Великая Отечественная война. Несмотря на блокаду, я не переставал навещать М.Ф. вплоть до ее эвакуации. Она собрала все картины, свернула их в большой рулон и уехала с дочерью в феврале 1942 года в Хвалынск, где еще оставался дом, принадлежавший матери К. С. В 1958 году мы с дочерью решили навестить М. Ф., она жила в той же квартире, с дочерью, ее мужем и тремя внучками. Но в квартире уже все было по-другому, никакого уюта, на стенах никаких картин, другая мебель, все не так, как было когда-то при К. С. Мария Федоровна выглядела хорошо, несмотря на свои семьдесят три года, и говорила, что не умрет, пока не приведет в порядок все дела К. С. И действительно, ей удалось (правда, с большим трудом) выручить из Швеции „Купание красного коня“, палитру художника и его посмертную маску. Все это она предполагала передать в Русский музей. Пожалуй, это была последняя встреча с М. Ф. и Еленой. М. Ф. вскоре умерла, а Елена с семьей получила квартиру в Автове, и больше я о них ничего не могу сказать. Так закончилось мое знакомство с семьей Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, оставившее глубокий след в моей жизни.
И все-таки была еще одна встреча с ним. В 1966 году в Русском музее была большая выставка произведений художника. В нескольких залах очень удачно были развешаны картины К. С., и я вновь пережил встречу с художником, видя те картины, которые он создавал при мне, в период с 1925 по 1939 год. На выставке произведения К. С. были представлены довольно широко. К сожалению, некоторых вещей не было. Не было „Матери“, которую художник очень любил, не было „Новоселья“, „Элегии“, о которой я упоминал, портрета профессора Канторовича, последней работы художника, части африканских вещей и некоторых портретов. Но общее впечатление от выставки было хорошим. Чувствовалось, что устроители приложили немало усилий, чтобы осветить деятельность этого замечательного художника, и они достигли своей цели. Для меня же эта выставка была как бы точкой, которая должна была быть поставлена на всей истории знакомства и, я бы сказал, дружбы с этим необыкновенным человеком, Кузьмой Сергеевичем Петровым-Водкиным».
И от себя хочу кое-что добавить. В моей памяти встают воспоминания – картинки детских лет, как я уютно устраивалась рядом с Пушкиным и плела венки из цветов. Этот чудный памятник, как мне кажется, стоял совсем близко к Лицею, потому что, сидя под рукой А. С., я видела в окне маму, которая звала меня есть кашу. Но меня уверяют, что памятник стоял там, где он стоит сейчас. И, к сожалению, немногие работники музея-лицея знают, что в этом музее жил художник К. С. Петров-Водкин, а ведь в тот период именно здесь были написаны многие его картины, в том числе «Тревога», «Смерть комиссара», «Дети, играющие у туалета» и целый ряд других.
Мой отец был инженером-химиком, и, казалось бы, какие могли быть точки соприкосновения, но все-таки они были. И его близость с К. С. была, видимо, заложена в его генах, так как все папины предки были живописцами. Сам он неплохо рисовал, но выдающимися способностями не обладал, да и учиться живописи не смог, так сложилась жизнь. То, о чем хотелось говорить, иногда и поспорить, вероятно, это и объединяло этих людей: просто инженера и великого художника. Дружба с К. С. оставила в папиной жизни огромный след. Я помню, как много он рисовал в тот период. Кое-какие рисунки у меня сохранились, и они явно навеяны общением с К. С. Иллюстрации сказок для меня, маленькой, а также моих игрушек, даже портреты, мой и мамин, пейзажи – все это говорило о невероятной силе впечатления, полученного от дружбы со знаменитым художником.