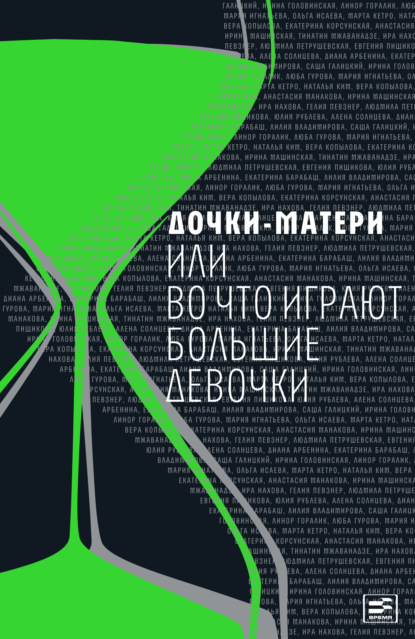000
ОтложитьЧитал
– Давно не пела.
– Вот послушай меня тогда, как должен первый: «А как мне не плакать, а как мне не плакать?» Вот так должен первый.
Я любила петь, точно как она, везде. Я долго думала, что человек, целый день распевающий в квартире, – украшение дома. Позднее я с удивлением узнала, что для некоторых это похоже на громко работающее радио.
– Мы знаешь, что замечательно пели с тобой? Мы всё с тобой замечательно пели. Ты мне очень скрасила вторую половину жизни в этом смысле. Потому что петь хотелось, а здесь не с кем. «Утро туманное», помнишь, мы с тобой пели?
– Да, да. А вторая половина жизни – это тут, в Нью-Йорке?
– Да, конечно. «Утро туманное, утро седое…» Знаешь, чьи слова-то?
– Тургенева?
– Тургенева, молоток! «Утро туманное…» Ну-ка, давай-ка!
– «Утро туманное, утро седое…»
– Нет, «седо-о-ое».
Мама говорит, что научилась слушать романсы и классическую музыку благодаря радио. Его никогда не выключали. Каждый день оно поднимало семью в шесть утра – до войны громом гимна, а во время войны грозным хором «Вставай, страна огромная!». По радио передавали трансляции спектаклей, концертов, даже балетов.
– А как зафигачат оперу целиком, хочешь не хочешь запомнишь. «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила… Знакомые, печальные места! Я узнаю отдельные предметы…» (Черная тарелка радио висела над дверью их деревенского дома даже еще в моем детстве, хотя ее и потеснил тогда уже стоявший на комоде телевизор.) «Вот мельница, она уж развалилась, тяжелый шум колес ее умолкнул, а вот…» Здесь мелодию забыла… Это из «Русалки». Это поет главный виновник торжества, он пришел, потому что ему скучно стало на сердце, и он вспомнил девушку, которую оставил в положении. «Онегина» я знала почти всего – он, помнишь, начинается с бала у Лариных, они там наигрывают: «Что ж ты, Ленский, не танцуешь, или лапти бережешь?» Очень я любила оперы. Арии знала наизусть.
– Но оперное не пели у нас в доме, мам.
– Как это не пели? «Знай, испанок жгучие глаза шлют восторг и привет!» Это после первой они пели. Мужики соберутся – папа, дядя Геша да их приятели. Они любили, знаешь, какие песни? Как Ермак Тимофеевич размышлял на суровом бреге Иртыша. Это после войны. А до войны, когда я была ребенком, они пели «В парке Чаир» и «Вам возвращаю ваш портрет». Я думала потом, ну вот чего они маялись дурью, пели эту ерунду, а не народные песни. Бывало, смехом «Шумел камыш» запевали, якобы были очень трезвые все. Но до войны – или «В парке Чаир», или «Чтобы тело и душа были молоды». Остальное все считалось темень деревенская колхозно-навозная и отсутствие культуры. Знаешь, у нас в Торбеево какая культура была? Возами. Хоть отбавляй. А уже после войны стали любить романсы: не спрашивай, не искушай, не подходи, не говори и скажи зачем – все роковые русские вопросы отражались в этих романсах.
Наш домашний репертуар был не деревенский, а подгородний, поэтому еще больше, чем народные песни, мы пели романсы, классические и городские, жестокие.
– «У церкви кареты стояли, там пышная свадьба была, все гости шикарно одеты, на лицах их радость была…» Ну-ка, давай-ка, пой первый!
Я пою: «Невеста была в бе-елом платье, ве-енок был приколо-от из роз…»
– Что-то у меня не получается, низко очень, – говорит мама. – Ну, в общем, она на святое распятье печально взирала сквозь слез. А! Ты помнишь, как мы были у Волошиной Марии Степановны в Коктебеле? Тебе было лет тринадцать-четырнадцать. Мы пели ей тогда, это тоже, и потом Мария Степановна говорит: «Да-да, у нас в Петербурге маляр, бывало, красил забор или стену и в такт водил кистью», – и показала рукой вот так, вниз-вверх, вниз-вверх: «У-церк-ви-каре-ты-ы-сто-я-а-ли…»
Чтоб петь вдвоем, надо вместе дышать, поэтому между поющими возникает особая близость. Нужно угадывать движение чужого голоса и там, где он прерывается на вдох, держать звук за обоих. Ты вливаешь свой голос в чужой, как будто попадаешь внутрь него, движешься за ним и подчиняешься ему, а он тебе. Счастье от пения чувственное, поешь всем телом, в тебе ходит струя воздуха, и ты отвечаешь ей, как орган. Когда поешь с матерью, чувствуешь утробную любовь.
– Вот еще какую песню я люблю, «Вдоль по Питерской», и никогда мне не нравилось, как ее поют. Все ее кричат, а ты ее послушай. Это женская песня, и в начале такая любовь ко всему: и к своему милому, и к этой улице, и к колокольчику этому! И орать ее нечего. Какие там слова! «Едет миленький, сам на троечке! Едет ладушка, с колокольчиком!» Такой восторг от жизни! А сколько потом она выпила, это меня не беспокоит. Ты же знаешь, она пила не из рюмочки, а из полуведра. А вот, кстати, эту помнишь? Гейт аид ин шейнкл, дринкт ер ойс а глезеле вайн – «входит еврей в шинок, выпивает стаканчик винца»!
Еврейские песни мама выучила от свекрови, моей бабушки, Татьяны Борисовны – Тубы Боруховны по паспорту. Бабушка Таня до двадцати лет жила в черте оседлости, но не в местечке, а в украинской деревне, и говорила, что знает, как решить проблему антисемитизма – всем еврейским парням надо жениться на русских девушках. Так и случилось у нее в семье, но ее, стихийную интернационалистку, не сблизили с невесткой даже песни. Бабушка пела, только если просили, тонким неверным голосом, немного как девочка. Я не переняла ни одной из этих ее песен на идиш и украинском – с тем большим восхищением мы с папой смотрели, как мама, закрыв глаза, запевала глубоким грудным звуком, чуть добавляя театральности: «Гева-а-алт!» И вниз по гамме: «Ву нэмт мэн, ву нэмт мэн, ву нэмт мэн… а локшнбрет аф кацен ди варничкес?» И быстро переводила гостям: «Ой-ой-ой, помогите! Где взять мне доску раскатать варенички? Он хейвн ун он смалц, ун он фефер, ун он залц – без соли, без сыра, без перца и жира? Гева-алт! Ву нэмт мэн, ву нэмт мэн, ву нэмт мэн… а бохер аф цу есн ди варничкес? Ой, где мне взять парня, чтоб кушал мои варенички, без соли, без сыра, без перца и жира?»
Я не пела на идиш и не научилась у бабушки готовить гефилте фиш, а мама покупала зеркальных карпов и перед приходом гостей делала фаршированную рыбу, рубила форшмак, смешивала вареные яйца с луком и начиняла гусиные шейки. Я знала, почему я не пою еврейских песен: я выросла в Москве, дома не говорили на идиш и не ходили в синагогу – понятно, что я люблю куст ракиты над рекой. Не хотелось думать, что мне было проще быть русской – и целиком, а не наполовину.
– И еще была песня, твой папа любил ее: «На припечке горит фитилек». Песня была на идиш, но «припечек» говорился по-русски.
«Что-то печется во мне прямо сейчас», – записала я в телефоне. Я хотела написать «меняется», но автокорректор исправил на «печется». Это правильно. Я пекусь о ней. На меня наползает облаком страшная мне, детская, неизмеримая любовь к ней.
– А я кино смотрела, где Гурченко играет директора фабрики и показывают елагинскую фабрику нашу, и в одном месте пустила слезу: она едет в электричке из Москвы, и там объявляют: «Следующая остановка “57-й километр”». Это ведь Ногинск, хоть его и не называют. А в электричке сидит девочка и поет: «Сронила колечко со правой руки, забилось сердечко…», помнишь, мы с мамой пели? И очень я любила эту, Кать, как ее? «Потеряла я колечко, потеряла я любовь»! Может, тебе первый? Давай! «Я по этому колечку…»
Я вспомнила, как мы ее пели: папа держал низ, в середине альтом мама, выше Варя, еще чуть выше я и еще бабуся, дедуся, дядя Женя и тетя Вера, маленькие Таня и Аня, гудел Варин муж Феликс, на него махали руками, чтоб подвирал потише, подпевали братья Алик и Вовка. А сейчас больше половины нас нет.
– «…буду плакать…» – давай!
– «Буду плакать день и но-очь. Где ж девался тот цветочек, что долину украшал?»
Проходя по житейскому морю, пять сердец я разбил дорогих
Лилия Владимирова. Как смотрят дети[6]
Аэропорт казался мне волшебным караван-сараем, с барханами чемоданов и сумок, снующими путниками, громкими разговорами и предвкушением чудес. Мама сказала, что сначала мы полетим в Москву.
– В Москву? Это там, где живет Алла Пугачева? Мы пойдем к ней в гости?
В гости к Пугачевой мы не попали, а летели еще и еще на гигантском самолете Ту-134. Спустя четыре часа мы приземлились. Нам пришлось выйти из теплого салона на туманное от мороза взлетное поле, чтобы самолет заправили. Норильск, стылый и строгий, был нам не рад и быстренько выпроводил дальше на восток. Следующей, но не конечной точкой путешествия оказался старый аэропорт города Певека – небольшой деревянный дом. В нем на полу сидели удивительные люди, в шкурах, с собаками и детьми, курили странного вида трубки и пахли каким-то мясом. Я не видела раньше ничего подобного. Спящие на чемоданах дети, яичная скорлупа, запах уставшей вареной курицы, одинокие лампочки под потолком и ошарашенная мама, стоящая посреди этого хаоса в модном приталенном пальто с норковым отложным воротничком и кожаных перчатках.
В нашей с мамой последующей жизни было много летных часов и разных аэропортов, но то первое путешествие память сохранила как увлекательное приключение, как будто впереди было что-то новое и хорошее.
Новым было слово «пурга». Пуржило несколько дней, «борта» не летали, скопилась толпа народу, и все ждали, когда ветер утихнет и начнут вывозить. О том, что мы полетели над декабрьской Чукоткой в Ан-2, я узнала, будучи почти взрослой. Не могу себе представить, как тот полет в неизвестность с маленьким ребенком на привинченных деревянных лавках в грохочущем и вибрирующем «кукурузнике» пережила мама и сколько раз впоследствии она сожалела о нем. Приземлиться на бетонную взлетную полосу – «трр-бум, трр-бум, трр-бум» – мы почти успели. Начиналась новая пурга. Гудело и выло, морозило и пугало. Через открытую дверь самолета из темноты закричали:
– Кравченко есть? Есть Кравченко?
Мы были. Какие-то руки схватили меня и стали передавать вторым, третьим, я потеряла маму, но наконец-то оказалась в объятиях отца. Приехали. На Чукотку.
⁂
Общежитие номер 27 представляло собой длинный одноэтажный барак со входом посредине. Двадцать комнат, узкий коридор, уборная на три очка в обоих концах постройки. Как в лучших домах Парижу, а не «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная». При входе с улицы стояли двухсотлитровые просмоленные бочки из-под горючего, в которых хранилась тундровая вода для питья. Комната-сушилка с кирзачами и ватниками на крючках по периметру, общая кухня с раковинами, электроплитки в комнате у каждого свои. У нас был широкий деревянный топчан, железная кровать с продавленной сеткой, крашенный голубой масляной краской стол с дверцами под клеенкой и бобинный магнитофон «Соната» с рычащим Высоцким: «Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели».
Первые ночи из-за разницы во времени и общего, видимо, шока мама проводила со мной, ножницами и бархатной бумагой. Мы вырезали фрукты, ягоды и цветы, приклеивали их в клетчатую тетрадку. Я до сих пор помню те сливы, вишни и тюльпаны. После этого мы ели бутерброды с салом, привезенным с «материка», и под утро засыпали.
Просыпаться иногда приходилось под жуткие вопли вроде:
– Зарезали! Ваньку зарезали!
Многонациональные наши соседи после работы пили, дрались, музицировали на фортепиано, убивали друг друга, лепили пельмени, играли в лото и танцевали в коридорах.
Примерно год мы прожили в бараке, где мама выходила в публичное пространство исключительно на каблуках, в длинном халате и с начесом на голове. Тогда же случился ее 30-летний юбилей, после которого я впервые видела маму лицом в тазике. Соседка тетя Вера, дебелая штукатур-малярка, держала над блюющей мамой стопку с водкой и настаивала:
– Я грю, выпей. Выпей, я те грю, и сразу полегчает.
Так мама научилась опохмеляться, а мы переехали жить в квартиру. С подселением.
⁂
Второй этаж, вид из окна на деревянную горку и засыпанные по самую крышу одноэтажные вагончики – балки. А у нас – квартира. С ванной и унитазом. Соседям досталось две комнаты, одна большая – нам. По справедливости, соседям надо было бы отдать всю эту квартиру, поскольку у них было двое детей, девочка и мальчик, но отсутствие отдельной комнаты соседскому сыну восполнял мой папа, катавший его в кабине своего огромного грузовика. Папа был обожаем дворовыми пацанами, потому что разрешал им (но никогда мне) залезать на машину и подавать ключи во время ремонта. О том, что мама не любит нашу соседку, я догадалась быстро. Каждый раз, наблюдая возвращение с работы поварихи тети Люды с двумя переполненными сумками, мама закатывала глаза и бурчала под нос:
– Харчей натащила, а готовит все равно по-столовски.
Мама готовила божественно. Можно предположить, что любой ребенок хвалит мамину стряпню и не может быть объективен, однако есть нюансы. Дело в том, что подавляющее большинство приезжающих на Север за длинным рублем ставило во главу угла заработок этого самого рубля, а значит, режим жесткой экономии и максимального накопительства на сберкнижку. Поэтому угощения в большинстве домов были простыми и дешевыми: бутерброд со шпротами, тефтельки в «краснодарском» соусе, краковская колбаса, блины да оладушки.
Мама никогда не экономила продукты и не жалела еды вопреки папиным нотациям. То ли сытное детство дочери председателя колхоза сказалось, то ли предчувствие, что жить нужно здесь и сейчас. Мамин стол всегда ломился мясными блюдами и ослеплял гостей красотой подачи. Белая льняная скатерть с острыми, как ножи, краями и хрустальная посуда, натертая до скрипа, – это как минимум. Максимум – еще и фигурно свернутые льняные салфетки в каждой тарелке, украшенные морковными розами салаты, восхитительный торт «Негр» в шоколадной глазури и прочий ресторанный шик. Моя мама, выбравшаяся из румынского села в крупный индустриальный город и заброшенная вновь в село, теперь уже на берег Северного Ледовитого океана, зажигала в коммунальной комнатушке огни большого города.
Посреди долгой полярной зимы в лучах мигренеприносящего северного сияния случился мамин роман с капитаном катера и японский двухкассетник «Шарп». Хотя, справедливости ради, и то и другое я обнаружила как раз солнечным полярным летом, когда началась навигация и на горизонте можно было наблюдать сияющие огоньками сухогрузы, источники ароматной японской жвачки и капроновых колготок. Мамин капитан был красивым брюнетом, он рассказывал мне, как служил в Москве, в карауле у Вечного огня, и какая у меня чудесная мама. Вопрос, какого рожна меня таскали в адюльтерные прогулки, возник в моей голове только спустя двадцать лет. Тогда же я наблюдала счастливую маму и мечтала, что каким-то волшебным образом она станет жить со своим капитаном, а вовсе не с моим отцом, человеком добрым и обаятельным лишь в присутствии посторонних. Когда он впервые на моих глазах схватил веселую и пьяненькую маму за шею и прижал к полу, шипя что-то отвратительное, я плакала и просила, чтобы он перестал. Папа смеялся и говорил, что ей не больно и все в шутку.
Таких несмешных шуток становилось в нашей жизни все больше. Мама устроилась работать в секретный отдел воинской части в соседнем гарнизонном поселке, ее часто вызывали на работу по новенькому домашнему телефону и привозили поздно на боевом уазике. Магнитофон сменил марку, но не особо изменил репертуар, теперь вечерами я засыпала под грохот швейной машинки и хрип Высоцкого: «В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети…»
Утром меня, как Золушку, ждал новый карнавальный костюм. И даже не один. О сладкое время моих новогодних утренников в бешеном количестве: в школе, в доме культуры, у папы на работе, у маминых подруг на работе. Мне почти всегда на праздниках доставался первый приз за маскарадный наряд, и я ужасно гордилась маминым умением шить. Да что там шить! Мама казалась мне уникальным сочетанием качеств, которые я не видела ни в одной другой маме, мама никогда не болела, мама умела все! Маму обожали на работе все мужчины, от прапорщика до полковника. Ей завидовали женщины-коллеги и бесконечно ценили женщины-подруги.
Иногда неожиданно обнаруживаю в себе, что пою, как мама, так же зажигательно могу танцевать, поражаю и раздражаю перфекционизмом генеральной уборки, импульсивно крашу потолки, шью шторы, запоем читаю книги, заразительно рассказываю истории, трепетно дружу, консервирую закуски, вот только совсем не умею играть азартно в карты.
Я не рискую и все контролирую, я почти всегда настороже.
Тогда, лет тридцать пять тому назад, я очень быстро научилась постоянно тревожиться, чутко прислушиваясь к тому, как неровно мамины каблуки подходят к двери, как ключ несвязно тычется в замочную скважину, как на эти же звуки выходит из комнаты отец, набрасывается на нее в коридоре, если я не успеваю выскочить первой, и начинается скандал.
⁂
Этап кровавых скандалов начался в новой квартире, нашей собственной, двухкомнатной. Без соседей. Без свидетелей.
Не знаю, как маме удалось выжать из моего довольно скаредного отца роскошный ремонт. Мама наклеила удивительные обои, где она их достала – ума не приложу. В то время, когда у всех были голубые цветочки и масляная краска до середины, у нас были обои цвета хаки, с серебристым геометрическим орнаментом, перекликавшиеся с серыми шелковыми шторами, однотонными и ровными; никаких кружевных тюлей, но огромные каллы и гортензии в горшках на широких подоконниках. Да, пресловутая «стенка» тоже случилась, зато в ней стояли Азимов, Уэллс, Гаррисон, Корчак, Булгаков и бессчетные «классики и современники».
В книги я уходила от реальной жизни. Моими друзьями были не только герои, но и библиотекари. Раз в неделю я приносила домой около восьми книг, в то время как другим со скрипом давали четыре. Для библиотеки я заполняла формуляры, расставляла книги по полкам, протирала пыль, сидела в продавленном кресле и гладила жесткую шерсть на голове чучела белого медведя со стеклянными глазами. Я любила заснеженный берег океана, где стояла библиотека, окруженная сугробами до крыши, сквозь которые я нехотя пробиралась домой. К сожалению, вечером библиотека закрывалась, а моя тревога в ожидании встречи с домом усиливалась. Иногда все было хорошо, родители ужинали, рычали на меня, что я поздно где-то шляюсь и пол не мыт, я с облегчением просачивалась в мир Агаты Кристи, где уютный камин, чай и дворецкий-убийца. Но чаще было совсем иначе. В лучшем случае дома сидел озлобленный отец и ждал маму, в худшем я обнаруживала ее у нашей двери, не имеющую сил подняться, вволакивала в дом и хотела исчезнуть от страха грядущего скандала.
Библиотека, клуб, школа, все доступные места проведения досуга вне дома – были моей вотчиной. Я участвовала в спектаклях, олимпиадах, праздничных линейках, огоньках, парадах, подготовках, стенгазетах и прочих интернациональных кружках, где никто не догадывался о жизни моей семьи. Мне довольно долго удавалось держать лицо отличницы, потому что мама не ходила в школу. Мамы никогда не было там, где мне удавалось собой гордиться: ни когда меня принимали в пионеры, ни на последнем звонке, ни на выпускном бале. Один раз по возвращении из летнего трудового лагеря, когда меня на общем собрании похвалили за рекордное количество убранных сорняков, мама присутствовала и потом рассказала своей приятельнице; мои подслушивающие уши полыхали от восторга. Я лезла из кожи вон, стараясь быть лучшей, чтобы мама заметила и оценила, даже попала на страницы местной газеты как борец за мир во время гонки вооружений. Для того чтобы отсутствовать в моей жизни, у мамы обычно были веские основания:
– Ты же понимаешь, какая у меня работа! Я ж не Веретючка, которая сидит целый день на проходной, салфетки крючком вяжет и может в любой момент хоть в школу, хоть в магазине торчать в очереди!
Мамина важность как будто лишала меня права хотеть, чтобы она меня видела и замечала, чтобы гордилась мною, как другие мамы, пусть и не такие деловые. Разумеется, я перестала просить и ждать, но одиночество только усиливалось.
На летних каникулах было хуже. Два отвратительных сценария: меня отправят на все лето к деду в село или я останусь «месить грязь». Хороший вариант случался один раз в три года – когда родителям оплачивали дорогу, тогда был совместный отпуск и мама кутила на широкую ногу, одаривая всю родню северными гостинцами. Отец скрежетал зубами, но я была довольна: мама рядом, лучи ее славы обогревали немного и меня.
Мы много времени проводили вместе, поскольку в сельском отдыхе ежедневно пахали: белили и красили чей-то дом, собирали ягоды и варили их в огромных тазах, вытряхивали коврики, мыли, ухаживали за могилами наших родных. В тишине кладбищенских оград, в перерывах между песнями Любы Успенской, я узнала, что моя бабушка умерла в мамины тринадцать лет, оставив ее старшей с братом, сестрой и старой бабкой. А еще очень быстро появилась ненавидящая мачеха, которая была любовницей деда еще при жизни бабушки.
Таская на пару ведрами воду из колодца, мы встретили какую-то женщину, отводящую глаза, и я внезапно выяснила, что маму с отцом поженили против их воли, просто родители просватали, распорядившись жизнями детей так, как им казалось правильным. И эта несчастная женщина, встречавшаяся в юности с моим отцом, узнав о грядущей свадьбе, топилась в этом самом колодце. В такие моменты я узнавала о судьбе мамы жуткие и печальные истории, рассказанные случайно и вскользь. В сельском отпуске было много посиделок родни, которые, если слушать внимательно, давали ох как много грустных сведений, застрявших в моем детском мозгу, чтобы прорасти позже. Обратно на Чукотку летели долго, с чемоданами, набитыми вином, орехами, салом, вареньями, с пересадками и какими-то иллюзорными признаками нормальной семьи.
Если же на лето я оставалась в поселке, то мое одиночество углублялось и расширялось, почти сравниваясь с океаном, берег которого становился моим спутником в длительных прогулках. Отец уезжал на рыбалки в тундру со своими коллегами, мама со своими друзьями проводила время в поездках на шашлыки, я была предоставлена книгам и написанию писем уехавшим друзьям. Осенью возобновлялась спасительная школа, постепенно подходившая к концу.
После экзамена по химии, где я внезапно получила четверку и золотая медаль растаяла как дым, меня, рыдающую, встретила мама и влепила пощечину, потому что по-другому, наверное, она переживать не умела.
Зато мама покупала. Скандал за скандалом продолжался, отец убеждал больше класть на сберкнижку, мама прятала от него в антресоль отрезы шифона, выдавая за подарки родни с материка. Как ей во времена дефицита удавалось находить вещи редкого качества? Спустя дцать лет уже моя дочь бегала по купленному мамой немецкому ковру, не утратившему ни шерстинки, ни цвета. Маме очень нравилось жить хорошо. Но чем старше я становилась, тем меньше я верила в то, что она хорошо живет. Я точно знала, что она несчастна. Видела, как много она пьет. Постоянно находила и выбрасывала в море бутылки с коньяком. Покрывала ее перед отцом. И я никак не могла ей помочь.
Потому что мама никогда не выглядела человеком, который нуждается в помощи или поддержке. Ни тогда, когда хоронила лучшую подругу, погибшую при крушении теплохода в свой 45-летний юбилей. Ни тогда, когда хоронила младшую сестру, которую стремительно сожрала саркома в ее 26 лет. Даже когда мама сидела на полу, пересчитывая фантики, оставшиеся от наших накоплений после павловской денежной реформы, она не выглядела растерянной или слабой. Как можно спасти сильную, выносливую, энергичную женщину, которая идет по жизни смеясь? Что может сделать ребенок, с горечью и бессилием наблюдающий, как его любимый родитель утрачивает свою личность?
⁂
Единственное, что можно сделать, – это выжить. Потому что, хотим мы того или нет, мы почти всегда привносим в зрелую жизнь черты своих родителей. Их достоинства и недостатки, их сценарии и ошибки, их манеру поведения и жесты, свою потребность в их любви и принятии.
Когда мне было семнадцать, моя мама закончилась для меня как человек. Она улетела с Чукотки на материк, не дождавшись моего выпускного бала. Разумеется, у нее были мощные основания. Окончив школу, я тоже приехала к ней – жить в своем родном, но абсолютно чужом огромном городе, куда меня в одиночку отправил отец, решивший в тот момент начать новую жизнь на Чукотке без нас. Фактически она ушла из жизни в мои двадцать пять, но восемь лет нашей совместной не-жизни были потрачены мною на то, чтобы удержать в памяти все хорошее и человечное о ней, а ею на то, чтобы погружаться на самое-самое дно. Она преуспела лучше меня.
Я много лет не могла о ней даже думать, не говоря о том, чтобы простить. Все материальное, что мне было дорого, было выменяно на дешевый самогон. Тот самый ковер просто достался мне в качестве приданого, и мама не успела его поэтому пропить. Но злилась я не из-за утраты золотых колечек.
Злилась я совсем на другое. На то, что она рассмеялась мне в лицо, услышав о моем желании поступать на актерский факультет:
– Ты себя в зеркало видела, ну какая из тебя актриса?
На то, как быстро растворялись в алкоголе восхищавшие меня черты. На то, что мама на самом деле оказалась слабой, не справилась, бросила меня в водоворот взрослой жизни без поддержки. На то, что я так отчаянно ее любила и нуждалась в ней. На то, что повторяла ее ошибки, вечно, как голодная собака, искала любовь среди отбросов и дико, безумно ее жалела. В минуты просветления она пыталась объяснить мне, уже взрослой, почему утратила все, кроме боли, унять которую можно было лишь алкоголем. В эти моменты я рыдала внутри себя от сочувствия, нежности и беспомощности.
– Знаешь, я ведь только в сорок два года узнала, что такое оргазм, можешь представить?
– Мама, ну зачем было столько терпеть?
– Потому что женщина без мужа – не жилец.
Я до исступления злилась на отца, который бросил меня на этом тонущем корабле с мамой, уже не пытавшейся выплыть. В чужой фактически уже Украине, без денег, без образования, с огромной ответственностью за существо, оставшееся от мамы. С отцом я не общаюсь до сих пор, если не называть общением СМС-поздравления с днем рождения.
Однажды, когда мне было уже за сорок и за плечами были сотни часов психотерапии, я увидела в зеркальном отражении маму, на которую стала очень похожа. «Но разойтись я, кстати, сразу согласился. И разошелся, то есть расходился», – включился во мне обожаемый Высоцкий. Чуть не разбила зеркало. Как так-то? За что? Я много лет пыталась изжить из себя прошлое для того, чтобы оно сейчас смотрело на меня с зеркальной поверхности?
- Мир мог быть другим. Уильям Буллит в попытках изменить XX век
- ВПЗР: Великие писатели Земли Русской
- Заметки на биополях. Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве (сборник)
- Казенный дом и другие детские впечатления (сборник)
- Россия и европейский романтический герой
- Проза Александра Солженицына
- Счастье. Двадцать семь неожиданных признаний
- Рукопись, которой не было. Евгения Каннегисер – леди Пайерлс
- Ранний Самойлов: Дневниковые записи и стихи: 1934 – начало 1950-х
- Мемуары. Переписка. Эссе
- Жестяной пожарный
- «Мне выпало счастье быть русским поэтом…»
- Лицей, который не кончается
- Химеры
- Дочки-матери, или Во что играют большие девочки
- Жизнь после смерти. 8 + 8
- Лицом к лицу. О русской литературе второй половины ХХ – начала ХХI века
- Новые и новейшие работы 2002—2011
- Сбывшиеся сны Натальи Петровны. Из разговоров с академиком Бехтеревой