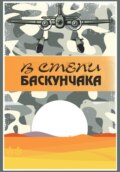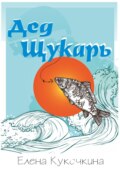О других
В степи Баскунчака
«А степная трава пахнет горечью…»
Слова Р. Рождественского
Коля, прищурившись, смотрел в степь. Степь, как безликое полотно, расстелилась до самого горизонта, уперлась в край голубого безоблачного неба и молчала. Коля думал про степь, что она всегда неприглядна и одинока. Только ветер по ней гулял словно хозяин. Иногда ветер так гулял, будто он сумасшедший, которого выпустили на денек из желтого дома. Но с этого лета,
а точнее с двадцать пятого июля, степь не всегда молчала, она сотрясалась от снарядов ежедневной бомбардировки. А иногда горела. Горела так яростно, стремительно и с болью, будто говоря, что ж вы делаете? Когда остановитесь? А потом разносила во все уголки запах гари, и оседала дымкой похороненных людских надежд и разбитых сердец.
Одного только степь не делала, она не плакала. Голубое глубокое небо и капли с начала лета на степь не проронило. Вот и десятилетний Коля разучился плакать. Утирал грязным рукавом лицо, когда слышал разговор родителей, но не плакал, потому что он взрослый и должен служить примером для маленьких.
А детей маленьких много, за ними глаз да глаз. Кто еще будет следить, если родители заняты? У одних ушли на фронт, другие трудятся на железной дороге, что находится в Верхнем Баскунчаке, третьи работают в тылу. Помогать нужно и не роптать, на слезы времени нет. А если какая слеза и покатилась, то ветер ее тут же смахнет невидимым крылом. Ветер хоть иногда и сумасшедший, но дело свое знает – подгоняет в спину, не дает расслабиться.
Коля, когда смотрел в степь, всегда вспоминал самый страшный день. Тогда они еще жили в селе, а не в землянках. Нет, это было не двадцать пятое июля, когда все село впервые увидело высоко в небе иностранные самолеты, кружившие над головами людей и высматривающие добычу орлиным взором. Настоящее возмездие наступило днем позже.
Люди готовились к бомбежке. Но никто не ожидал, что так получится. Что узловая станция Верхний Баскунчак, которая находится в Астраханской области в сорока километрах от слободы Владимировка и в пятнадцати к югу от Казахстана, будет гореть огнем.
Бомбы бесцеремонно со зловещим рыком падали на пути. Одна из бомб проломила крышу вагонного депо – полыхало так, что не подобраться. Горели цистерны с керосином, вагоны
с пиленым лесом. Неугомонные озлобленные немцы преследовали только одну цель – прервать снабжение Сталинградского фронта из Астрахани, как они прервали движение нефтеналивных танкеров по Волге. И тогда русским перестала бы приходить подмога в виде оружия и топлива, они не смогут воевать, быстро сдадутся и Сталинград станет немецким трофеем. А за Сталинградом вся степь будет принадлежать им, вплоть до Каспия с ее важными речными мостами – Ахтубинским, Бузанским великаном, Рычинским, Сенным и Болдинским.
Но в день двадцать шестого июля не только вагоны разлетались на куски, словно тряпичные куклы. Возле главного станционного здания находился Круглый садик – так его назвали местные за особую форму и обустройство. В этом саду ожидали отправки пассажиры. Большей частью военные. Тут же стояли напуганные молодые женщины, а лица их, словно осенний пожухлый лист – серые, осунувшиеся, с отпечатком войны. Рядом с женщинами на лавках сидели старики. У всех мало-мальские пожитки – все, что успели схватить. Женщины тихо переговаривались, чтобы унять в сердце тоску по любимым мужьям и брошенным жилищам. Маленькие дети на руках, а что постарше – припухшие, перепуганные – жались к матерям, поглядывали робко друг на друга. Иногда находили камешки, палочки и затевали несмелую игру. Старики поглядывали на детей – отрада видеть в тяжелое время радость и огонек в глазах подрастающего поколения. Ведь дети – этакие непонимающие солнышки, которых горе не пропитало еще насквозь и не вросло корнями в душу.
Всех их объединяла идея – убежать, спастись, переждать, а когда закончится война, вернуться на родную землю, найти мужа, сестру, родителей, жилье. «Жить дальше», – разлеталось эхом по Круглому садику, блуждало в листве, шелестело и возвращалось проблеском надежды. Только маленькая Анечка с растрепанными русыми косичками, в помятом цветастом платьице не знала, куда себя деть. Жалась к матери, слегка тянула за руку. «Скоро, Анечка, скоро», – говорила мать нарочито ласковым голосом, скрывая за ним тревогу и страх, не дающий спать по ночам. Бросить все, видеть, как немцы бомбят город, забиться в угол комнаты, собирать вещи впопыхах, выбежать из квартиры под напором соседки. И не верить, что твое жилище превратится за минуту в груды камней и пепла. Не верить, что муж ушел на фронт, что потеряла связь с матерью и сестрой. Не верить, но продолжать жить. Рядом осталась только дочка, ради нее и бежала непонятно куда. Нарочито казалась ласковой и спокойной, пока Анечка рассматривала проступившие на исхудавшей кисти матери синие вены, поломанные, обгрызенные ногти, огрубелую кожу. И кажется, никто кроме Анечки в коротком платьице не слышал, как утих во дворах домашний скот, как перестали лаять собаки, до этого они передавали вести друг другу, будто вели радиообмен. Ветер замер, не чирикали неугомонные воробьи, не слышен стрекот кузнечиков в сухой траве, голубое безоблачное небо стояло неподвижно. А потом резко взвыли сирены, они оглушали и внушали животный страх, заполняя собой все пространство. Маленькие дети, перепугавшись, подняли вой, люди оцепенело стояли, словно загнанный скот, и ждали исхода событий.
Так и остались в том Круглом садике военнослужащие, женщины, дети и старики – большинство не выжило, бомбой накрыло и порвало на куски, обезобразило тела. Смерть нарисовала стеклянные глаза, полные ужаса и страха на лицах детей, стариков и женщин. Тут же лежала и Анечка с осколочным ранением, косы в разные стороны, нога неестественно вывернута, будто у сломанной куклы, а глаза смотрят в небо и не видят ничего. Мать отбросило в сторону, руки протянуты вперед, будто пыталась удержать дочь, но не смогла…. Не смогла убежать от войны.
Ветер поднимал степную пыль, перемешанную с гарью, и усмирял, затягивал льющуюся кровь, высушивал раны. Никто ничего из них до конца не понял, но адские сирены…. сирены оборвали жизнь еще раньше, когда не умер, но понял, что конец пришел в том месте, где казалось, все плохое уже позади.
Хоронили погибших в том же Круглом садике на месте образовавшейся воронки от снаряда. Бригадир Давыдов схватился было за лопату, стал рьяно помогать закапывать тела, но вскоре бросил, сел на разрушенные ступеньки станционного здания и разрыдался. Иногда утихал, хватался за голову, раскачивал себя, мычал, а слезы так и лились по лицу. Он никак не мог понять, за что жизнь так несправедлива. Почему его сын Валентин еще даже не побывал на войне, только окончил десять классов и собирался поступать в Саратовское танковое училище, погиб, тут же на путях. «За что?» – мучился слезами бригадир. «Лучше бы я, лучше бы меня», – не переставал повторять он.
К сожалению, собственное горе всегда дороже и ближе всех людских потерь. Да и как теперь простить себя, что в нужный момент не оказался рядом?
А потом все стихло. Так случалось каждый раз после очередного разгрома. Стояла такая тишина, что звенело в ушах. Люди выходили из укрытий, восстанавливали изуродованные пути, разгребали груды металла, засыпали воронки, которые покрывали землю будто оспины, и налаживали железнодорожную связь, чтобы эшелоны непрерывно шли к Сталинграду даже под ежедневным обстрелом. Даже если товарищ не успел в укрытие и теперь лежит на рельсах, изуродованный войной.
Все ждали, когда будет еще налет, еще бомбежка, когда раскурочат частные дома, квартиры, станцию. Страх медленно оседал на Верхнем Баскунчаке, словно туман. Лез через выбитые окна, забивался в углах домов, проникал через щели забора. Хозяйничал. Заставлял людей терять надежду и вселял веру в безысходность событий.
Следующий налет случился ровно через месяц. В этот раз бомба попала в военный госпиталь, который временно разместили в школе. От разрыва снаряда быстро случился пожар. Деревянное здание, будто спичка, полыхало огнем. Начальник и комиссар госпиталя самоотверженно принялись спасать раненых, выносили на руках из огня. Тут же и медсестры, санитарки – совсем молоденькие девчушки – принялись спасать жизни. Балки полыхали, рушились на головы, огнем горели тела тяжелораненых. Многих не сумели спасти, так же как и начальника, комиссара госпиталя и большую часть неходячих пациентов.
Бомбить с тех самых пор немцы начали каждый день, стирая станцию вместе с поселком с лица земли. Немцы появлялись как по расписанию, с точностью до минуты. Летали группами от шести до пятнадцати самолетов за раз. Днем на поезда рушили свою мощь бомбардировщики, ночью прилетали мессершмитты. Как бы наши люди не прикрывались светомаскировкой, немцы место боя немцы место боя освещали осветительными авиабомбами, которые сбрасывали на парашютах. Их любимые поезда – это цистерны с горючим. Сначала они били по цистернам из крупнокалиберных пулеметов, а затем кидали зажигалки. Вагоны горели мощно, с жаром, вызывали тем самым задержку поездов по всей линии. Люди выходили по ночам и адским трудом восстанавливали развороченные пути. В плачевном состоянии находились все станции в округе. Станция Богдо, названная в честь горы, которая выросла тут же красным земляным прыщом посреди огромной степи, стала кладбищем вагонов и трупов сожженных лошадей. И пока люди отвоевывали свое, налаживали связь и хоронили братьев, погибших на путях от пуль немецких крылатых машин, степь, молча, принимала все страдания.
Лето закончилось с такой неимоверной переменной в жизни, что дети ничего толком и не поняли. В сентябре Коля с остальными ребятами так и не пошел в школу, да и некуда было идти – школу разбомбили тоже. Появляться в селе стало опасно. Вот и бежали люди в степь, спасая от обстрелов и бомб.
Село Баскунчак делилось на несколько поселков. На Верхнем шли узловые железнодорожные пути, на Среднем добывали гипс, а на Нижнем – соль.
В соли недостатка здесь нет. Желто-зеленая степь хорошо соседствует с солью, она подчиняется ей, легко покрывается тонким пластом белой рапы по краям, на которую если ступишь, то нога провалится и увязнет в мокрую вязкую глину. Белая соль – гладкая и беспощадная убийца всего живого. Стоит только саранче, подхваченной порывом ветра, улететь в сторону озера, как насекомое медленно покроется кристаллами соли, словно мумифицируется. Соленое озеро жестоко, но прекрасно. В его просторах отражается небо, днем отблескивает солнце, а вечером разливаются краски заката так, что не поймешь, где небо, а где земля – все едино, горизонта нет.
Во всем этом грубом рельефе были и оазисы с маленькими пресноводными озерами и скрюченной растительностью. Здесь и селились люди в наспех вырытых землянках. Землянки не обносили бревнами, только укрепляли сам вход, да подпирали крышу, чтобы не осыпались, вымазывали пол и стены смесью из глины, соломы и коровьих лепешек на манер самана. Сверху застилали крышу часто обычными ветками, о какой-то фундаментальной конструкции не думали – поначалу бы укрыться, найти, где спать, детей разместить, а потом уже о следующих удобствах думать.
Хлеба было не достать. Иногда мать с отцом приносили со станции ржаную муку и пекли коржики. Домашняя живность, что успели спасти – помогала с пропитанием, тем же молоком. Правда, курицы, будто оглохшие и умалишенные после бомбежки, больше не неслись, своевольно квохтали
и лупоглазыми бусинками смотрели поочередно в даль. Подмогой в плане еды служили бахчи с дынями, тыквами, арбузами. Степь ведь не совсем безлика, она может быть строптивой из-за яркого солнца, безжалостна ветрами, но благородна бахчевыми культурами.
Все взрослые уходили каждый день на железнодорожную станцию затемно, иногда работали всю ночь, восстанавливали путь и приходили утром. Малышей оставляли на подростков, которым не только за братьями и сестрами приглядывать нужно, но и смотреть за скотиной, чтобы та не заходила на бахчи и не ела сладкую растительность.
В конце сентября ситуация не изменилась. Немцы бомбили железнодорожные пути, родители возвращались домой измученные, с надорванной душой за тех, кого приходилось хоронить и про кого старались молчать.
Природа благоволила. Стояла теплая осень. Правда, утром сковывал холод, а в землянках и вовсе тянуло противной прохладой, от которой стыли ноги. Зато всходы на бахчах радовали хорошим урожаем. Коля с детьми прохаживался по кромке бахчи, гнал скотину подальше от арбузов к корявым деревьям. Но задержался по привычке, стал смотреть в степь, вглядываться в ее ровный узор. Он невольно догадывался, что именно со степи приходят вести. Может, потому что именно там, далеко от землянок, происходило самое важное – бой. А может, именно оттуда приходили родители с немой тяжестью на измученных лицах.
Коля смотрел в степь и слышал рокот. «Мне это кажется, – думал мальчик. – Неужели и к нам прилетели?»
Слух не подвел Колю, из степи прямо на него летел самолет. Летел так низко и прямо, гудел пропеллером, что Коля не смог разглядеть рисунок на фюзеляже и крыле. Это наши ястребки, ведь наши? Сердцу так хотелось верить, но Коля плохо разбирался в авиатехнике, а скорее – совсем не разбирался. Но надежда всегда умирает последней.
Коля пристально следил за самолетом, как тот облетел землянки и бахчи. Часть ребят ушли вместе со скотиной к озеру, чтобы там напоить животных и увести на дальние поля, подальше от бахчи. И только дружок Федя с малышами задержался неподалеку, хотел было бежать к Коле, но тот быстро завертел головой и замахал. Пускай передаст другим, чтобы прятались, пускай хоть кто-то останется в живых.
Пока Коля махал Феде, самолет пролетел над землянками и бахчами, развернулся, а потом и вовсе приземлился. Тормозил большими колесами и задним маленьким, что под хвостом. Маленькое подпрыгивало на неровностях, поднимая столб пыли. Самолет опять развернулся и медленно подкатил ближе к Коле.
Коля закашлялся, стал жмуриться от пыли, осыпающей его с головы до пят, но не сошел с места. Пыль медленно оседала на волосы, кожу, тихим пластом ложилась на землю. Мальчик слегка протер глаза тыльной частью ладони, смахнул пыль с ресниц и щек, а потом присмотрелся. На фюзеляже были нарисованы черные кресты. Коля зажмурился. Ему не чудится. Черные толстые кресты на белом фоне. А на рулевой части самолета тонкими линиями нарисована свастика.
«Немец», – подумал Коля, и его душу охватило ледяным страхом. Он так и замер соляным столбом возле бахчи, во все глаза глядя за движениями немецкого офицера. Тот действовал не сразу, подождал, пока уляжется пыль, открыл люк кабины и осмотрел окрестности. Наверное, выведывал, есть ли угроза со стороны русских. Но кто мог помочь Коле? Никто. Взрослые далеко, малыши попрятались в бурьяне.
Летчик спрыгнул на землю, но не решался идти вперед.
«Сейчас меня убьет, убьет ведь» – отдавала в виски мысль. Горло перехватило, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Вокруг образовалась такая тишина, что только звук собственного колотящегося о ребра сердца слышал Коля.
– Keine Panik, Junge (Не бойся, мальчик), – сказал немец режущие слух слова и стал махать Коле, чтобы тот подошел к нему.
Мальчик сглотнул, понурил голову, опустил плечи и нехотя поплелся. Сдаваться он не хотел и сердито смотрел на немца. Тот стоял высокий, стройный, в однобортном пиджаке с накладными карманами сине-серого цвета без внешних пуговиц. Широкий кожаный пояс с серебряной бляхой опоясывал талию. Черные сапоги до колена блестели даже под опускающейся на них пылью. Руки в кожаных черных перчатках. На голове летный коричневый шлем, на лбу очки. И главный знак отличия люфтваффе, о чем не знал Коля – орел справа на груди, крылья которого изогнуты вверх, а в лапах его свастика без окантовки.
«Заберет с собой или здесь убьет?» – немым, но грозным взглядом, как казалось мальчику, спрашивал он у немца. Приготовившись к самому худшему исходу событий, Коля подошел к иностранному мужчине и снизу вверх посмотрел на него.
– Мне нужна еда. Поле. Еда. У тебя есть еда. Принеси еду, – пытался объяснить летчик мальчику, применяя для этого весь свой маленький запас русских слов, включая в них резкие для слуха немецкие звуки.
Коля все понял. Немцу нужны арбузы, тот есть хочет. Но ведь эта еда для них, русских. Помогать немцу – плохо, они ведь наших бьют. Мать с отцом о страшных вещах порой молчат, иногда перешептываются, думают, что дети не слышат. А они все слышат. И про налеты на станцию знают и про то, как бомбят, и про то, как не щадят никого, даже скот. Поджигают степь,
и тогда скот горит вместе со степью, задыхается в огне. Коля хмурился, не хотел выполнять то, о чем просил немец. Да и кто ему из наших спасибо скажет, заругают, что подросшие дыни
с арбузами отдал.
– Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um bockig zu sein, Junge! (Сейчас не время для упрямства, мальчик!) – зазвучал над Колиным ухом страшный рокот немецких слов.
Коля не понял ни слова. Только встрепенулся, вперил большие испуганные глаза в летчика и махнул головой, соглашаясь со всем, что тот сказал. Лучше уж выполнить. Вдруг еще расстреляет не только Колю, но и притихших малышей.
Благо делянки были рядом, далеко таскать не пришлось. Большие сочные арбузы, маленькие дыньки со вкусом солнца и тыквы притащил Коля. Немец все подношения благополучно засунул в кабину. И чего-то там копался.
Коля ждал расправы. Арбузы забрал, а убивать будет? Для этого же он прилетел? Вон и в кабину зачем-то потянулся. Пистолет достает?
Но неожиданно для Коли немец вытащил не пистолет, а прямоугольник.
– Шоколаде, – произнес немец понятное для русского слово.
Мальчик взял шоколад, завернутый в бело-красную упаковку, и не поверил своему счастью. Настоящий! Немецкий шоколад!
– Спасибо, – пролепетал Коля.
– Jetzt geh, Junge! (А теперь уходи, мальчик!), – вдруг замах летчик руками, показывая, что нужно отойти от самолета. Коля кивнул и побежал обратно к делянкам, крепко сжимая в руках плитку шоколада.
Летчик быстро запрыгнул в кабину, развернул самолет и улетел в обратном направлении.
Коля смотрел в степь, опять глотал поднявшуюся от колес самолета пыль. Он был перепуган до смерти и в то же время не помнил себя от счастья – и выжил, и шоколад достался.
Когда пыль улеглась и самолет улетел достаточно далеко, к Коле выбежали маленькие дети, а в степи со стороны станции уже ехала «Полуторка» – зеленый грузовичок с брезентовой накладкой вместо крыши. Кто-то из подростков все же успел добежать до станции и сообщить взрослым о машине с крестами, а может, и сами взрослые увидели, что над землянками кружит враг. Коле было крайне все равно. Он взахлеб рассказывал историю окружившим его ребятам. Те кинулись с расспросами: «А что сказал немец? Как сказал? А какой он?»
Из остановившейся «Полуторки» выбежала тетя Валя, она работала семафорщиком на путях. Растолкала детей, осмотрела Колю, обняла, села возле него на колени и стала задавать вопросы. С перепугу накричала на детей, чтобы те не перебивали, а дали Коле слово.
– Только арбузы пришлось отдать, и дыни, и тыквы, – гнусавил Коля, понимая, что сделал плохо, ведь еда сейчас на вес золота, каждый кусочек, каждая крошка на счету.
– Та и Бог с ними, – махнула тетя Валя.
На шоколад смотрели, как на добытый трофей, как на золотое руно, а на Колю, как на местного героя.
Так Коля первый раз в своей жизни попробовал шоколад. И глубоко уверовал в то, что степь не всегда безлика и одинока. Иногда она содрогается от падающих на нее бомб, иногда молчит сурово. Летом она душит знойным жаром, зимой колет холодным стеклянным ветром. А по весне расцветает огнем красных тюльпанов, пахнет горькой полынью, волнуется серебристым ковылем, что по преданиям символизирует людскую скорбь и печаль. К концу лета выгорает до цвета желто-белого солнца, а если осень теплая с дождями, снова зеленеет ковром свежей травы.
Степь не одинока и не безлика. Тот, кто родился и вырос в степи, знает, как горяча его любовь к воле, к открытым пространствам и бескрайнему небу, на которое будто опрокинули краску с голубой эмалью. Степь принимает все, что делает с ней человек – взрывает, добывает, рвет, копает. Она примет все, потому что знает, как много еще есть в людских сердцах нерастраченной, самоотверженной любви.