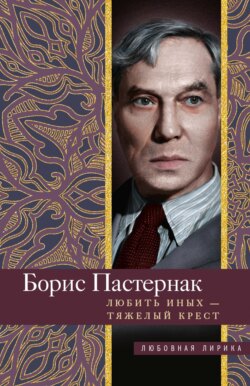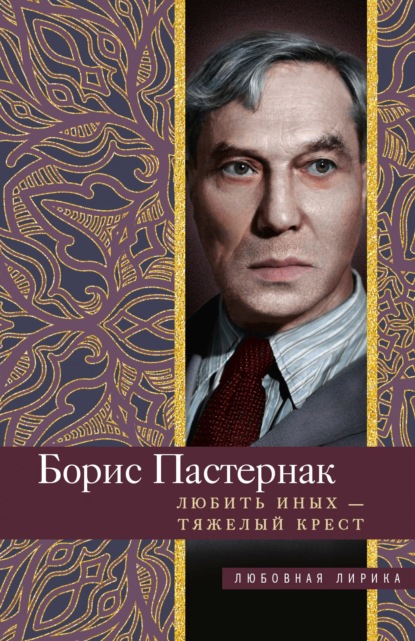© Пастернак Б.Л., наследники, 2021
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2021
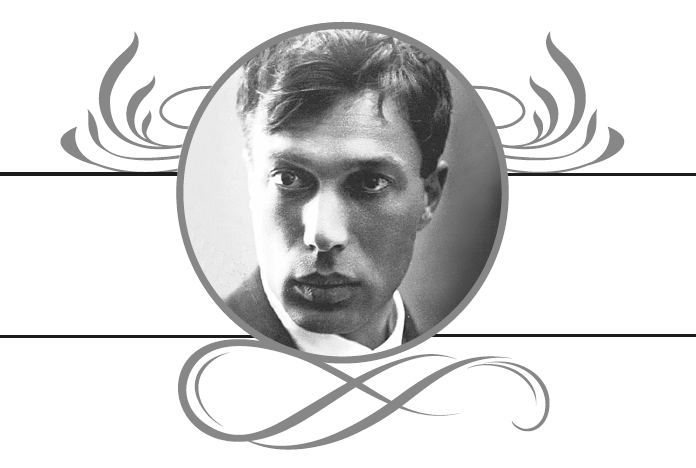
Уходя, не оглядывайся
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
Откровения. Гл. 21, ст. 4
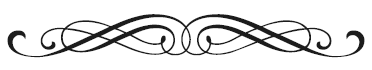
Поэзия Бориса Пастернака (1890–1960) – это отражение личности поэта, выросшего в семье известного художника и талантливой пианистки. С первых попыток в его стихах просматривается особый стиль, нестандартное построение художественных приемов и средств. Творчество этого поэта вызывало изумление у современников. Его поэтика одновременно проста и сложна, сдержана и эмоциональна, понятна и изыскана. Она восхищает многообразием ассоциаций и звуков.
Этот поэт узнаваем. Он и талантливый художник, и умный собеседник, и поэт-гражданин. Его творческий путь был нелегким. Признанием большого литературного таланта Бориса Пастернака явилась присужденная поэту в 1958 году Нобелевская премия. Тогда Пастернака вынудили отказаться от этой премии. В 1989 году она была возвращена поэту посмертно.
Борис Пастернак всегда нравился женщинам, а они ему. Он был влюбчив и не мог творить без романтического флера. Легкого, возвышенного, окрыляющего и всегда чуточку нового. Он был увлекающимся человеком, Поэтом с большой буквы, ему нужно было гореть, любить. Любовь в лирике Пастернака присутствует повсеместно.
В сборнике «Второе рождение» автор обращается к своей бывшей супруге. Просит не печалиться по поводу развода. Он посвящает ей стих, говорит, что та навсегда останется для него опорой и товарищем. Их же любовь оказалась обманом. Вскоре он нашел себе новую спутницу жизни.
За счет наличия сразу двух женщин, этот цикл получился весьма драматичным. Герой в произведении восторжен, воодушевлен любовью. Благодаря новому, только зародившемуся чувству, у него появляется желание жить и творить. Он восхищается своей возлюбленной и всячески подчеркивает это в стихах. Любимая для героя – целая жизнь.
В женщине Пастернак превыше всего ставил естественность, искренность, умение быть самой собою. Он ждал от женщины активного проявления её любви. Первое впечатление является для Пастернака ценным: «Образ, который всегда стоит передо мной и меня спасает: образ нашей встречи». В этот момент за внешним обликом женщины, которая привлекла внимание поэта, обязательно скрывается какая-то таинственность, загадочность. Такой была встреча с последней возлюбленной, которой посвящены стихи зрелого Пастернака.
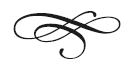
Рождение поэта в горячке любовного несчастья
Ида, величавая, просто до трагизма для меня, прекрасная, – оскорбляемая поклонением всех, одинокая, темная для себя, темная для меня, и прекрасная, прекрасная в каждом отдельном шаге, в каждом вмешательстве ветра, в каждом соседстве деревьев.
Борис Пастернак
Страдание отвергнутой любви
Семья Высоцких относилась к числу богатейших семей московских и российских предпринимателей в годы перед Первой мировой войной. Борис любил Иду с 14 лет, а она, дочь очень богатого купца, смотрела на него свысока.
Летом 1912 года Борис Пастернак изучал философию в Марбургском университете в Германии. Он неожиданно узнал, что сестры Высоцкие проездом из Бельгии в Берлин, где в это время находились их родители, собираются заехать в Марбург, чтобы навестить его. Сестры Высоцкие приехали в Марбург 12 июня и пробыли в нем пять дней.
Он отправился на встречу с Идой, сделал ей предложение и получил отказ. Потом был отъезд сестер, проводы их на вокзал, отчаянный прыжок на подножку поезда на следующее утро, с бесцельной поездкой в Берлин вдогон отвергнутому чувству, одинокое возвращение в Марбург и рыдание в дешевой гостинице.
Ида не стала спутницей гения, но невольно стала его музой, вдохновительницей, и хотела она этого или нет, осознанно или неосознанно сделала юного Бориса Пастернака истинным поэтом, проведя его через страдание отвергнутой любви.
После 16 июня многое – если не все – в жизни Пастернака переменилось. Вскоре он уехал из Марбурга в Италию и зимой 1913 года возвратился в Москву, чтобы всецело отдаться лирической стихии поэзии.
Спустя многие годы Ида Давидовна пожалела о том, что отвергла предложение Бориса Пастернака стать его женой. Ида вышла замуж за человека своего круга, как и подобало наследнице преуспевающей купеческой династии. Но мысли о пылком поклоннике, необычном юноше дней ее молодости не оставляли Иду. Она не раз пыталась наладить связь с Борисом, писала ему. И он ей даже отвечал. Но жизнь шла своим чередом – его ждали новые переживания, новая любовь. Для Иды у него оставалась лишь дружба.
Считается, что это печальное событие и сделало Пастернака поэтом.
Марбург
Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье,—
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.
Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
B прощальном значенье своем подымалась.
Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По лицам. И все это были подобья.
Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.
Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».
«Шагни, и еще раз», – твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.
«Научишься шагом, а после хоть в бег», —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнова учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.
Одних это все ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.
Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.
Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.
В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму
Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты —
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.
. . . . . . . .
Тут жил Мартин Лютер. Там – братья
Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все – живо. И все это тоже – подобья.
О, нити любви! Улови, перейми.
Но как ты громаден, обезьяний,
Когда над надмирными жизни дверьми,
Как равный, читаешь свое описанье!
Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жуел —
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как ульи, курящихся дупел.
Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Bсе ясно. Мы квиты.
Да и оторвусь ли от газа, от касс, —
Что будет со мною, старинные плиты?
Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкою на оттоманке поместится.
Чего же я трушу? Bедь я,
как грамматику,
Бессонницу знаю. Стрясется – спасут.
Рассудок? Но он – как луна для лунатика.
Мы в дружбе, но я не его сосуд.
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.
И тополь – король. Я играю с бессонницей.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
1916
Семнадцатый – год Пастернака
Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Борис Пастернак
Пахнет сырой резедой горизонт
Книга стихов поэта «Сестра моя – жизнь…» имеет своеобразный подзаголовок: «Лето 1917 года». Эту книгу Борис Леонидович называет «написанной по личному поводу книгой лирики». Героиня стихов – Елена Виноград.
Первая влюбленность в эту девушку, еще тринадцатилетнюю, и первое упоминание о ней в письмах окрашены налетом того демонизма на грани истерики, который вообще был принят в московской интеллигентской среде: Ольга Фрейденберг, кузина поэта, вспоминала, что Боря был с надрывом и чудачествами, «как все Пастернаки».
У Елены был официальный жених Сергей Листопад – «красавец прапорщик», который отговорил Бориса идти добровольцем на фронт. Он погиб осенью шестнадцатого года. Елена считает, что никогда не будет счастлива в мире, где больше нет Сережи.
В 1916–1917 годах Елена училась в Москве на Высших женских курсах, а ее брат, тесно связанный дружбой с Пастернаком, – в университете. Они стали часто видеться, весенними ночами гуляли по Москве. Пастернак взахлеб писал стихи, значительная часть которых впоследствии и составила книгу «Сестра моя жизнь». Первый же визит Елены к нему вызвал короткую размолвку – он не хотел ее отпускать, она укоризненно сказала: «Боря!» – он отступил.
Пастернак вспоминал об этом времени как о счастливейшем, не забывая, однако, что на всем поведении возлюбленной лежал флер печали, налет загадки – разрешение которой он с юношеской наивностью откладывал на потом.
Летом 1917 года Е. Виноград уехала из Москвы, оставив Пастернаку свою фотографию:
Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.
В 1918 году произошёл разрыв Пастернака с Еленой. Она благополучно дожила до 1987 года. Елена Виноград вышла замуж за некоего Дороднова, владельца небольшой мануфактуры под Ярославлем, чтобы успокоить мать, волновавшуюся за ее будущее. Брак не был счастливым, вскоре он распался, у Елены Александровны осталась дочь.
Борис Пастернак, еще долго мучимый этой любовной страстью, в 1922 году создает лучшую свою книгу, ставшую памятником русской жизни 1017 года, сборник стихов «Сестра моя – жизнь… (лето 1917 года)».
«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь…»
Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
– Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.
Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза.
Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.
1918
«Грудь под поцелуи, как под рукомойник!…»
Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.
Я слыхал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят – не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.
Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше – воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.
Просевая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.
1917
Сестра моя – жизнь…
Бушует лес, по небу пролетают
грозовые тучи,
тогда в движении бури мне видятся,
девочка, твои черты.
Н. Ленау
Памяти демона
Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.
Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.
Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.
Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосе,
Как седеет Кавказ за печалью.
От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, – лавиной вернуся.
1917
Тоска
Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.
Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, ляская и гладясь
Иззябшей шерстью.
Теперь качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.
Рассвет холодною ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.
1917
Про эти стихи
На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.
Буран не месяц будет месть,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.
Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.
1917
«Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…»
Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.
Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе.
Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнует мне.
И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь со ступенек к звезде.
Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.
1917
Плачущий сад
Ужасный! – Капнет и вслушается,
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.
Но давится внятно от тягости
Отеков – земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.
Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое – скатывается
По кровле, за желоб и через.
К губам поднесу и прислушаюсь,
Все я ли один на свете,—
Готовый навзрыд при случае,—
Или есть свидетель.
Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.
1917
Зеркало
В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и – прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.
Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.
И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла!
Казалось бы, все коллодий залил,
С комода до шума в стволах.
Зеркальная все б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, —
Гипноза залить не могла.
Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,
И радо играть в слезах.
Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла.
И вот, в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизни
Глазами статуй в саду.
Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.
Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет – не бьет стекла!
1917
Девочка
Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.
Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.
Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, с сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо!
Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это, – гадает, – глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?
1917
«Ты в ветре, веткой пробующем…»
Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!
У капель – тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.
Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.
Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.
Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.
1917
Дождь
Надпись на «Kниге степи»
Она со мной. Наигрывай,
Лей, смейся, сумрак рви!
Топи, теки эпиграфом
К такой, как ты, любви!
Снуй шелкопрядом тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!
– Ночь в полдень, ливень
– гребень ей!
На щебне, взмок – возьми!
И – целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!
Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись, – ниц!
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.
Теперь бежим сощипывать,
Как стон со ста гитар,
Омытый мглою липовой
Садовый Сен-Готард.
1917
Из суеверья
Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!
Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И – пенье двери.
Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки
И губы – фиалок.
О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»
Грех думать – ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.
1917
Не трогать
«Не трогать, свежевыкрашен», —
Душа не береглась,
И память – в пятнах икр и щек,
И рук, и губ, и глаз.
Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтелый белый свет
С тобой – белей белил.
И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!
1917
«Ты так играла эту роль!…»
Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам – суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой ни совлек.
Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошеных кормов.
Ты так играла эту роль,
Kак лепет шлюз – кормой!
– И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! – ты лучше всех ролей
Играла эту роль!
1917
Подражатели
Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею – в песок,
Гремучей ржавчиной – в купаву.
И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: «Простите,
Но бросьтесь, будьте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.
Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет.
Но… бросьте лодкою бряцать:
В траве терзается образчик».
1917
«Душистою веткою машучи…»
Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.
На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, – и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.
Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, – их две еще
Целующихся и пьющих.
Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.
1917
Образец
О, бедный Homo sapiens,
Существованье – гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.
Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни – с час.
С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.
Одна из южных мазанок
Была других южней.
И ползала, как пасынок,
Трава ногах у ней.
Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.
Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.
Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.
Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех рощ ракитовых,
Куда я письма слал.
Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва,
Плясали в кольцах, в конусах
По насыпи, по рвам,
А уж гудели кобзами
Колодцы, и, пылясь,
Скрипели, бились об землю
Скирды и тополя.
Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.
1917
Сложа весла
Лодка колотится в сонной груди,
Ивы навязали, целуют в ключицы,
В локти, в уключины – о погоди,
Это ведь может со всяким случиться!
Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит – пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!
Это ведь значит – обнять небосвод,
Руки сплести вкруг Геракла громадного,
Это ведь значит – века напролет
Ночи на щелканье славок проматывать!
1917