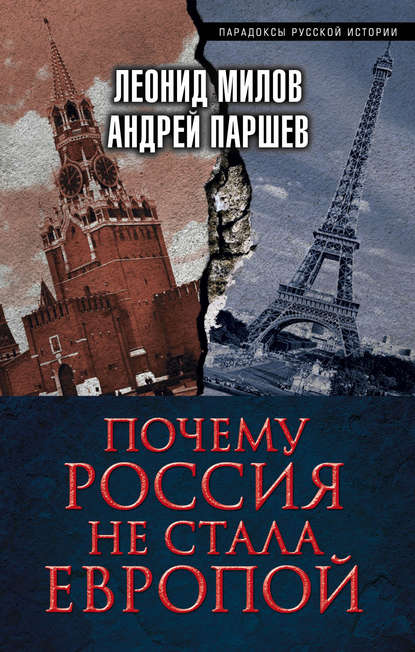© Паршев А.П.
© Милов Л.В., правообладатели
© ООО «Издательство Алгоритм», 2016
Л.В. Милов
Россия – социум особого типа (из книги «Великорусский пахарь»)
Предисловие
Главной особенностью территории исторического ядра Российского государства с точки зрения аграрного развития является крайне ограниченный срок для полевых работ. Так называемый «беспашенный период», равный семи месяцам, фиксируется в государственной документации еще в XVII столетии. Иначе говоря, на протяжении многих веков русский крестьянин имел для земледельческих работ (с учетом запрета работ по воскресным дням) примерно 130 дней. К тому же из них на сенокос уходило около 30 дней. В итоге однотягловый крестьянин (то есть имеющий семью из 4 человек) имел для пашенных работ около 100 рабочих дней. Для сравнения напомним, что в крупном (монастырском) хозяйстве в середине XVIII в. на десятину пашни (на все виды работ) расходовалось 59,5 чел. – дней и примерно столько же шло на гектар пашни в фермерских хозяйствах Севера Франции того же времени. Из них только на обработку земли тратилось 39–42 чел. – дня. Однако, делая такие затраты труда, французский фермер располагал десятью месяцами рабочего времени в год, а в Центральной России этот срок был вдвое меньше. Поэтому здесь только крупное феодальное хозяйство за этот срок, обладая возможностью концентрации барщинной рабочей силы для летних работ, могло выполнить весь минимально необходимый с точки зрения норм агрикультуры комплекс работ. Что же касается крестьянина, то он располагал в расчете на десятину пашни лишь 22—23-мя рабочими днями на все виды пахотных работ (а если он был на барщине, то временем, вдвое меньшим).
Отсюда идут все беды русского крестьянина: он мог нормально обработать лишь крайне небольшой участок пашни. Если же он должен был непременно его увеличить, то мог сделать это исключительно за счет сна и отдыха и за счет привлечения труда детей и стариков. Второй вариант расширения мизерной пашни мог быть реализован лишь за счет резкого снижения уровня агрикультуры (вплоть до разброса семян по непаханному полю), что вело к низкой и очень низкой урожайности, выпаханности почвы и постоянной угрозе голода, который в России был весьма частым гостем. Столь трагическая ситуация усугублялась тягчайшими условиями развития скотоводства, главным из которых был необычайно длительный (до 7 месяцев) период стойлового содержания скота, что требовало больших запасов кормов. А ведь период заготовки кормов буквально втискивался в напряженный и сжатый по времени цикл полевых работ и поэтому был крайне ограничен (20–30 суток). Отсюда горький парадокс российского Нечерноземья: обширные пространства, луга, перелески, а корма практически мало (и это в основном солома), поэтому и скота было мало, и удобрений для полей было очень мало, не говоря уже о пищевых ресурсах скотоводства, возможности сбыта его продукции и т. д.
Важнейшим следствием этих обстоятельств явилось широкое распространение с самых древних времен архаических приемов земледелия, становление не классического трехполья паровой системы земледелия, а некоей комбинации трехполья с периодическим забрасыванием пашни в перелог или залежь. Правда, наряду с этим наблюдается и многообразие и гибкость крестьянского опыта, его тонкий учет тех или иных местных специфических условий. В Нечерноземье важнейшим резервом крестьянского хозяйства были лесные, кратковременно используемые росчисти.
Описанная ситуация сказывалась на всем укладе жизни великорусского пахаря, охарактеризовать который в сжатом виде можно как «мобилизационно-кризисный режим выживаемости общества с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта». Весь быт земледельца был пронизан стремлением к крайней экономии ресурсов и времени, что отчетливо отражает исследованный в книге характер жилища, одежды, пищи, психологии сельского жителя и т. д.
Дефицит рабочего времени в цикле полевых работ вытеснил такой вид земледелия, как огородничество и садоводство, в русские города. Статус посадского человека, горожанина позволял здесь резко повысить интенсификацию земледельческого производства, что очень рано способствовало развитию торгового огородничества и садоводства, становлению хитроумных технологий выращивания теплолюбивых культур в суровых условиях исторического центра России.
Названные выше обстоятельства и прежде всего объективно складывающиеся весьма ограниченные возможности интенсификации труда вели к тому, что урожайность в целом по стране колебалась вокруг минимального уровня «сам-3», несмотря на отчаянные усилия великорусского пахаря добиться повышения этого уровня. Наиболее показательно, что чистый сбор на душу сельского населения в 40-х годах XIX в. был равен в среднем 23,2 пуда, а в 50-х годах – 21,2 пуда. И даже в самом конце XIX в. душевой сбор в расчете на все население страны, включая картофель, был равен лишь 21,5 пуда (при тогдашней норме 24 пуда на человека).
Внешний и внутренний рынки зерна создавались лишь за счет «внутренних резервов» крестьянского двора, то есть жесткого ограничения потребностей людей. При этом в XVIII в. себестоимость продукции полеводства была примерно вдвое выше ее рыночной цены при идеально высоком уровне урожайности. А при реально низких урожаях себестоимость могла быть втрое и даже впятеро выше рыночной цены. И не случайно, что в таких условиях прирост населения страны в решающей своей части поглощался сферой земледельческого производства. Будучи сугубо экстенсивным, оно распространялось на всё новые и новые территории. Именно этот фактор лежал в основе многовекового движения русского населения на юг и юго-восток Европейской России, где были более плодородные земли, хотя и постоянно подвергавшиеся нашествию засухи.
Всё это, казалось бы, создавало условия для существования в этом регионе Европы лишь сравнительно примитивного земледельческого общества. Однако неумолимые, прежде всего геополитические, факторы, диктуя потребности более или менее гармоничного развития социума, вызывали к жизни и порождали своего рода компенсационные механизмы, и им в книге посвящен особый раздел.
Крайняя слабость индивидуального крестьянского хозяйства в условиях Восточно-Европейской равнины была компенсирована громадной ролью общины на протяжении почти всей тысячелетней истории русской государственности. Крестьянское хозяйство как производительная ячейка так и не смогло порвать с общиной, оказывавшей этому хозяйству важную производственную помощь в критические моменты его жизнедеятельности. Ограниченный объем совокупного прибавочного продукта в конечном счете создавал основу лишь для развития общества со слабо выраженным процессом общественного труда. Однако задача достижения гармоничного развития общества обусловила необходимость оптимизации объема совокупного прибавочного продукта, то есть его увеличения, как в интересах общества в целом, его государственных структур, так и господствующего класса этого общества. Однако на пути этой «оптимизации», то есть объективной необходимости усиления эксплуатации крестьян, стояла та же крестьянская община – оплот локальной сплоченности и средство крестьянского сопротивления этой эксплуатации.
Неизбежность существования общины, обусловленная ее производственно-социальными функциями, в конечном счете вызвала к жизни наиболее грубые и жестокие политические механизмы изъятия прибавочного продукта в максимально возможном объеме. Отсюда исторически обусловлено и появление крепостничества как наиболее реальной для этого региона Европы формы функционирования феодальной собственности на землю. Режим крепостничества сумел нейтрализовать общину как основу крестьянского сопротивления. В книге подробно исследован на актовом материале XV–XVI вв. весьма не простой путь становления режима крепостного права как явления, порожденного не только ситуативными моментами (хозяйственное разорение, борьба за рабочие руки и т. п.), но и фундаментальными, непреходящими для феодального социума факторами (такими как природно-климатические условия, минимальный объем совокупного прибавочного продукта, неизбежность существования общины). В свою очередь, режим крепостничества в России стал возможным лишь при развитии наиболее деспотичных форм государственной власти – российского самодержавия, имеющего глубокие исторические корни. В итоге такого рода «оптимизации» объема совокупного прибавочного продукта режим крепостничества, в свою очередь, породил и компенсационные (патерналистского типа) механизмы выживания, которые тесно переплетались с общинными механизмами выживания.
Характерной особенностью российской государственности помимо жестокого политического режима власти является необычайно сильное развитие ее хозяйственно-экономической функции. Потребность в деспотической власти исторически лишь на ранних этапах была обусловлена политически (борьба с монголо-татарским игом, внешняя опасность, задачи объединения русских княжеств и т. п.). В дальнейшем этот режим существеннейшим образом был обоснован экономически. Ведь помимо функций изъятия прибавочного продукта и усиления эксплуатации земледельца, «государственная машина» была вынуждена форсировать и процесс общественного разделения труда, и прежде всего процесс отделения промышленности от земледелия, ибо традиционные черты средневекового российского общества – это исключительно земледельческий характер производства, отсутствие аграрного перенаселения, слабое развитие ремесленного и промышленного производства, постоянная нехватка рабочих рук в земледелии экстенсивного типа и их острое отсутствие в области потенциального промышленного развития.
Отсюда необычайная активность Русского государства в области создания так называемых «всеобщих условий производства». Это и строительство пограничных крепостей-городов, грандиозных оборонительных сооружений в виде засечных полос, строительство и организация крупных металлургических производств, огромных каналов, сухопутных трактов, возведения заводов, фабрик, верфей, портовых сооружений. Без принудительного труда сотен тысяч государственных и помещичьих крестьян, без постоянных своего рода «депортаций» в те или иные районы страны мастеров-металлургов, оружейников, каменщиков, купцов и т. п., наконец, без особого обширного государственного сектора экономики совершить это было бы просто невозможно. Следует подчеркнуть, что в условиях России и, в частности, исторически сложившейся ее огромной территории функционирование многих отраслей экономики без важнейшей роли ее государственного сектора, элиминировавшего безжалостные механизмы стоимостных отношений, было невозможно на всем протяжении российской истории.
Реализация всех этих функций феноменальна сама по себе, ибо минимальный объем совокупного прибавочного продукта объективно создавал крайне неблагоприятные условия для формирования государственной надстройки над компонентами базисного характера. Господствующий класс и так называемое неподатное сословие даже в петровскую эпоху составляли не более 6–7% от населения страны (к 1861 году этот процент был около 12 %). Основная часть этой группы являлась своего рода несущей конструкцией всей структуры самоорганизации общества, которая неизбежно носила упрощенный характер. И не случайно, что в силу этой упрощенности из функций самоорганизации общества в начале XVIII в. и в более ранние эпохи резче всего, помимо организационно-экономической, проявляли себя военная, карательно-охранительная и религиозная функции. А государственные рычаги управления уходили в толщу многочисленных структур общинного самоуправления города и деревни. Управленческая функция общины еще более усиливала ее как фактор господства общинных традиций в землепользовании, что в конечном счете необычайно сильно тормозило развитие частнособственнических тенденций в феодальном землевладении. Этот сложный и длительный процесс становления и укрепления феодальной земельной собственности так и не довел (вплоть до 1861 года) земельное владение дворянина до уровня полноправной частной собственности. Решающую роль в этом сыграли неистребимые традиции общинного землепользования, как, впрочем, и вся история русского народа и специфичность ведения земледельческого хозяйства.
Вместе с тем выдающаяся роль государства в промышленном развитии страны способствовала гигантскому скачку в развитии производительных сил страны, хотя заимствование «западных технологий» архаическим социумом дало вместе с тем и чудовищный социальный эффект в лице огромной категории рабочих, навсегда прикрепленных к фабрикам и заводам (так называемые «вечно отданные»).
В то же время чисто эволюционное развитие процесса отделения промышленности от земледелия в российских природно-климатических условиях имело в течение столетий лишь слабые ростки так называемых неадекватных форм капитала с присущим им относительно высоким уровнем оплаты труда, сочетающимся с господством поденной и краткосрочной форм найма и ничтожной возможностью капиталистического накопления (а, следовательно, и укрупнения мелкого производства). В работе исследованы основные отрасли хозяйства, в которых в период XVII – начала XVIII в. роль неадекватных форм капитала была весьма существенна. В силу этих обстоятельств в России в целом уровень промышленной прибыли на протяжении длительного исторического периода уступал по своим размерам торговой прибыли, а удачливые предприниматели-промышленники были, как правило, прежде всего купцами. Когда же во второй половине XIX в. капитализм в России стал быстро (по сравнению с прошлым) развиваться при активнейшем содействии государства, мелкое производство так и не получило широких масштабов развития; в стране очень рано и весьма стремительно стало развиваться в силу высокой стоимости всей инфраструктуры народного хозяйства прежде всего крупное промышленное производство (на начало XX в. составлявшее более 70 % предприятий), почти тотчас охваченное процессами монополизации. Думается, что природно-географический фактор и, в первую очередь, необъятное пространство России сыграли в этом деле далеко не последнюю роль.
Названные и рассмотренные в книге моменты, характеризующие особые черты российской государственности, были исторически неизбежны и породили в конечном счете своеобразие и самого российского общества, общества Великой России, с ее великой культурой и великим сосуществованием ее народов.
В силу различия природно-географических условий на протяжении тысячи лет одно и то же для Западной и Восточной Европы количество труда всегда удовлетворяло не одно и то же количество «естественных потребностей индивида». В Восточной Европе на протяжении тысячелетий совокупность этих, самых необходимых потребностей индивида была существенно больше, чем на Западе Европы, а условия для удовлетворения их гораздо сложнее и хуже. Стало быть, объем совокупного прибавочного продукта общества в Восточной Европе был всегда значительно меньше, а условия для его создания значительно хуже, чем в основных западноевропейских социумах. Это объективная закономерность, отменить которую человечество пока не в силах.
Мачеха природа (тупик или развитие)
Коварство нашей природы не ограничивается коротким сезоном земледельческих работ, оно в еще большей мере проявляется в том, что в России часто наблюдается полное отсутствие корреляции между затратами труда и получаемым урожаем. Конечно, низкие урожаи были следствием вынужденно низкой агрикультуры крестьянского земледелия, но в гораздо большей степени они были следствием капризов мачехи-природы.
Идеальная, по крестьянским понятиям, погода – это в меру теплое и влажное («благорастворенное») лето. Но подобное лето – редкое событие. В Нечерноземье такие культуры, как пшеница (в том числе и пшеница-ледянка), греча, конопля, не вполне вызревали от недостатка тепла («требует более теплоты»). Кроме того, пшеница побивается «мглою», «от поднимающихся от болотных рос». Вообще в Нечерноземье «много вредят хлебу» «влажные пары, поднимающиеся от озер и болот».
Но особой бедой были и дождливая затяжная непогода, когда замедлялся рост растений, и нередкие засухи. На огромных пространствах, где преобладали глинистые, суглинистые и иловатые почвы, «в жаркое время делается на поверхности пашни корка, а в дождь… вода, непроходящая сквозь глину, отнимает… от хлебного корня влажность и умножает оную непомерно. От чего корень, лишаясь части питательных соков, производит тонкий стебель и мелкий колос».
Завершает этот сложный узел парадоксов обилие неплодородных и просто худых почв.
Столь суровые, неблагоприятные условия хозяйствования, действовавшие в течение многих столетий, безусловно, закалили великорусов, превратив их в великую нацию тружеников. И там, где люди могли противостоять естественным законам природы, они проявляли не только упорный труд, но незаурядную изобретательность и находчивость.
Но совсем иное дело пашенное полевое земледелие. Здесь многовековая борьба великорусского пахаря с природой не давала такого эффекта, как в городском огородничестве с его хитроумными парниками, садилами и т. п.
В этой связи весьма интересны наблюдения и оценки князя М.М. Щербатова – русского историка, экономиста, публициста, депутата Комиссии о новом Уложении, члена Комиссии о коммерции и президента Камер-коллегии. В 60—80-е годы XVIII в. он неустанно бьет тревогу по поводу кризисного состояния сельского хозяйства страны. В послевоенной историографии за М.М. Щербатовым прочно закрепилась слава заскорузлого консерватора, ярого защитника крепостничества, ретрограда и т. д. Между тем М.М. Щербатов был личностью далеко не столь однозначно примитивной. Он прекрасно знал европейскую литературу, в том числе и работы выдающихся представителей французского Просвещения, но при этом он хорошо знал реальное состояние страны, положение крестьян и сельского хозяйства в целом. Благодаря работам французских просветителей М.М. Щербатов обращал пристальное внимание на специфику природно-климатических условий России и губительное влияние их на состояние земледелия страны. Отсюда его резкая оценка эффективности труда земледельца как чрезвычайно низкой. Как знаток экономики земледелия и практик-помещик, он предпринял в одной из своих работ общую, хотя и приблизительную оценку эффективности земледелия страны. Численность ее населения была приравнена им к 18 млн душ обоего пола, то есть несколько занижена, ибо в момент этого расчета (конец 60-х годов) она была ближе к 23 млн душ обоего пола.
Число работников в земледелии М.М. Щербатов оценивает примерно в 3 млн чел., площадь, засеваемую каждым из них, в 6 десятин. При общем высеве в 96 млн четвериков (пудов) и урожайности не ниже сам-5 общий сбор ржи оценивается им в 480 млн четвериков ржи и 144 млн четвериков яровых, а чистый сбор в 504 млн четвериков. Из них на питание, исходя из расчета в 24 четверика в год на человека (24 пуда), ежегодно должно уходить 432 млн четвериков. Остаток или излишек равен, таким образом, всего 72 млн четвериков, или по 4 четверика (пуда) на человека. Эта величина настолько ничтожна, что при малейшем снижении урожая населению страны угрожала нехватка зерна даже для минимальной нормы питания.
В расчетах М.М. Щербатова много неточностей, но они, так сказать, взаимно погашают друг друга (занижено число пахарей, но завышена площадь обрабатываемой ими пашни и т. д.). Приблизительность своих расчетов признает и сам М.М. Щербатов: «Независимо даже от преувеличения нами расчета в исчислении полученного продукта и преуменьшения в исчислении населения, в случае хотя бы незначительного недорода должен наступить голод».
В нашем распоряжении есть типичный бюджет 80-х годов XVIII в., сделанный «по расчислению нескольких лет на каждый год». Это бюджет крестьянина «посредственного состояния» с женою и двумя детьми, «живущего домом»49. В год ему «потребно»:
1. На подати и расходы домашние и на избу и на прочее строение – 4 руб. 50 коп. с половиною.
2. На подушный оброк за себя и за малолетнего своего сына – 7 руб. 49 коп.
3. На соль – 70 коп.
4. На упряжку и конскую сбрую – 1 руб. 95 коп. с половиною.
5. На шапку, шляпу, рукавицы и проч. – 97 коп. с половиною.
6. На земледельные инструменты и всякие железные вещи и деревянную посуду – 4 руб. 21 коп.
7. На церковь – 60 коп.
8. Для жены и детей – 3 руб.
9. На непредвиденные расходы – 3 руб.
Итого – 26 руб. 43 коп. с половиною.
Даже если из числа расходных статей исключить «страховой фонд» в 3 руб. и сократить расход на женщин и детей вполовину, то все равно останется сумма, даже не сопоставимая с доходами от продажи продуктов крестьянского хозяйства. По сравнению с реальными потребностями они выглядят просто смехотворными.
В конце концов, крестьянский двор беднел, хозяин его терял волю и упорство. Уровень реальной жизни большей частью, по-видимому, располагался между крайней бедностью и состоянием выживания, когда хозяин, применяя всевозможные «крестьянские извороты», поддерживал на плаву свой двор и семью. В конечном же счете речь должна идти о крайне низком уровне земледельческого производства в целом для Европейской России и в особенности для территории ее исторического ядра. Земледелие здесь практически едва осуществляло функцию простого воспроизводства.
Оценивая в целом возможности крестьянского хозяйства к концу XVIII в., А.Т. Болотов писал: «Крестьянство едва успевало исправлять как собственные свои, так и те работы, которые на них возлагаемы были от их помещиков, и им едва удавалось снабжать себя нужным пропитанием». «Крестьянин, не имеющий в своей семье работников, никогда не мог засевать свою пашню в способное время и для этого (из-за этого. – Л. М.) у него всегда был недород», «незажиточному крестьянину недоставало времени вспахать все свое поле», «имея одну негодную или две лошади, [крестьяне] с нуждою землю свою вспахать могут» – такие оценки давали основной массе крестьян XVIII в. современники.
* * *
Ситуация с развитием земледельческого производства в первой половине XIX в. была не лучше.
Первый же важнейший вывод буквально ошеломляет. Средний высев в пределах территорий русских губерний не только не увеличился, но, может быть, даже уменьшился (в 1802–1811 гг. 5,54 чтв., а в 1841–1850 гг. 5,13 чтв.). За этими сухими цифрами стоит трагичная судьба русского крестьянства. Надо осознать, путем какого огромного напряжения сил нашему земледельцу доставалась каждая четверть зерна. И в XVIII веке, и много раньше сельскохозяйственная пора – это «страда», страдание, тяжелый надрывный труд. Ведь русский пахарь всегда работал на пределе своих возможностей. И тем не менее, шли десятилетия, а площадь высева в расчете на тягло оставалась та же.
В советской историографии все исходные данные, которыми мы оперируем, были известны, но на них смотрели только как на свидетельства губительного воздействия на экономику крестьянского хозяйства жесточайшего крепостного права. Один из образованнейших людей конца XVIII в., И.Г. Георги писал, правда, с известной долей лакировки, следующее: «Крестьянин каждый имеет собственность, не законом утвержденную, но всеобщим обычаем, который имеет силу не меньшую закона». При условии выплаты в той или иной форме ренты все, что «крестьянин вырабатывает или ремеслом своим достает, остается точно ему принадлежащим, тем владеет он во всю жизнь свою спокойно, отдает в приданое за дочерьми, оставляет в наследие своим сыновьям и родственникам по воле своей невозбранно. Без такой свободы и безопасности не мог бы крестьянин наживать по 100 тысяч рублей и более капитала. Собственность крестьянина состоит в его доме, имении, скоте и земле, сколько ему наделу с прочими той деревни крестьянами достанется, а приобретение его зависит от его рук, досужества, проворства и рачения».
Из слов этого современника, по крайней мере, следует, что, будучи «крещеной собственностью», крестьянин тем не менее оставался собственником жизненных средств. Но в отличие от промысловика, земледелец редко богател именно вследствие того, что земледелие в пределах исторического ядра Российского государства имело жестко ограниченные мачехой-природой рамки.
В предреформенное десятилетие, как уже говорилось, общая тенденция развития земледелия была связана со снижением производства. При этом в некоторых нечерноземных губерниях оно явно сопровождается переключением крестьян на промысловые занятия (в Московской губернии высевы за 50 лет упали с 5,04 чтв. до 3,84 чтв. на тягло, в Пермской губ. произошло снижение с 5 чтв. до 3,56 чтв. на тягло). Видимо, то, же происходило и в Петербургской губернии, где к 1861 году высев упал до 2,16 чтв. на тягло. Однако весьма важно, что в главнейших местах сосредоточения крестьянской промышленной деятельности (в Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Калужской губерниях) высев не снизился, а кое-где несколько вырос, хотя и очень незначительно. Это обстоятельство весьма красноречиво, ибо оно свидетельствует о том, что в XVIII–XIX вв. процесс общественного разделения труда (отделения промышленности от земледелия) совершался в крайних, болезненных формах. Крестьяне переключались на промысловые занятия не потому, что в земледелии в итоге роста производительности труда, интенсификации агропроизводства появлялись излишние людские ресурсы, как можно было бы полагать, не зная материала. Напротив, земледельческое производство в Промышленном Центре России оставалось по-прежнему общественно необходимым, и общество нуждалось в этой продукции. Но крайне неэффективное земледелие не способно было прокормить земледельцев, и это толкало их в города, на каналы, на фабрики, способствовало возникновению крестьянского ремесленного производства. Товарный хлеб в России – это дар капризной Природы. И товарное зерно и винокурение – это в существеннейшей мере итог дальнейшего снижения уровня питания. Дореформенный рынок – это рынок продажи хлеба из нужды, хотя независимо от этих мотивов он служил ареной действия законов товарного производства.
После реформы 1861 года товарный рынок внутри страны и экспорт зерна по-прежнему росли в значительной мере за счет суровой экономии потребления. Еще в 1888 г. правительственная комиссия специального назначения фиксировала, что в России крупные и мелкие хозяйства «стали продавать свои продукты в искусственно больших размерах, не руководствуясь ни положением цен, ни уровнем собственных потребностей».
Больше того, в связи с реформой 1861 г. положение крестьянства сильно изменилось. Произошло резкое обеднение основной массы крестьянства. Начался новый этап в истории русского крестьянства, этап развития капитализма, который обострил так называемое аграрное перенаселение. Однако перенаселение это было в стране, едва покрывающей своим зерновым производством самые необходимые потребности населения.
Подводя итог развития хлебного баланса страны, мы еще раз убеждаемся, что Россия была на протяжении многих веков обществом с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта. Низкий уровень агрикультуры, низкая и очень низкая урожайность, весьма упрощенный уклад жизни крестьянства, вечно борющегося за выживание, – все это находится, казалось бы, в очевидном противоречии с выдающейся судьбой Русского государства, поднявшегося в конце XIV в. на борьбу с золотоордынским игом и, пройдя через жесточайшие испытания, к концу XVIII столетия ставшего одной из самых могучих держав Европы.
Тем не менее в основе такого пути лежит специфика российского социума, заложенные в его социальной и политической структуре некие компенсационные механизмы выживания, позволявшие России, хотя и сравнительно медленно, с большими социальными издержками, двигаться по пути прогресса, имея на себе «вериги» вечной отсталости земледельческого производства.
В связи с этим представляется немаловажным попытаться раскрыть ряд особенностей исторического развития страны как общества, обладавшего из века в век лишь необходимым минимумом совокупного прибавочного продукта.
- 5 ошибок Столыпина. «Грабли» русских реформ
- Крепостная Россия. Мудрость народа или произвол власти?
- Почему Россия не стала Европой