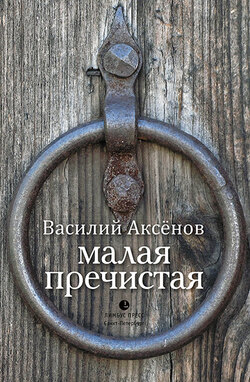Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
© Василий Аксёнов, 2019
© Александр Веселов, оформление, 2019
У пихтового домика
Возле старенького, с лесу нетолстого пихтового, с маленькими оконцами мутного, зеленоватого, с разводами, стекла, чуть ли не наполовину вросшего в землю домика – завалинка в опалубке бревенчатой. На прогнившем желобнике крыши домика – мох. Как патина на бронзе или меди. Наличники не окрашены, потрескались. На них такая вот чудесность истолкована: в разные стороны утки-селезни плывут – друг от дружки расплываются. То ли утки те чем удивлены, то ли что-то проглотить никак не могут – рты у них раззявлены, и шибко. Под средним окном в пыли завалинки купаются курочки, и все рябы. Под правым – выдавленная, увоженная собачьей шерстью яма-канавка: лежанка Шарика. Под левым, совсем уж крохотным, как щель подглядная, окошечком, что у самых ворот, на завалинке расплюснута охапка соломы, а рядом с нею покоится квадрат фанеры – сорок на сорок сантиметров – такого примерно формата. На полянке, напротив соломенного гнезда, стоит пузатая лиственничная – листвяжная, по-местному – чурка. Низкая – как банная шайка, и без дужки. С чурки давным-давно мальчишки отколупали серу. Кора огладилась – свиньи об чурку часто чешутся, – но не отвалилась. Рыжие муравьи живут под чуркой. И двухвостка. Ладно.
Из-за крутой, высокой кровли противоположного дома-крестовика выползает солнце. Лукавое. Упирается лучами в три небольшенькие – в те, что не просто так, конечно, были упомянуты, – оконца. Щупает.
За переплётом рамы появляется старик. Прищурился. Жуёт – борода ходуном ходит. Ногтём поскрёб стекло. Осмотрел после ноготь. Ноготь другим ногтём поскрёб. Отступил от окна – исчез в потёмках горенки.
Глухо охнула дверь вскоре. В ограде разговор. Непонятен. Отвалились внутрь ворота. О забор ударились больно.
Затихло. Никого: забор ветх, но пока ещё непрозрачен. Уже душно: куры рябы, задыхаясь, глотают воздух. И рты у них – как и у уток – приоткрыты. Про тех тут уток речь, что на наличниках.
– Долго я тут стоять-то ишшо должен? Сколь тебя, выстар, ждать? Сутки, ли чё ли?
Медленно, как летняя северная ночь через сумерки, переступает через подворотню дряхлый пёс. Вряд ли старее-то бывают. Два бельма, как две жемчужины, навыкате: чувствуют мир, но не зрят. Блеклые. Шерсть – как на прялке кудель – клочьями. На спине – пунцовые заплешины. Отшлифованы они, заплешины: смерть об них давно уж трётся – отполировала. Ну а что же.
– Тупай, тупай, слепошарый. Не стопори.
Говорящий не виден, говорящий – за столбом, столб – с проушинами: когда-то там, в проушинах, слега лежала и крепилась. Ну так.
Медлительно обошёл чурку пёс. Не обнюхивал, хоть и было что. Достиг края завалинки. Постанывая, поднял на неё передние лапы – как докладчик на трибуну. Замер – как перед речью. Молчит.
Плавно прикрыли ворота прогал в ограду: за кожаный шнурок притянул их старик. Часто переступая, словно трамбуя под собой взрыхлённую земельку, отвернулся старик от ворот к солнцу. Погрозил солнцу старик кулачишком пятнистым. А что там.
– По репродуктору, порядку радив, справедливости, сравниваюсь. С кажым днём, мотрю, всё пожже ты и пожже. Не шали мне – рассердишь.
Нога в сером, латаном валенке. Как в броне. Другая – на деревяшке с резиновой подмёткой. Территорию опечатывает. Метит. Печати круглые, глубокие – подделать трудно их. Ещё бы. Из прорехи штанов глядят зелёной фланели исподние. Облезлой шапки – век её возрасту – в стороны уши. Задом наперёд она на голове, шапчонка эта. Тесёмочки повисли. Болтаются. В глазах деда хитрость первородная – ну а что, бывает: вильнёт умом мужик, как пёс хвостом. Ясно.
– Час, час, не скули уж… как этот… как гамнюк. Я тебя терпел, теперя ты обожди. Не барин какой – от минуты не сдохнешь. А и сдох бы, дак и ладно.
До пса добрёл старик. Согнулся. Ухватил его за задние лапы. Приподнял на завалинку. Стоит Шарик – как лектор за трибуной. Молчит. О чём-то думает, так вряд ли. Обо всём уже передумал – наверное, теперь – без мыслей доживает.
Долго в лёжке устраивался пёс. То так, то эдак располагал лапы. Положил на них морду, отнял. Переустроился. Утих. На носу капли влаги. Бисером.
С бельма эмалевого в землю слеза крупная: потемнел кружок пыли.
– Опять тут сырось мне разводишь… тоже.
У соломы уже старик. Поправил ворох. Взбил, как перину. Готово-уселся. Расстегнул ватник. Пальцы дубовые – едва справились с пуговицами. Справились. Вылинял – белёс сплошь ватник. Как пепел. Из-под мышки плюшевую подушечку с медалями на ней и орденами вынул. Сверкнули. Уложил подушечку на фанере. Нравится, как лежит. Огляделся. Пощипал Георгиевский крест – пристало что, или так, поблазнилось. Сидит, довольный – а что: фронтовик-победитель – не шутки. Ещё раз, уже по-приятельски, погрозил солнцу: ишь ты, лобастое. Тому что – светит, поднимается. Перед стариком старается – а перед кем же.
– Я, Пшеничкин Игнат, и отроду яланский, шутя себе домишко этот выстроил-воздвиг, шутя коровёнку дойную купил, шутя её и продал за бесценок, кто-то сожрал её за милу душу, ну дак чё там, раз говядо. Шутя бабу завёл, шутя и похоронил, и Царство ей Небёсное, а чё тут. Шутя с бабой детей немало народили, шутя гдей-то люди добры в глинку их, в песочек ли закопали – на то надёжа – под небом блекнуть не оставили… не стынут и не мокнут косточки их под дожжом-под снегом-то – и ладно. Шутя вот и сижу. Шутя и в ус себе не дую – привычки нет такой… дак чё уж.
Шороборятся курочки. Чужие – соседские. Радостно им тут – пусть вошкаются. От завалинки не убудет. А веселья всё больше: куд-куда, мол, куд-куда, есть у курицы… Курицам – куричье, а Игнату – Игнатово. Пусть себе. Спокон веку, ещёбыч. И курица – от Бога. Квохчет – молится – живёт-то.
– Сёдня, девки-курицы, праздник. Сёдня можно себе разрешить, дак и чё, – хлопнул ладонью старик по карману ватника. Зазвенело в кармане. – Сёдня как-никак, а Петров день. Пожертвую, засранки, маленькой. Да и как ею пожертвуешь, ежлив она уже есь, ежлив она уже куплена и в шифоньерке за дверкою томится-прячется. Прозрачная. И какая из себя приглядная, дак чё – чикушечка. И – с атикеткой – государственная. Деньгою – той пожертвую – не шальная. Сёдня можно. Сёдня и сам Бог велел, не Бог, дак – Пётра, он, Пётра, скажет Богу: сёдня можно, мол, ну а Игнату – дак особливо… раз фронтовик-то… и крестьянин. Столбовой, к тому же, а не просто.
Из-за угла – ватагой плотной мальчишки. Шумные. Загорелые. Босоногие. Подступают смело. За майками – горох ворованный, ясно. Лущат. Как бурундуки. Карманы штанов брюхаты камнями и рогатками. Угроза воробьям, кошкам и стёклам.
– Здорово, дед Игнат, – приветствуют.
– Вам наше, варнаки, коли не дразните. На заработок пришли? Или так, куда проскоком?
– На заработок, – один за всех, бойкий.
– В прошлый раз я вам наперёд отдал – и дурак последний был, не знал, как бытто, с кем связался. Не спал после всю ночь, себя жалеючи, навылет. Сёдня оплата, как оттрудитесь. Не хотите, не надо, других найду. Желаюшшых – пруд пруди. Ялань большая, нанимай кого хошь, бабу каку кликни, дак любая согласится – не за чё-то там – за деньги.
– Ладно, давай, деда, после. А ты не надуешь?!
– Да как же можно! Не обучен я омманывать – не продавец. Всё по-честному. Вы по совести, и я по стыду – ишшо с соплями-то не съеден. Без подлостев, а иначе-то… и мир же рухнет.
Заскулил Шарик.
– Володька, пойди-ка, почеши ему за ухом. Болячка у него там, у гада. Не шибко тока. Больше ишшо не раскарёжь. От тебя ждать можно всякого, любую подлость.
– За так, ли чё ли? Даром, дед Игнат, чиряк, и тот, сам знашь, не сядет. – Нет у Володьки одного переднего зуба, под носом и на носу у него – весна-половодье.
– Вот, выродок, язви тебя… рыжий мерин… один такой, поди, на белом свете. Ладно, накину тебе пятак сверху… Одно слово – Чеславлев, больше ничё уж не дополнишь.
– За пятак сам пусть чешется, не инвалид войны…
– На кино хватит. Чуть добавишь – хватит и на паперёсы.
– В кино я и так пролезу, ещё пятак там стану тратить, а паперёсы – полон шкап у папки.
– Ну и не чеши, плакать будто будем. И, вправду что, сам прочешется… Вишь, и ногу уж отвёл, ему б ведь чё, ему бы лишь как половчей тока прицелиться да замахнуться, – хитрит Игнат.
Подался Володька к Шарику.
– Начинайте! – скомандовал старик и привалился спиной к оконному наличнику. Зажмурился. – Приступайте, мать вашу в болоте между кочек!
Подняли мальчишки ногу его на чурку. Валенок с ноги сняли. Носок с неё стянули.
– В пим яво, носок-то, пожалуй, не суйте. Пусь на ветру малёхонько пообыгат… отопрел-то, – скрючил пальцы на ноге старик. Ногти жёлтые. Потрескавшиеся. Как глина в зной – так же. – И ту тоже… культю забросьте, – повелел старик.
Рядом с ногой легла и деревяшка. Как пушка. Выстрелил дед. Засмеялся.
– Свиньи вон в лыве, – говорит, – дак не промахнулся, так прямо в задницу и залепил той, самой жирной. Она не ваша ли, Володька?
– Дед Игнат, тебе щепочкой?
– Пятку шшепочкой – конешно, а подошву – когтями, дак чё.
– А проволокой?
– Проволокой нельзя. Как можно ей – жалезная, – встрепенулся старик, открыл глаза. Ощупал ими руки мальчишек. Закрыл снова. – Поехали. Володька! Отстань, по-путнему прошу тебя, от кобеля… пятака не увидишь. А и её ишшо не дам, зарплату.
Засуетились мальчишки. По очереди скребут щепками пятку деду. Щекочут подошву ему пальцами.
– О-о-о-ой, ой, ой! Мать вашу в болоте! О-о-о-оах, хорошо, да как ещё хорошо-то, просто: ра-а-адось… А пошибче-ка пяточку, пошибче её, старую. Так, так её. О-о-о-о-о-о. Занозу-то не вгоните… Вот так, вот так исхоженную, об землю сплюснутую. Ой-е-ёй-ох, деньги зарабатывают. Ой-е-ё-ах, конфет-пряников накупят. В кино военное сбегают, ох-ой, труженики, шпиёнское поглядят, махорочкою вкусно обдымятся.
– Хватит, может, деда, а?
– Дак пашто это?! – приоткрыл – слезятся – глаза. – По гривенному ещё не заробили. Чё мамки скажут, грабит, дескать, Игнат Пшеничкин, подзаработать толком ребятишкам не даёт, мол…
– Прошлый раз мы и то меньше тебе чесали.
– Прошлый раз я вам деньги раньше выдал. И дурак был, говорил уже, признался. Неправильно было с моей это стороны. Не жалаете – дело ваше. Других сыщу, ведь тока свистни… мальцов безденежных-как воробьёв вон… О-о-о-о-о-ой, ой, ой, мило-любо… другой, жаль, нет, а то бы вовсе… Вовка! Шельмец. Не трожь награды – пятак не получишь. Свои заслужишь, с теми цацкайся. Своих-то, правда, вряд тебе когда видать, в тюрьме наградами не жалуют… О-о-а-а! По два гривенника уже, так считаю. Шибче, шибче. Ну и ребятишки, ну и старальщи. Не здря сосали титьки мамкины, толк из вас вышел. Ещё копейки по две. Ох, раз-зорите вы старика – на поминки гроша не оставите. Сёдня Петров день, та-а-ак. Через три дни у меня – «За боевые заслуги». За день до Ильи – орден Красной Звезды. Дожжа не окажется, дак в это же время милости просим. Шашнадцатого числа – «За отвагу». Прошу пожаловать. О-о-ой, хорошо-как-замечательно. Денег на вас не напасёшься. Чё дальше – после, доживу ежлив, дак скажу… Там, глядишь, и Спас… Жаль, что царский-то когда, день точно не припомню… знаю, что осенью, а вот когды?..
– Хватит, дед Игнат. Руки уж пристали.
– Ну а ещё-то на копеечку, то вдруг где не достанет… Атам и с Богом. В магазин. Чё в магазине этом тока нету… А иной раз из-за копеечки – нет её малой – и слатости какой не купишь – обидно.
– Всё-о-о, не можем больше, руки вон уж онемели.
– Да всё ли? Это на полкопеечки. Ну да будет, уж и вправду, приневоливать не стану, не мучитель. И то потрудились. На славу. Обувайте. О-о-ох, жизь – вроде и дар, а истое томно, а деньги – те и вовсе семючки, не семючки, а скорлуха… С австрийцами, учил Суворов, не водитесь – ну их.
Обули деда. Достал дед из кармана монеты. Долго то с той, то с другой стороны каждую разглядывал. Расплатился. Вовке на ладонь – отдельно пятак. Присвистнул Вовка, кулак свой конопатый сжал. «Хапуга», – сказал ему дед. «Хм», – ответил Вовка.
Прочь взапуски они, мальчишки. Пятки у них мелькают – грязные. За углом скрылись.
Откинулся к стене старик. Тёплая. Задремал. Дремлет пёс. Разбрелись от завалинки куры. Щиплют траву. Шевелятся синие губы старика – во сне бормочет:
– Шутя две германские отбрякал, вторую – дак особливо, шутя двенадцать рублёв пензии приносят на дом – как генералу, дак чё… Шутя маленькую купил, шутя уже и остограммился… Шутя Дуню похоронил… Дунину жакетку под голову подкладываю… мягкая, как Дунина душа… Из яё, из жакетки, Дуня мне подушечку для медалей выкроила… Ноги у Дуни в зелёных жилках, жилки с синими узелочками. Как на вышивке, дак чё. Пусь подушечку мне на грудь, как Рокоссовскому… Не увидела Дуня этой – к тридцатилетию… недавно отметил… красивая. Да и с ребятами коль встретишься, дак чё – не стыдно… ох, сынулечки – много вас было – как начну считать, дак и сбиваюсь… И Шарика рядом, пусь сторожит, хошь и засранец… Его бы, правда, постерёг кто, а то бельмо вороны выклюют. Может, там оклемается… Кто знат?
Нашлось бы тут похоронить кому нас. Разве кто из суседей сжалится… Ох, соскучился. Ох, стосковался. – Борода мотается. – Ох, а устал-то… И чё Он дёржит, а не приберёт-то?..
И уж выезжает из ельника на гнедом коне в белой, длинной холщовой рубахе отец Игната. Верхом Пшеничкин Иван Елисеевич. Серпом усы. Борода наковальней. Уздечка в одной руке. Другой рукой коня по ушам лупит. За конём борона волочится, зубьями стерню дерёт – новая борона, железная, в Исленьске за зерно приобретённая, ну так – во время нэпа.
– Э-эй, тятенька, опять ты, вижу, за своё, – качает головой Игнат укорительно. – Всё бы и диковал.
– Дикую, Игнаха, ой и дикую, мать честная. Забил до полусмерти баб обеих, теперь вот конишку почём здря лупцую. И когда всё это только кончится, не знаю. А ты-то как тут, парень, а?
А Игнат будто и не смотрит на отца. На солнце, прищурившись, глядит. И говорит как бы так – нехотя:
– А ты вот, тятенька, всё бы и спрашивал. И любопытный же. Ну, чё вот я тебе могу сказать? Ну, чё? – И теперь уж в глаза отцу Игнат глянул. И совестно ему за грубость свою сделалось. – Ну как, как, – отвечает, – да так вот – шутя. Сдохнуть никак вот тока не могу – ни шутя, ни сурьёзно. Да и чё, еж-лив ты и там такой же, каким был здеся?..
– Эх, Игнаха-Игнаха, драть тебя некому, а мне – некогда. Я ведь всё как? Я ведь всё, парень, на ходу. На ходу родился, не родился, а выпал, да ладно, что на пожню, а не об пол, а то башкой бы повредился… на ходу жил, на ходу и помер. Был ты у меня, а какой – дурак или умный, ленивый али работяш-ший – и того не помню.
Пляшет по стерне борона. Лупит коня Пшеничкин Иван Елисеевич рукой по морде. Танцует под ним конь. И через речку ать галопом. И через польцо после. И в гору. И конь уж большой такой – ельника выше. А Пшеничкин Иван Елисеевич оглядывается на сына и гогочет.
– Ну, дикой, ну, дикой, ну, заполошный, – качает головой Игнат Пшеничкин. – Как был сдрешным, сдрешным и остался, никакой чёрт с котлами и сковородками яво не исправил. Дак чё уж.
Уходит на другую сторону солнце. Прощается со стариком. Пихтовый домик тень на завалинку кинул. Затрясло пса. Стонет. Разбудил Пшеничкина Игната.
– Чего, шелудивый? Вставай, хватит дрыхнуть. Простынем, чего доброго, кто лечить будет? Подымайся. Пойдём в избу.
Замигал бельмами. Поднялся кое-как пёс. Дрожит на ногах.
– Иди-иди. Думашь, что чё – что я к тебе, ли чё ли? Велика честь, барин, будет, ишь ты, удумал тоже. Давай, давай, сам управляйся.
Побрёл по завалинке – хвост по земле. Едва равновесие держит. Ткнулся носом в руку старику. Заплакал.
– Не реви тут, сволочь, без тебя тошно. До завтра-то уж кого. Ночь – не век, доживём – погреемся… ежлив солнце – то ещё нам не подпакостит, канешно.
Спустился старик. Отряхнул штаны. Взял с фанеры подушечку. Пересчитал награды: кто, мол, знает, ушлый малый этот Вовка – и стибрит как, не уследишь. Засунул подушечку за пазуху. Застегнулся. Долго застёгивался. Устали пальцы. Не проснулись ли ещё? – а что, бывает. Обхватил пса поперёк туловища, снял с завалинки. Поставил на поляну.
– Ух уж и навозу-то в тебе – тонна. Грыжу через тебя заиметь – не хватало. Кормить надо меньше – сам тут дурак – разбаловал. А перед Богом бы не отвечать, совсем бы не давал тебе ни крошки – сдохни, дак чё, никто бы и не вспомнил. Супок этот ты сёдня не получишь… пожалуй. Сам съем, один – в пустом брюхе уместится. Завтре, может, и не понадобится, всё ведь оно так: вечор с ним щи хлебал, а утром киселём яво поминал, так, нет, ли чё ли? А, выстар, чё молчишь-то?.. Обиделся, ли чё ли? Дак на обиженных-то, знашь…
Пошли: впереди – пёс, хозяин – сзади.
– Шевелись, шевелись, не путайся. Плетёшься, как жерёбый.
Ткнул ворота. Повалились. Ушиблись о забор крепко. И тому, забору, больно: содрогнулся.
– Долго тебя ждать? Сколь тут? Через подворотню-то уж сам, небось, переберёшься. В конец разленился. Отец – тот жив бы был, дак нянчиться, как я, с тобой не стал бы, порешил бы быстренько, и глазом не моргнул бы. Таскай его тут на руках. Ишь, в моду взял, свыкся. Вот завтре в избе оставлю, а то, надумаю за ночь, и в «Инвалидку» сдам тебя, гадёныша. Ну дак а чё – вконец извёл уж.
Перевалился пёс через подворотню. Исчез. Зашёл в ограду старик. Отвёл от забора ворота. Отпустил. Хлопнули. Отлетела от них доска.
– Нечистая. Из-за тебя всё, слепошарый, – высунул голову в прогал. – Завтре первым долгом доску приколотить, забуду, дак напомяни.
Пропал из виду. Ушёл было. Вернулся. Просунул в щель руку. Затянул в ограду доску.
– Упрут ещё. Народец-то… льдину найдёт, дак ту домой уволокёт, а там, хрен с ней, пусь и растает – лишь бы кому другому не досталась. Ясно.
В ограде разговор. Непонятен.
В новую дыру видна высокая, густая трава. Не колышется. Давно там растёт: привыкла.
1982
Пасека
Такое дело вот: сибирский знойный день. Тишину разыгрывает дуэт: гудящий, до белёсости раскалённый воздух и взвешенная в нём шелестящая пыль, вспугнутая изредка пробегающими по тракту грузовиками и легковушками, – спелись, что называется. Время от времени в какой-нибудь перегретой коровьей голове что-то случается – корова вытягивает туго шею, закатывает обезумевшие вдруг глаза и своим протяжным, бездумным, как кажется, рёвом сбивает дуэт с толку. И, словно расстроенные фисгармоники, нет-нет да и вступят чахлые блеяния обмеченных репейником овец, слоняющихся по селу в поисках окурков, пачек из-под папирос, выброшенных кинобилетов – словом, что подвернётся – для жвачки. И уж вовсе фальшиво, с вредительской будто целью, в мелодию яланского летнего дня врываются протяжные гудки машин, с помощью которых взмокшие от жары и досады шофёры тщетно пытаются согнать с дороги стадо. Стадо невозмутимо, еле-еле пошевеливает грязными хвостами, отпугивая назойливых слепней и паутов. Над стадом крепкий аммиачный дух витает, висит – вернее. Тот или иной водитель высовывается по пояс из кабины, лихим словом поминает скот, его хозяев, хозяйскую душу и саму деревню, как конкретно, то есть Ялань, так и вообще. Кажется, это последняя капля в терпение музыкантов, после которой явный бунт: воздух перекаляется, а взвешенная в нём пыль бездвижно замирает – и теперь любой звук в них глохнет. Видно, поэтому молчат собаки умные. Распластавшись на засолнечных завалинках, под телегами, за поленницами, высунув языки и пуская слюни, они дышат, как финишировавшие бегуны, безучастно поглядывая при этом на самозабвенно клохчущих куриц. Кто-то где-то говорит, кричит ли даже, но эхо в зной не работает, и слышится всё едва-едва. В иную минуту думается, будто Ялань вымерла. Но ничего, слава Богу, подобного. Яланцы – в самые пекучие часы ¾ ибо дремлют в прохладных сенцах, либо пьют без устали простоквашу, по-ялански «простокишу», и хлебают окрошку, доставленную ими же из погребков.
Только во дворе пчеловодов Треклятовых, несмотря на пекло лютое, суета, только там людское оживление. Сам хозяин, Прокопий, сидит на пыльном крыльце, курит трубку и пускает в белёсое небо вялый, ленивый дым. Суетятся его жена Аграфена и дети.
Аграфена, перебирая на возу манатки и провизию, вслух вспоминает:
– Крупу… взяли. Хлеба… взяли. Капканы… взяли. Соль… соль… а где?., а, да, взяла. В бидон запрятала, уж и забыла… Прокопий! Тебя к крыльцу-то воском, чё ли, прилепили! Патронташ не забудь. Сразу вон на телегу положи его, к ружью, лежи он тут. А то так и уедешь… Тама-ка где-то он, в кладовке, на гвозде…
И, зверь где ее лив, трубкой пукать – пугать его будешь. Не приведи Господь. Да подымись ты, трутень окаянный!.. Крупу… взяли. Хлеба… взяли…
Два мальчугана, погодки – свидетельства Аграфениной верности супружеской, – такие же рыжие и носатые, как Прокопий, запрягают лошадь. Лошадь спит. Прокопий, посмеиваясь через трубку, наблюдает за сыновьями и поддразнивает старшего:
– Вовка, а ты пошто её боишься-то?! Ей, баушке, сено жевать нечем, не то что твои уши, на твои уши зубы-то нужны какие – жалезные. Спалкал бы вон лучше, патронташ мне вынес – один хрен запрягать не умешь – как стрижа в кулёмку путашь.
– Ну дак как же! Тебе мамка велела, ты и иди, нечего на другого перекладывать. А запрягать тебя ещё научу, – огрызается Вовка. И язык высунул, хомут стягивая.
Прокопий фыркает довольно.
– Под носом вон ещё – лягушек хошь плоди, учитель хренов.
Аграфена, убедившись в наличии всего необходимого, накрывает воз брезентом и, увязывая его старыми вожжами, голосит, будто заблудилась:
– Катька! Надька! Нинка! Девки, где вы, а?! Идите-ка сюды!
Из дома друг за дружкой выходят три девочки и, прищурившись на солнце, становятся за спиной отца. Мать, не оборачиваясь и не отвлекаясь от того, чем занята, говорит им:
– Морковь продёргайте, барыни, горох прополите и картошку с воскресенья тяпать начинайте. Пора уж. Перерастёт. Да свиней, смотрите, в гряды не запустите, а то устроят тут… всё перепашут!
Потом, время выберете, и дустом в куте посыпьте, следите только, чтобы Манька с Юркой заместо сахару им не объелись, как вон у Лебедевых… ихний-то мальчишка, Царство Небесное рябёнку.
– Во, пулемёт-зенитка, ну, зараза, оглоушила, – вставляет Прокопий, выбивая о плаху крыльца свою трубку.
Аграфена пропускает это мимо ушей.
– Телёнка – пусть не на улицу, но на пригон хошь выпускайте. В стайке-то всё, дак уморится и подохнет.
– А-а-адно, – нараспев обещают девочки.
– Чего же ещё-то? – напрягает Аграфена память, вытирая платком пот с лица. – Голова, как кумпол прямо… А!.. Петьку по ночам будить не ленитесь, пусть хошь и так – дежурство хошь назначьте… То матрасишко весь сгноит, паршивец. И раздевайте, спать-то как ему… Ну, а ты так до ночи и будешь сидьмя тут сидеть?! Отдирай свою задницу, ехать надо, – обращается она к мужу.
– Жар-то, может, переждём, а, баба? – говорит Прокопий, поворачивается и подмигивает дочкам.
– А ты бы всё пережидал, век бы и сосал свою соску, – говорит Аграфена и добавляет: – Не восковой – не расплавишься.
Прокопий, кряхтя нарочно громко, поднимается, отрясает со штанов сзади пыль и исчезает в сенях, через некоторое время выходит оттуда, спускается с крыльца и издали ещё бросает патронташ на воз.
– Бросай, бросай, ненормальный… Может, когда-нибудь взорвутся. Ребятишек-то вот захлестнёт, – предупреждает Аграфена.
– Дура, – говорит Прокопий.
Проверив упряжь, он садится на телегу. Аграфена подстилает старый ватник и устраивается с другой стороны.
– Ружьё не согни, баба.
– Не загнётся твоё ружьё.
– Да кто и знат. Аграфена!
– Ну?
– Телегу-то как осадило. Вовка, глянь-ка, ось под матерью не треснула там?
– Ты не мели-ка чё попало, – одёргивает Аграфена мужа. – Я-то думала, чё путнее он.
– Ну, ночной рыбак, – возглашает Прокопий, – отворяй ворота!
Петька, от удовольствия зияя ртом беззубым, спешит исполнить отцовское приказание.
И вот Прокопий и Аграфена выезжают со двора. Два мальчика и три девочки стоят возле ворот и вяло машут родителям руками. Мать, увидев в окне прощающихся Маньку и Юрку, грозит им пальцем – на всякий случай. Отец оглядывается и строит двойняшкам рожу. Те, повизгивая, влипают лбами в стёкла. Вдруг, вспомнив что-то, Аграфена кричит старшим:
– В кино будете убегать – избу замыкайте! Бандюг-то мало ли теперь тут всяких шлятца! А лучше и не ходите! Дома играйте! Нечего маленьких одних оставлять – себя и избу ещё спалят, помилуй Господи! Витька объявится, передайте, как приеду, всыплю ему как следует за то, что смотался!
– Да не ори ты… Кобылу вон перепугала.
– Ничё с ней, с твоей кобылой, не случится, заикой-то не станет.
– Да хрен и знат.
До леса едут по тракту. Горячий воздух сушит во рту. Обычно речистая и большая охотница до житейских фантазий и мечтаний, Аграфена безмолвствует. Неизвестно, сколько бы длилось молчание, возможно, что и до самой пасеки, если бы не одно обстоятельство. За только что кончившейся пустынной улицей, где даже в окно на шум проезжающей телеги никто не выглянул, недалеко от дороги на поседевшей от пыли полянке увидела Аграфена спящего мужика и с интересом принялась разглядывать его скомканный и скрученный на спине пиджак, одну в кирзовом сапоге, другую босую – ноги, руки, вывернутые так, будто плясал, плясал мужик да и упал, уснув прямо в пляске, и его бурые от глины штаны. Аграфена изучила тщательно объект и зафиксировала в памяти некоторые детали – на случай будущего рассказа. Не Прокопию – кое-кому. По дальности расстояния закончив осмотр, она сказала:
– Убайкался, горемыка, – сказала так и ткнула локтём в спину мужа.
– Чего?
– Смотрел?
– Смотрел.
– Куда?
– А куда надо?
– Такой же, как ты.
– Кто?
– Да вон, проехали-то… На пляже-то как который распластался. Уж будто и не ви-идел…
– А-а-а.
– Знать бы, на что человек пьёт?
– Нравится, вот и пьёт.
– Я говорю, на какие такие шиши?
– Не на твои же.
– Ага, ещё бы на мои! Мне одного такого вон по горло… И ничего с ним не случится, с паразитом.
– А чё тако случиться с ним должно?
– Путнего человека давно бы уж ударило. Солнце-то, слава Богу, ишь наяриват как.
– Ударило же! Не ударило бы, не лежал бы там.
– Дак как же! Вас, пьяниц, никака холера не берёт.
– Взяло же мужика.
В другое время Аграфена с азартом бы продолжила разговор, тему эту она за свою жизнь отработала и отшлифовала, но сейчас – язык непослушен, мысли в клубок будто спутались, а распутать их – сил нет – жарко.
Вот пчеловоды съехали с тракта на конную, травянистую дорогу. Ялань постепенно, дом за домом, скрывается за лесом, вернее, лес, медленно смыкаясь, прячет от уезжающих деревню. Аграфена и Прокопий, последний раз кинув на неё взгляд и мысленно с нею попрощавшись, натягивают на лица сетки, спасаясь от облепивших сплошь их сразу комаров.
– Комар сеягод дурной, язви яво, – говорит Аграфена. – Слепня – того вроде не так, а этого гада – эвон чё – тучи. И пекло им такое нипочём.
– Хватат, – рассеянно поддакивает жене Прокопий.
– Лонись поменьше вроде было… Узнал его ты, нет? – резко вдруг на другое переходит Аграфена.
– Кого его? – будто бы не догадывается Прокопий.
– Того, на полянке… как пугало-то будто уронили.
– А-а-а.
– Узнал?
– Нет. Бич, ли чё ли, какой? Или вербованный? – ¾ хитрит Прокопий.
– Ну дак конечно, – простодушно отрицает Аграфена.
– Ну дак а кто? – пытает он.
– Костя! – торжественно объявляет она.
– Какой Костя?
– Какой, какой! Один у нас такой. Чекунов.
– Да иди ты! Шурин, значит, – удивляется якобы Прокопий.
– Марью жалко… хошь и брат, – вздыхает Аграфена.
– Не разрыдайся.
– Прокопий.
– Чего?
– Жара-то такая – роёв, наверное, повылетало…
– Наверно. В город не надо было…
– Жалко.
– Жалко у пчёлки знашь где… Чё теперь – бегать по тайге за ними, собирать?
– А хошь и бегай, собирай. Связался с этой пьянкой! Давно бы уж…
– Приедем – и бегай. Носись на здоровье хошь всю ночь… Но только ботало надень на шею, чтоб потом искать тебя было легче – к утру-то куда ускачешь… до китайской границы. – Прокопий разгладил под собой сморщившийся брезент, разгладив, добавил: – Говорил же, Витьку на пасеке оставить, и следил бы.
– Ага, твоёва Витьку и оставишь. У Витьки одни девки науме… Весь в тятю своёва, голимый…
– Аграфена, Аграфена! Смотри-ка, кобыла-то чё утворят!
– Тьфу на тебя! Ты, мужик, чё-то чем старе, тем дурне становишься, ага.
Плюнув на личинку сетки-накомарника, Аграфена отвернулась, а Прокопий – тот живо и без шороха достал из внутреннего кармана пиджака распечатанную бутылку портвейна, скрыл её под сеткой, затем, вынув зубами бумажную затычку и перехватив её в руку, тихо приложи лея, между глотками отстраняя ото рта посудину и приговаривая:
– Смотри, смотри. Экая прорва, ни стыда в ней и ни совести – прямо в лицо-то людям. И откуда чё?! Ты глянь-ка!
Аграфена, бранясь, опять плюётся.
Прокопий, насытившись и заткнув бутылку, хоронит её на место, затем, стегнув вожжами, понукает лошадь:
– Нну-у, пошла. Хватит уж тебе, а то и нутренности на дороге все оставишь.
Кобыла чуть лишь ускоряет ход, но вскоре возвращается к своему прежнему неторопливому шагу. Колёса телеги, повизгивая на осях, проваливаются в глубокие колеи, медленно из них выкатываются и оставляют на траве узкий, мокрый след.
– В осиннике вон, в земле-то ещё влага держится.
– А?!
– Ты чё, баба, уснула, ли чё ли? Я говорю, в колеях, поглубже где, вода ещё стоит.
– Ну дак а чё ты хошь: осинник – в ём так от веку… раз в ём Июдаудавился, оттого и сырось.
Тоненько нудит гнус. Где-то в ельнике, потея, долбит дятел. Из усохшего пырея вылетают мелкие пичуги, спасающиеся в нём от пекла и от ястребов. А возле самого солнца висит коршун и, уже отчаявшись, похоже, просит у неба пить. Пить ему небо не даёт – раз вёдро.
Перед крутым подъёмом на сопку Аграфена поворачивается к Прокопию и спрашивает:
– Мне слазить?
Не спроси Аграфена, промолчал бы и Прокопий, но…
– А чё, подсказывать всё надо!.. Кобылёнка бы себя-то, дай Бог, как вташшыла.
Женщина спрыгнула с телеги и, придерживаясь за неё одной рукой, другой – обмахивая лицо сдёрнутой с головы сеткой, засеменила следом. На горе снова забралась на воз, шумно отпыхиваясь и, накидывая сетку, забормотала:
– Ой… батюшки мои… ой, душа-то чуть было ни вон… ох, живот-то чуть не отвалился…
– Ну, уж не помирай. – Прокопий так ей. – Тебе полезно изредка размяться.
– Ой… потом-то как сразу прошибло… Полезно! Не девочка уж, наверно.
– Не наверное, а точно… да и давно уж.
Телега загремела на спуске. Обдаёт ветерком.
Овод отстал и роем вьётся вдогонку.
– Благодать. Вот так-то бы обдувало – какая бы красота. А то как в котле стоит.