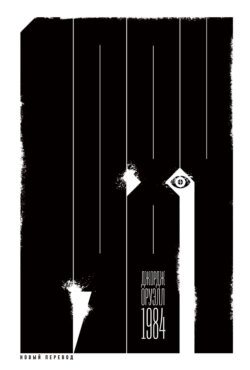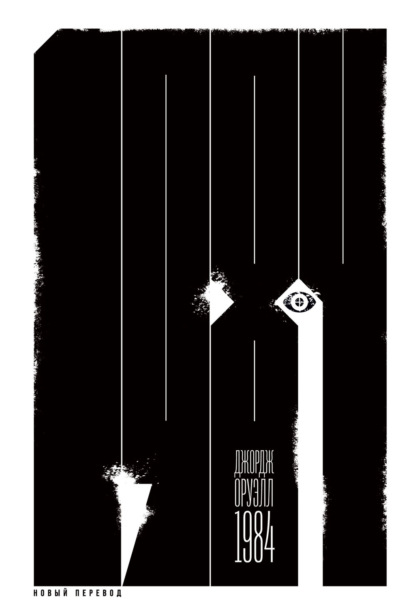Ночью, арестовывают неизменно ночью. Рывком из сна, грубая рука трясет за плечо, яркий свет в глаза, кольцо суровых лиц вокруг постели. В подавляющем большинстве случаев – никакого суда, никаких оповещений об аресте. Люди просто исчезают и всегда – в ночь. Имена вычеркиваются из списков, все следы стираются, само существование человека сначала отрицается, а потом забывается. Человека отменяют, обращают в ничто – «испаряют», так это принято называть.
На мгновение Уинстон впал в некое подобие истерики. Начал писать торопливо, неряшливо:
меня расстреляют ну и наплевать пустят пулю в затылок наплевать долой старшего брата они всегда стреляют в затылок наплевать долой старшего брата…
Уинстон откинулся на стуле. Ему стало немного стыдно за себя, и он отложил ручку. А в следующую секунду содрогнулся всем телом: в дверь постучали.
Уже! Он сидел тихо, как мышь, в напрасной надежде, что кто бы это ни был уйдет, не дождавшись ответа. Но нет, стук повторился. Тянуть время – хуже не придумаешь. Сердце Уинстона стучало, как барабан, но лицо по давней привычке ничего не выражало. Он поднялся и, тяжело ступая, направился к двери.
2.
Лишь взявшись за дверную ручку, Уинстон заметил, что оставил на столе открытый дневник, весь исписанный словами «Долой Старшего Брата», да так крупно, что их почти можно прочесть с другого конца комнаты. Невообразимая глупость. Он знал, однако, что даже в панике не захотел испачкать кремовую бумагу, захлопнув тетрадь, пока чернила еще не высохли.
Он втянул в себя воздух и открыл дверь. Тут же его накрыла теплая волна облегчения. Снаружи стояла бесцветная, погасшая женщина, морщинистая, с редкими волосами.
– Товарищ, – заныла она тоскливо, – не зря мне послышалось, что вы вернулись. Вы не зайдете к нам взглянуть на раковину в кухне? Засорилась она у нас, ну и…
Миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Слово «миссис» партия не очень-то одобряет, всех надо называть «товарищ», но к некоторым женщинам непроизвольно обращаешься так и никак иначе.) В свои примерно тридцать она выглядела намного старше. Казалось, в ее морщинах скопилась пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Ремонт подручными средствами – почти ежедневная морока. Апартаменты «Победа», где-то 1930 года постройки, постепенно разваливаются. С потолков и стен постоянно сыплется штукатурка, при каждом серьезном морозе лопаются трубы, крыша течет всякий раз, как выпадает снег, отопление работает в половину мощности, и то когда не отключено из экономии. На любой ремонт не своими силами требуется разрешение далекого начальства: так и оконное стекло можно вставлять два года.
– Я только потому прошу, что Тома сейчас нет, – вяло оправдывалась миссис Парсонс.
Квартира Парсонсов – побольше, чем у Уинстона, и тоже запущенная, но по-другому. Все здесь выглядит побитым, потрепанным, словно в квартире только что побывал большой разъяренный зверь. Повсюду валяется спортивный инвентарь – хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, – а стол завален грязной посудой и растрепанными тетрадками. На стенах – алые знамена Молодежного союза и Лазутчиков, полноразмерный плакат со Старшим Братом. Пахнет, как и во всем здании, вареной капустой, но сквозь эту привычную вонь пробивается более резкий запах пота, и отчего-то сразу ясно, что источник этого запаха сейчас не дома. В другой комнате кто-то пытается с помощью расчески и клочка туалетной бумаги подыгрывать военному оркестру, все еще звучащему из телевида.
– Дети, – сказала миссис Парсонс, c некоторой опаской взглянув на дверь. – Они сегодня не выходили, вот и…
Она все время обрывала предложения на полуслове.
Раковина оказалась почти доверху наполнена мутной зеленоватой водой, от которой особенно сильно разило капустой. Уинстон опустился на колени и осмотрел сифон. Он терпеть не мог работать руками, да и нагибаться тоже – от этого его вечно разбирал кашель. Миссис Парсонс беспомощно глазела на него.
– Конечно, если бы Том был дома, он бы тут же все починил, – сказала она. – Он такое любит. Том у меня рукастый.
Парсонс, как и Уинстон, работал в Глависте: полноватый, но подвижный, глупый до оцепенения – кретин-энтузиаст, один из тех со всем согласных, беззаветных трудяг, на которых даже больше, чем на Думнадзоре, держалась Партия. В тридцать пять лет его помимо воли выставили из Молодежного союза, а прежде чем вступить в него, он умудрился год сверх положенного возраста проходить в Лазутчиках. В главке он занимал какую-то невысокую должность, не требовавшую мозгов, но при этом доказал свою незаменимость в спорткоме и других комитетах, отвечавших за походы, стихийные демонстрации, кампании экономии и прочую общественную деятельность. Между затяжками трубкой он мог поведать вам со скромной гордостью, что каждый вечер за последние четыре года посещал культурно-спортивный центр (КСЦ) и ни разу не пропустил. Сшибающий с ног запах пота, невольное свидетельство его активной жизненной позиции, шлейфом тянулся за ним повсюду и не выветривался даже в его отсутствие.
– Разводной ключ есть? – спросил Уинстон, мучаясь с гайкой на сифоне.
– Разводной ключ, – промямлила миссис Парсонс, сразу превращаясь в амебу. – Даже не знаю. Может быть, дети…
Послышался топот и трубный звук расчески – это дети ворвались в гостиную. Миссис Парсонс принесла разводной ключ. Уинстон спустил зеленоватую жижу и с отвращением извлек из трубы комок волос. Отмыв руки, как мог, холодной водой, он вышел в комнату.
– Руки вверх! – приветствовал его дикий вопль.
Миловидный крепыш лет девяти выскочил из-за стола и грозил Уинстону игрушечным пистолетом, а сестренка, двумя годами младше, повторяла его движения со щепочкой в руке. На обоих – синие шорты, серые рубашки и красные галстуки: форма Лазутчиков. Уинстон поднял руки над головой, но с неприятным чувством, что все это не вполне игра, – с таким ожесточением нападал на него мальчик.
– Ты предатель! – закричал мальчуган. – Криводумец! Евразийский шпион! Я тебя расстреляю, испарю, в соляные шахты сошлю!
Внезапно оба заплясали вокруг него, вопя «Предатель!» и «Криводумец!»: девочка подражала каждому движению брата. В этом чувствовалось что-то пугающее, как в возне тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. Во взгляде мальчика читались расчетливая жестокость, явственное желание ударить или пнуть Уинстона и сознание уже почти достаточной для этого силы. Хорошо, что пистолет не настоящий, подумал Уинстон.
Миссис Парсонс беспокойно переводила глаза с Уинстона на детей и обратно. В ярко освещенной комнате он с любопытством заметил, что в ее морщинах и правда скопилась пыль.
– Уж так расшумелись, – сказала она. – Расстроились, что не попадут на казнь. Мне их вести некогда, а Том слишком поздно с работы вернется.
– Почему нам нельзя на казнь? – крикнул мальчик своим звучным голосом.
– Хочу на казнь! Хочу на казнь! – скандировала девочка, все еще прыгая по комнате.
Вечером в парке собирались вешать евразийских пленных – за военные преступления. На это популярное зрелище люди стекаются примерно раз в месяц. Дети всегда на него просятся. Уинстон попрощался с миссис Парсонс и направился к выходу, но не успел он пройти и шести шагов по коридору, как ощутил невыносимую боль в шее. Ее будто проткнули раскаленной проволокой. Развернувшись, он успел увидеть, как миссис Парсонс затаскивает сына в квартиру, а он прячет в карман рогатку.
– Гольдштейн! – заорал мальчуган, перед тем как закрылась дверь. Но Уинстону запало в душу главным образом выражение беспомощного ужаса на сероватом лице женщины.
Дома он проскользнул мимо телевида и снова уселся за стол. Музыка в телевиде прекратилась. Вместо нее четкий командный голос стал с каким-то жестоким наслаждением описывать вооружение новой плавучей крепости, которую только что поставили на якорь между Исландией и Фарерскими островами.
С такими детьми, думал он, несчастная тетка наверняка живет в постоянном страхе. Еще год-два, и они будут наблюдать за нею день и ночь, высматривая признаки неправоверности. Почти все дети теперь – просто ужас. Хуже всего, что организации вроде Лазутчиков планомерно превращают их в неуправляемых маленьких дикарей, но это не воспитывает в них никакой склонности к бунту против партийной дисциплины. Наоборот, они влюблены в Партию и все, что с ней связано: песни, шествия, знамена, походы, строевые упражнения с деревянными ружьями, скандирование лозунгов, поклонение Старшему Брату. Все это для них чудесная игра. Их ожесточение направлено вовне – на врагов Государства, на иностранцев, предателей, вредителей, криводумцев. Бояться своих детей – едва ли не обычное дело для тех, кому больше тридцати. И это не зря: не проходит и недели без коротенькой заметки в «Таймс» о малолетнем соглядатае – «маленьком герое», как их обычно называют, – подслушавшем какую-нибудь нескромную реплику и сдавшем родителей Думнадзору.
Боль от рогаточной пульки утихла. Уинстон вертел в руках ручку, прикидывая, не записать ли еще чего-нибудь в дневнике. На него вдруг снова нахлынули мысли об О’Брайене.
Как-то давно – лет семь назад, не меньше – Уинстону приснилось, как он идет по совершенно темной комнате и вдруг кто-то сидящий в стороне произносит: «Встретимся там, где нет тьмы». Произносит очень тихо, почти буднично, как утверждение, а не как приказ. Уинстон продолжал идти, не останавливаясь. Любопытно, что тогда, во сне, слова не произвели на него большого впечатления. Только позже они стали постепенно наполняться для него смыслом. Сейчас он уже не помнил, когда – до или после сна – впервые увидел О’Брайена, не помнил, когда опознал голос из сна как принадлежащий О’Брайену. Однако опознал. Это О’Брайен говорил с ним из темноты.
Уинстон никак не мог решить, друг ему О’Брайен или враг, – даже несмотря на искру, проскочившую между ними утром. Но это и не имело значения. Между ними возникло взаимопонимание, более важное, чем приязнь или общность взглядов. «Встретимся там, где нет тьмы» – так он сказал. Уинстон не знал, что значит это предсказание, – но оно когда-нибудь, как-нибудь да сбудется, это точно.
Голос из телевида вдруг умолк. Звук трубы, звонкий и чарующий, разнесся в застоявшемся воздухе. Голос продолжал надтреснуто: «Внимание! Прошу внимания! Только что поступило срочное сообщение с малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали славную победу. Я уполномочен заявить, что текущие события могут в обозримом будущем привести к окончанию войны. Итак, передаем срочное сообщение…»
Сейчас будут дурные вести, подумал Уинстон. И правда, за полным кровавых подробностей рассказом об уничтожении группировки евразийских войск и огромными цифрами убитых и сдавшихся в плен последовало объявление, что со следующей недели по карточкам будут выдавать не тридцать граммов шоколада, а двадцать.
Уинстон снова рыгнул. Джин уже почти выветрился, оставив лишь ощущение подавленности. Телевид, то ли в порядке празднования победы, то ли чтобы перебить память об утраченном шоколаде, разразился гимном – «Океания, все для тебя». Под него полагалось стоять по стойке смирно. Однако Уинстон сейчас невидим.
Гимн сменился более легкой музыкой. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телевиду. День по-прежнему стоял холодный и ясный. Где-то далеко с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Сейчас на Лондон падает по двадцать – тридцать таких в неделю.
На улице ветер трепал порванный плакат, и слово «Англизм» то появлялось, то исчезало. Англизм. Священные принципы англизма. Новоречь, двоедум, изменяемость прошлого. Уинстону казалось, он бродит по морскому дну в гуще водорослей, провалившись в какой-то чудовищный мир, в котором и сам он чудовище. Он совсем один. Прошлое умерло, будущее невообразимо. Кто из ныне живущих – на его стороне, есть ли хоть одно такое человеческое существо? Как знать. И как знать, сколько еще продержится владычество Партии – может быть, вечно? Ответом ему стали три лозунга на стене Главного комитета истины:
ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА
Уинстон вынул из кармана монету в двадцать пять центов. И на ней мелкими, но четкими буквами выбиты те же три лозунга, а на другой стороне лик Старшего Брата. Даже с монеты его глаза следят за тобой. Эти глаза везде – на деньгах, марках, обложках книг, транспарантах, плакатах, сигаретных пачках. Они наблюдают, а голос обволакивает. Во сне и наяву, на работе и за едой, дома и на улице, в ванне или в постели – не скрыться. Нет ничего своего, лишь несколько кубических сантиметров внутри черепной коробки.
Солнце переместилось на небосклоне, и мириады окон в Глависте, лишенные отблесков света, казались бойницами крепости. Сердце Уинстона дрогнуло при виде гигантской пирамиды. Она слишком огромна, штурмом такую не взять. И тысяча ракет не сможет разворотить эту глыбу. Уинстон снова задумался, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого – для какой-то воображаемой эпохи. А его ждет не просто смерть – полное уничтожение. Дневник станет пеплом, а сам он – облачком пара. Только Думнадзор прочтет написанное им, прежде чем вымарать из жизни и из памяти. Как можно взывать к будущему, если все твои следы, даже слово, анонимно нацарапанное на клочке бумаги, будут навсегда стерты?
В телевиде пробило четырнадцать. Через десять минут пора выходить: на работе надо быть к четырнадцати тридцати.
Удивительно, но бой часов словно вернул ему храбрость. Да, он одинокий призрак, проповедующий истину, которую никто не услышит. Но пока она звучит из его уст, ее преемственность таинственным образом сохраняется. Чтобы передать наследие человечества следующим поколениям, необязательно, чтобы тебя слышали, – достаточно не терять рассудок. Он вернулся к столу, окунул перо в чернильницу и записал:
Прошлое или будущее, эра свободной мысли, время, когда люди разные, а одиночества нет, время, когда существует правда, а что сделано, то сделано, – из эпохи единообразия, эпохи разобщения, эпохи Старшего Брата, эпохи двоедума – привет тебе.
Я уже мертв, подумалось Уинстону. Кажется, только теперь, только обретя способность формулировать мысли, он сделал решающий шаг. Последствия – неотъемлемая часть любого поступка. Он записал:
Криводум не ведет к смерти. Криводум и есть смерть.
Теперь, когда он признал себя мертвецом, для него стало важно как можно дольше оставаться в живых. Два пальца на правой руке выпачканы чернилами: вот такая мелочь и может выдать. Вдруг какой-нибудь ревностный соглядатай в главке (наверняка женщина – например, та, рыжеватая, или вот темноволосая девушка из сектора художественной литературы) задумается, зачем он писал в обеденный перерыв, почему старомодной ручкой, что именно писал, – и стукнет кому следует. Уинстон зашел в ванную и тщательно соскреб чернила шершавым темно-коричневым мылом, которое драло кожу, как наждак, и потому прекрасно для этого подходило.
Дневник Уинстон убрал в ящик стола. Прятать его бессмысленно, но надо хотя бы знать, стало ли кому-то известно о существовании тетради. Положить волос на корешок – слишком очевидно. Он подобрал на кончик пальца крупную белесоватую пылинку, которую смог бы потом узнать по форме, и посадил ее на угол тетради: будут двигать дневник – непременно ее стряхнут.
3.
Уинстону снилась мать. Ему было, наверное, лет десять-одиннадцать, когда она исчезла. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавными движениями и роскошными светлыми волосами. Отца он помнил хуже. Смуглый, худой, отец всегда носил опрятный темный костюм и очки. Уинстону помнились очень тонкие подошвы отцовских туфель. Родители, очевидно, попали под одну из первых больших чисток пятидесятых годов.
Мать сидела где-то далеко внизу, держа на руках сестренку Уинстона. Сестру он вовсе не помнил – так, слабенький тихий младенец с большими внимательными глазами. Обе смотрели на него снизу вверх, откуда-то из-под земли – со дна колодца или из очень глубокой могилы, – и опускались все ниже. Нет, они в каюте тонущего корабля, глядят вверх сквозь темнеющую толщу воды. В каюте еще есть воздух, они все еще видят Уинстона, а он их, но они погружаются глубже и глубже в зеленые воды, которые скоро скроют их навсегда. Там, где он стоит, есть воздух и свет, а их засасывает в смертельную пучину. Они там, внизу, именно потому, что он здесь, наверху, – он это знает и такое же знание читает в их глазах. Но лица их не выражают упрека, они не держат на него зла, знают лишь, что должны умереть, чтобы он остался в живых, так уж устроено, и ничего не изменишь.
Он не помнил, что именно случилось, но знал, что в его сне мать и сестра пожертвовали жизнью ради него. Сон был из тех, когда присутствует характерная атмосфера сновидения, но разум как бы продолжает бодрствовать, ему открываются факты и идеи, которые и после пробуждения кажутся столь же новыми и ценными. Уинстон вдруг осознал, что смерть матери почти тридцать лет назад была трагедией, горем – в том смысле, какой теперь уже непонятен. Трагедия, чувствовал он, это что-то из стародавних времен, когда еще существовали частная жизнь, любовь, дружба, когда в семьях поддерживали друг друга без лишних вопросов. Память о матери разрывала ему сердце: ведь она умерла, любя его, а он был еще слишком мал и эгоистичен, чтобы отвечать на ее любовь. Она пожертвовала собой – как именно, он не помнил – ради нерушимой верности чему-то глубоко личному. Теперь, думал Уинстон, так не бывает. Теперь время для страха, ненависти и боли, но не для благородных чувств, не для глубокой, всеобъемлющей скорби. А именно такую видел он в широко открытых глазах тонущих матери и сестры, которые глядели на него сквозь зеленую воду с огромной глубины.
И вдруг под ногами упругая земля. Летний вечер, косые лучи солнца золотят землю. Окружающий пейзаж так часто является ему во сне, что Уинстон не уверен, видел ли его хоть раз наяву. Проснувшись, он всегда думает о нем как о Золотом поле. Это старое, попорченное кроликами пастбище с извилистой тропинкой и кротовьими холмиками. На дальнем краю поля неровная живая изгородь, ветерок едва колышет ветви вязов, еле заметно перебирает листья в кронах, густых, как женские волосы. Где-то недалеко, хоть и вне поля зрения, прозрачная, небыстрая речушка, в ее заводях под ивами плещутся плотвички.
Девушка с темными волосами идет навстречу ему по полю. Срывает с себя одежду – кажется, что одним движением – и пренебрежительно отбрасывает в сторону. Ее тело белое и гладкое, но оно не пробуждает желания, Уинстону не хочется его разглядывать. Он лишь преисполнен восхищения тем, как она отбросила одежду. Небрежной грацией этого жеста она словно уничтожила целую культуру, целую систему взглядов, будто и Старшего Брата, и Партию, и Думнадзор можно смести, уничтожить одним восхитительным движением руки. Этот жест – тоже из стародавних времен. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.
Телевид издавал оглушительный свист: тридцать секунд на одной ноте. Семь часов пятнадцать минут, время подъема для офисных работников. Уинстон рывком поднялся с кровати – голый, ведь члену Внешней партии полагалось только три тысячи купонов на одежду в год, а пижама стоила шестьсот, – и стащил со стула застиранную майку и трусы. Через три минуты Физкультурная встряска. Тут его скрутил мучительный приступ кашля, как обычно вскоре после пробуждения. Кашель выкачал из легких весь воздух, так что пришлось лечь на спину, чтобы в несколько судорожных глотков восстановить дыхание. От усилия вздулись вены, язва зачесалась.
– Группа, кому за тридцать! – затявкал пронзительный женский голос. – Группа, кому за тридцать! По местам, пожалуйста. Кому за тридцать!
Уинстон вскочил, встал по стойке «смирно» перед телевидом, на котором уже возникла тощая, но мускулистая фигура молодящейся женщины в тунике и спортивных туфлях.
– Руки сгибаем и выпрямляем, – задала она ритм. – Держим темп, раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Поживее, товарищи, раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!
Болезненный приступ кашля не полностью выбил из сознания Уинстона память о сне, а ритмичные упражнения зарядки помогали ее восстановить. Механически размахивая руками с видом мрачного удовольствия, подобающим при Физкультурной встряске, он пытался проникнуть мыслью в туманную пору раннего детства. Это оказалось невероятно трудно. Все, что случилось до конца пятидесятых, стерлось. Когда нельзя опереться ни на какие сторонние свидетельства, даже очертания собственной жизни утрачивают четкость. Вспоминаются значимые события, которых, вероятно, и не было, всплывают подробности, но не общая атмосфера, остаются большие лакуны, которые нечем заполнить. Все тогда было иначе. Даже названия стран и их очертания на карте. Авиабаза номер один, например, тогда называлась по-другому – Англией или Британией, хотя Уинстон почти не сомневался, что Лондон всегда называли Лондоном.
Времена, когда страна не воевала, Уинстон ясно припомнить не мог, но, очевидно, на его детство пришелся довольно долгий мирный промежуток, потому что одно из его первых воспоминаний – о воздушном налете, кажется, заставшем всех врасплох. Возможно, именно тогда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Он не помнил самого налета: только как отец сжимал его руку, а они бежали по гудевшим под ногами ступенькам винтовой лестницы вниз, куда-то глубоко-глубоко под землю. Под конец Уинстон захныкал от усталости, и им пришлось остановиться отдохнуть. Мать, со своей обычной мечтательной неторопливостью, сильно отстала. Она несла сестренку – или просто сверток одеял: возможно, сестра тогда еще не родилась. Наконец они вышли в шумный, заполненный людьми зал, в котором он узнал станцию метро. Люди были повсюду – сидели на каменном полу, теснились на металлических двухъярусных койках. Уинстон и его родители нашли местечко на полу. Рядом на койке сидели старик со старухой. На старике – приличный темный костюм, из-под сдвинутой на затылок черной матерчатой кепки выбиваются совсем белые волосы. Лицо его побагровело, голубые глаза налились слезами. От него несет джином. Кажется, он даже потеет алкоголем, а слезы, льющиеся у него из глаз, – неразбавленный джин. Но старик не просто нетрезв, а разбит каким-то неподдельным, невыносимым горем. Детским своим разумением Уинстон понял: с ним сделали что-то, чего он не может ни простить, ни исправить. Уинстону даже казалось, будто он знает, что именно. Погиб тот, кого старик очень любил, – может быть, внучка. Каждые несколько минут старик повторял: «Не надо было им доверять. Я же говорил, ведь говорил же, а, мать? Вот так бывает, если им доверишься. Всегда говорил. Не надо было доверять этим мерзавцам». Каким именно мерзавцам не надо было доверять, Уинстон уже не мог вспомнить.
Примерно с тех пор война шла буквально непрерывно, хотя, строго говоря, не всегда одна и та же война. В течение нескольких месяцев детства на улицах самого Лондона шли хаотичные уличные бои, и ему ярко запомнились некоторые эпизоды. Но проследить всю историю тех лет, вспомнить, кто с кем и когда воевал, у него бы не получилось – не осталось ни письменных, ни устных рассказов ни о каких военных союзах, кроме ныне существующих. Например, сейчас, в 1984-м (если и в самом деле сейчас 1984-й), Океания воюет с Евразией, заключив союз с Остазией. Ни публично, ни приватно никто никогда не признавал, что эти три державы когда-либо находились в каких-то иных отношениях. А ведь Уинстон точно знал, что всего четыре года назад Океания воевала с Остазией, заключив союз с Евразией. Но знал он это лишь втайне – лишь благодаря своей не полностью подконтрольной памяти. Официально же союзники никогда не менялись. Океания воюет с Евразией, следовательно, она всегда воевала с Евразией. Нынешний враг всегда олицетворял абсолютное зло, из чего следовало, что соглашение с ним невозможно ни в прошлом, ни в будущем.
И вот ведь что страшно, размышлял он в десятитысячный раз, мучаясь от боли в лопатках (сейчас требовалось, уперев руки в поясницу, совершать вращения корпусом – якобы полезное упражнение для мышц спины). Страшно, что все это, может быть, теперь уже правда, – все, что нам врут. Если Партия может запустить руку в прошлое и заявить, что того или иного события никогда не было, не страшнее ли это любых пыток и даже смерти?
Партия заявляет, что Океания никогда не вступала в союз с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания находилась в союзе с Евразией не больше четырех лет назад. Но где хранится эта информация? Лишь в его сознании, которое в любом случае скоро сотрут. И если все остальные принимают ложь, навязанную Партией, и все источники рассказывают одно и то же, ложь вписывается в историю и становится правдой. «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, – гласит партийный слоган. – Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».
И тем не менее прошлое, пускай по природе своей изменяемое, на самом деле никогда не меняется. То, что правда сейчас, правда от века и до века. Все просто. Требуется лишь бесконечная серия побед над собственной памятью. «Управление реальностью» – так это называется, а на новоречи – «двоедум».
– Вольно! – гавкнула инструкторша чуть более дружелюбно.
Уинстон уронил руки и медленно набрал в легкие воздуха. Мысль его ускользнула в лабиринты двоедума. Знать и не знать, не сомневаться в своей правдивости, пересказывая тщательно состряпанное вранье, иметь одновременно два противоположных мнения, понимать, что они противоречат друг другу, и не оспаривать ни одно из них, использовать логику против логики, отрицать мораль, одновременно оставляя за собой право на моральные оценки, верить, что демократия невозможна и что Партия – защитник демократии, забывать то, что необходимо забыть, воскрешать в памяти, как только понадобится, а потом тут же забывать опять – но, главное, применять этот процесс к самому процессу. Вот где самая тонкость: сознательно отключать сознание – а потом стирать из него и только что совершенный акт самогипноза. Чтобы понять слово «двоедум», нужно использовать двоедум.
Инструкторша снова скомандовала «смирно».
– А теперь посмотрим, кто из вас может достать до пальцев ног! – сказала она бодро. – Ну-ка, товарищи, от бедра – раз-два, раз-два!
Уинстон ненавидел это упражнение, пронзавшее болью ноги от пяток до ягодиц и часто приводившее к новому приступу кашля. Раздумья его сделались совсем безрадостными. Прошлое, думал он, не просто изменили, его уничтожили. Как установить даже самый очевидный факт, если он не зафиксирован нигде, кроме твоей собственной памяти? Он попытался вспомнить, в каком году впервые услышал о Старшем Брате. Кажется, в шестидесятые, а может, и нет. В книгах по истории Партии, естественно, Старший Брат с самых первых дней фигурировал как вождь и защитник Революции. Его деяния постепенно отодвигались назад во времени, пока не распространились и на легендарную эпоху тридцатых – сороковых, когда капиталисты в своих диковинных цилиндрических шляпах еще раскатывали по улицам Лондона в больших блестящих автомобилях или конных экипажах со стеклами в дверцах. Неясно, какие из легенд правдивы, а какие выдуманы. Уинстон даже не помнил даты, когда возникла сама Партия. Кажется, и слова «англизм» он не слышал до 1960 года, но, возможно, до этого оно имело хождение в староречной форме – «английский социализм». Все растворилось в тумане. Иногда, конечно, можно и распознать явное вранье. Например, в учебниках истории Партии пишут неправду, что именно Партия изобрела самолеты. Он помнил самолеты с раннего детства. Но ведь ничего не докажешь. Доказательств просто не существует. Лишь однажды в жизни он держал в руках неоспоримое документальное свидетельство исторической фальсификации. И в тот раз…
Из телевида донесся сварливый голос:
– Смит! Номер шесть тысяч семьдесят девять, Смит У.! Да, вы! Ниже наклон! Вы можете. Просто не стараетесь. Ниже! Вот так, товарищ. Теперь вольно – это всех касается – и посмотрите на меня.
Уинстона прошиб холодный пот. Лицо его оставалось непроницаемым. Никогда не выказывать недовольство! Никогда не выказывать обиду! Малейшее движение глаз может выдать. Под его внимательным взглядом инструкторша подняла руки над головой и – не то чтобы грациозно, скорее на редкость аккуратно и четко – наклонившись, ухватила себя за пальцы ног.
– Вот так, товарищи! Вот как надо выполнять это упражнение. Смотрите еще. Мне тридцать девять, у меня четверо детей. Поглядите! – Она снова наклонилась. – Видите, я, в отличие от вас, не сгибаю колени. Вы тоже так сможете, если захотите, – прибавила она, выпрямляясь. – Каждый, кому нет сорока пяти, способен дотянуться до пальцев ног. Не каждому выпадает честь защищать родину на передовой, но хотя бы держать себя в форме может каждый. Помните о наших ребятах на малабарском фронте! О моряках на плавучих крепостях! Только представьте, каково им приходится! А теперь попробуйте еще раз. Да, так лучше, товарищ, намного лучше.
И она ободряюще кивнула Уинстону, когда он сумел с размаху коснуться пальцев, не сгибая ног, – впервые за несколько лет.
- Мифогенная любовь каст
- Дневник неудачника, или Секретная тетрадь
- Картахена
- Сато
- Типа я
- 1984
- История его слуги
- Смерть современных героев
- Молодой негодяй
- Процесс
- Исландия
- У нас была Великая Эпоха
- Подросток Савенко, или Автопортрет бандита в отрочестве
- Чёрное пальто. Страшные случаи
- Время вышло. Современная русская антиутопия
- Радин
- Ночная смена
- Книга воды
- Королева Лир. Чудесные истории
- Марк и Эзра 2.0
- Нашествие
- Холодные глаза
- Отец смотрит на запад
- Страх
- Его последние дни
- Большая Суета
- Ветер уносит мертвые листья