Шрифт:
-100%+
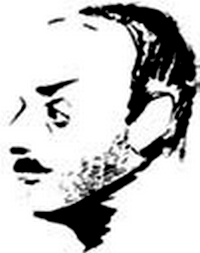

«Часики бьют так задумчиво…»
Часики бьют так задумчиво,
медленно, не торопясь.
И в ожидании лучшего
жилка на лбу напряглась,
хоть понимаю, естественно,
счастья желая себе:
сложится все соответственно
вере, слезам и судьбе.
«У Спаса на Кружке забыто наше детство…»
У Спаса на Кружке забыто наше детство.
Что видится теперь в раскрытое окно?
Все меньше мест в Москве, где можно нам погреться,
все больше мест в Москве, где пусто и темно.
Мечтали зло унять и новый мир построить,
построить новый мир, иную жизнь начать.
Все меньше мест в Москве, где есть о чем поспорить,
все больше мест в Москве, где есть о чем молчать.
Куда-то все спешит надменная столица,
с которою давно мы перешли на «вы»…
Все меньше мест в Москве, где помнят наши лица,
все больше мест в Москве, где и без нас правы.
«Как время беспощадно…»
Как время беспощадно,
дела его и свет.
Ну я умру, ну ладно —
с меня и спросу нет.
А тот, что с нежным пухом
над верхнею губой,
с еще нетвердым духом,
разбуженный трубой, —
какой счастливой схваткой
разбужен он теперь,
подкованною пяткой
захлопывая дверь?
Под звуки духовые
не ведая о том,
как сладко все впервые,
как горько все потом…
Проводы у военкомата
Б. Биргеру
Вот оркестр духовой. Звук медовый.
И пронзителен он так, что – ах…
Вот и я, молодой и бедовый,
с черным чубчиком, с болью в глазах.
Машут ручки нелепо и споро,
крики скорбные тянутся вслед,
и безумцем из черного хора
нарисован грядущий сюжет.
Жизнь музыкой бравурной объята —
всё о том, что судьба пополам,
и о том, что не будет возврата
ни к любви и ни к прочим делам.
Раскаляются медные трубы —
превращаются в пламя и дым.
И в улыбке растянуты губы,
чтоб запомнился я молодым.
«О, фантазии на темы…»
В. Войновичу
О, фантазии на темы
торжества добра над злом!
В рамках солнечной системы
вы отправлены на слом.
Торжествует эта свалка
и грохочет, как прибой…
Мне фантазий тех не жалко —
я грущу о нас с тобой.
«На Сретенке ночной надежды голос слышен…»
На Сретенке ночной надежды голос слышен.
Он слаб и одинок, но сладок и возвышен.
Уже который раз он разрывает тьму…
И хочется верить ему.
Когда пройдет нужда за жизнь свою бояться,
тогда мои друзья с прогулки возвратятся,
и расцветет Москва от погребов до крыш…
Тогда опустеет Париж.
А если все не так, а все как прежде будет,
пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,
что зря я распахнул напрасные крыла…
Что ж делать? Надежда была.
Романс («Стали чаще и чаще являться ко мне…»)
Стали чаще и чаще являться ко мне
с видом пасмурным и обреченным
одна дама на белом, на белом коне,
а другая на черном, на черном.
И у той, что на белом, такие глаза,
будто белому свету не рады,
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом – всё утраты, утраты.
И у той, что на черном, такие глаза,
будто это – вместилище муки,
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом – всё разлуки, разлуки.
Ах, когда б вы ко мне заглянули в глаза,
ах, когда б вы в мои поглядели, —
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом – всё потери, потери.
«Как хорошо, что Зворыкин уехал…»
Кириллу Померанцеву
Как хорошо, что Зворыкин уехал
и телевиденье там изобрел!
Если бы он из страны не уехал,
он бы, как все, на Голгофу взошел.
И не сидели бы мы у экранов,
и не пытались бы время понять,
и откровения прежних обманов
были бы нам недоступны опять.
Как хорошо, что уехал Набоков,
тайны разлуки ни с кем не деля.
Как пофартило! А скольких пророков
не защитила родная земля!
Был этот фарт ну не очень-то сладок.
Как ни старалась беда за двоих,
всё же не выпали в мутный осадок
тернии их и прозрения их.
Как хорошо, что в прозрении трудном
наши глаза застилает слеза!
Даже и я, брат, в моем неуютном
благополучии зрю небеса.
Что же еще остается нам, кроме
этих, еще не разбитых оков?
Впрочем, платить своей болью и кровью —
это ль не жребий во веки веков?
«Гомон площади Петровской…»
О. В. Волкову
Гомон площади Петровской,
Знаменка, Коровий вал —
драгоценные обноски…
Кто их с детства не знавал?
Кто Пречистенки не холил,
Божедомки не любил,
по Варварке слез не пролил,
Якиманку позабыл?
Сколько лет без меры длился
этот славный карнавал!
На Покровке я молился,
на Мясницкой горевал.
А Тверская, а Тверская,
сея праздник и тоску,
от себя не отпуская,
провожала сквозь Москву.
Не выходят из сознанья
(хоть иные времена)
эти древние названья,
словно дедов имена.
И живет в душе, не тая,
пусть нелепа, да своя,
эта звонкая, святая,
поредевшая семья.
И в мечте о невозможном
словно вижу наяву,
что и сам я не в Безбожном,
а в Божественном живу.
О Володе Высоцком
Марине Владимировне Поляковой
О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил…
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.
Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.
О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом не сходился…
Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю спустился.
Еще один романс
В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной
дамы.
Ее глаза в иные дни обращены.
Там хорошо, и лишних нет, и страх не властен
над годами,
и все давно уже друг другом прощены.
Еще покуда в честь нее высокий хор поет хвалебно
и музыканты все в парадных пиджаках.
Но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка
целебна…
И дирижер ломает палочку в руках.
Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной
и напрасной,
но вот о чем я сокрушаюсь иногда:
ведь что мы сами, господа, в сравненье с дамой
той прекрасной,
и наша жизнь, и наши дамы, господа?
Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде,
благосклонна,
и к ней за это благосклонны небеса.
Она, конечно, пишет мне, но… постарели
почтальоны,
и все давно переменились адреса.
«Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной…»
Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой
полночной:
каждому хочется ввысь вознестись над фортуной
непрочной.
Летняя бабочка вдруг пожелала ожить в декабре,
не разглагольствуя, не помышляя о Зле и Добре.
Может быть, это не бабочка вовсе, а ангел небесный
кружит и кружит по комнате тесной с надеждой
чудесной:
разве случайно его пребывание в нашей глуши,
если мне видятся в нем очертания вашей души?
Этой порою в Салослове – стужа, и снег, и метели.
Я к вам в письме пошутил, что, быть может, мы зря
не взлетели:
нам, одуревшим от всяких утрат и от всяких
торжеств,
самое время использовать опыт крылатых существ.
Нас, тонконогих, и нас, длинношеих, нелепых,
очкастых,
терпят еще и возносят еще при свиданьях
нечастых.
Не потому ли, что нам удалось заработать горбом
точные знания о расстоянье меж Злом и Добром?
И оттого нам теперь ни к чему вычисления эти.
Будем надеяться снова увидеться в будущем лете:
будто лишь там наша жизнь так загадочно
не убывает…
Впрочем, вот ангел над лампой летает…
Чего не бывает?
«Не успел на жизнь обидеться…»
Ю. Даниэлю
Не успел на жизнь обидеться —
вся и кончилась почти.
Стало реже детство видеться,
так, какие-то клочки.
И уже не спросишь, не с кого.
Видно, каждому – свое.
Были песни пионерские,
было всякое вранье.
И по щучьему велению,
по лесам и по морям
шло народонаселение
к магаданским лагерям.
И с фанерным чемоданчиком
мама ехала моя
удивленным неудачником
в те богатые края.
Забываются минувшие
золотые времена;
как монетки утонувшие,
не всплывут они со дна.
Память пылью позасыпало?
Постарел ли?
Не пойму:
вправду ль нам такое выпало?
Для чего? И почему?
Почему нам жизнь намерила
вместо хлеба отрубей?..
Что Москва слезам не верила —
это помню.
Хоть убей.
Кухня
Рожденье бифштекса – само волшебство.
Брильянтовых капель без счета.
А эта, которая жарит его,
похожа на рыжего черта.
И этот, из пара родившийся черт,
азы про себя повторяет,
и жарит, и парит, и льет, и печет,
и фартуком лоб утирает.
Она в ароматы смолы и огня
себя погрузить не страшится,
и плавно святая ее пятерня,
как розовый ангел, кружится.
И если в окно заглянуть со двора —
какая бесовская штука:
в чугунной ладье громоздится гора
под кольцами белого лука.
Там все перемешано в соке его,
в прожилках его благородных:
и гибель, и жизни моей торжество,
и хриплые крики голодных.
Из стихов к роману «Свидание с Бонапартом»
Вдали от собственного дома,
на льдине из чужой воды —
следы осеннего разгрома,
побед несбывшихся плоды.
Окончен бой. И в нем, жестоком,
мы проиграли. Генерал
на льдину хрупкую упал.
Войны таинственным итогом
пренебрегая, мертвым оком
последний подает сигнал
прощанья перед встречей с Богом.
И юношеские года,
и лет покойных череда —
все кажется минутным вздором.
Лишь лед Зачанского пруда
(во сне иль наяву) всегда
перед его потухшим взором.
Нам преподало Провиденье
не просто меру поведенья,
а горестный урок паденья;
и за кровавый тот урок
кому тут выскажешь упрек —
пустых словес нагроможденье?
Ну хорошо. Он бездыхан.
А мы-то как же, молодые,
пусть вшивые, но ведь живые?
Неужто из горячих ран
себе соорудим карьеру
и будем хвастаться не в меру
под батальонный барабан?
Август в Латвии
Булочки с тмином. Латышский язык.
Красные сосны. Воскресные радости.
Все, чем живу я, к чему я приник
в месяце августе, в месяце августе.
Не унижайся, видземский пастух,
пестуй осанку свою благородную,
дальней овчарни торжественный дух
пусть тебе будет звездой путеводною.
Не зарекайся, видземский король,
ни от обид, ни от бед, ни от хворости,
не обольщай себя волей, уволь:
вольному – воля, гордому – горести.
Тот, кто блажен, не боится греха.
Бедность и праведность перемежаются.
Дочку отдай за того пастуха,
пусть два источника перемешаются.
Между удачей, с одной стороны,
и неудачею жизнь моя мечется
в сопровождении медной струны
августа месяца, августа месяца.
«У поэта соперников нету…»
У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас – о себе.
Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас – за себя.
Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму…
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.
То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм…
Все, что было его, – нынче ваше.
Всё для вас. Посвящается вам.
«С последней каланчи, в Сокольниках стоящей…»
Б. Сарнову
С последней каланчи, в Сокольниках стоящей,
никто не смотрит вдаль на горизонт горящий,
никто не смотрит вдаль, все опускают взор.
На пенсии давно усатый брандмайор.
Я плачу не о том, что прошлое исчезло:
ведь плакать о былом смешно и бесполезно.
Я плачу не о том, что кануло во мгле,
как будто нет услад и ныне на земле.
Я плачу о другом – оно покуда с нами,
оно у нас в душе, оно перед глазами,
еще горяч и свеж его прекрасный след —
его не скроет ночь и не проявит свет.
О чем бы там перо, красуясь, ни скрипело —
душа полна утрат, она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова —
душа полна потерь, хоть, кажется, жива.
Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,
сидели мы рядком, и красные бокалы
у каждого из нас – в изогнутой руке…
Как будто бы пожар – в прекрасном далеке.
И на пиру на том, на празднестве тягучем,
я, видно, был один, как рекрут, не обучен,
как будто бы не мы метались в том огне,
как будто тот огонь был неизвестен мне.
«Ну что, генералиссимус прекрасный…»
Ю. Карякину
Ну что, генералиссимус прекрасный,
потомки, говоришь, к тебе пристрастны?
Их не угомонить, не упросить…
Одни тебя мордуют и поносят,
другие всё малюют, и возносят,
и молятся, и жаждут воскресить.
Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной…
Уж не от крови ль красная она,
которую ты пригоршнями пролил,
пока свои усы блаженно холил,
Москву обозревая из окна?
Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны —
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счета не веду былым потерям,
но, пусть в своем возмездье и умерен,
я не прощаю, помня о былом.
Воспоминание о Дне Победы
Была пора, что входит в кровь, и помнится,
и снится.
Звенел за Сретенкой трамвай, светало
на Мясницкой.
Еще пожар не отгудел, да я отвоевал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.
Живые бросились к живым, и было правдой это,
любили женщину одну – она звалась Победа.
Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.
Он нашей собственностью был, и мы клялись
Арбатом.
Еще не знали, кто кого объявит виноватым.
Как будто нас девятый вал отныне миновал
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.
Какие слезы на асфальт из круглых глаз катились,
когда на улицах Москвы в обнимку мы сходились —
и тот, что пули избежал, и тот, что наповал, —
в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал.
«Приносит письма письмоносец…»
М. Козакову
Приносит письма письмоносец
о том, что Пушкин – рогоносец.
Случилось это в девятнадцатом столетье.
Да, в девятнадцатом столетье
влетели в окна письма эти,
и наши предки в них купались, словно дети.
Еще далече до дуэли.
В догадках ближние дурели.
Все созревало, как нарыв на теле… Словом,
еще последний час не пробил,
но скорбным был арапский профиль,
как будто создан был художником Лунёвым.
Я знаю предков по картинкам,
но их пристрастье к поединкам —
не просто жажда проучить и отличиться,
но в кажущейся жажде мести
преобладало чувство чести,
чему с пеленок пофартило им учиться.
Загадочным то время было:
в понятье чести что входило?
Убить соперника и распрямиться сладко?
Но если дуло грудь искало,
ведь не убийство их ласкало…
И это все для нас еще одна загадка.
И прежде чем решать вопросы
про сплетни, козни и доносы
и расковыривать причины тайной мести,
давайте-ка отложим это
и углубимся в дух поэта,
поразмышляем о достоинстве и чести.
Несчастье
Когда бы Несчастье явилось ко мне
в обличии рыцаря да на коне,
грозящем со мной не стесняться, —
я мог бы над ним посмеяться.
Когда бы оно мою жизнь и покой
пыталось разрушить железной рукой
и лик Его злом искажался, —
уж я бы над Ним потешался.
Но дело все в том, что в природе Оно
неясною мерою растворено
и в тучке, и в птичке взлетевшей,
и в брани, что бросил сосед на ходу,
в усмешке, мелькнувшей в минувшем году,
в газете, давно пожелтевшей.
Но в том-то и дело, что нам не видать,
когда Ему выпадет нас испытать
на силу, на волю, на долю.
Как будто бы рядом и нету Его,
как будто бы нет вообще ничего —
а раны посыпаны солью.
Нельзя быть подверженным столь уж всерьез
предчувствиям горьким насмешек и слез,
возможной разлуки и смерти…
Гляди: у тебя изменилось лицо!
Гляди: ты боишься ступить на крыльцо,
и пальцы дрожат на конверте!
И все ж не Ему достаются права,
и все же бессильны его жернова:
и ты на ногах остаешься,
и, маленький, слабый, худой и больной,
нет-нет да объедешь Его стороной,
уйдешь от Него, увернешься.
Наверно, в амбарах души и в крови
хранятся запасы надежд и любви
(а даром они не даются).
И вот, утверждая свое торжество,
бывает, срываешь погоны с Него…
Откуда и силы берутся?
«Черный ворон сквозь белое облако глянет…»
Черный ворон сквозь белое облако глянет —
значит, скоро кровавая музыка грянет.
В генеральском мундире стоит дирижер,
перед ним – под машинку остриженный хор.
У него – руки в белых перчатках.
Песнопенье, знакомое с давешних пор,
возникает из слов непечатных.
Постепенно вступают штыки и мортиры —
значит, скоро по швам расползутся мундиры,
значит, скоро сподобимся есть за двоих,
забывать мертвецов и бояться живых,
прикрываться истлевшею рванью…
Лишь бы только не спутать своих и чужих,
то проклятья, то гимны горланя.
Разыгрался на славу оркестр допотопный.
Все наелись от пуза музыки окопной.
Дирижер дирижера спешит заменить.
Те, что в поле вповалку (прошу извинить),
с того ворона взоров не сводят,
и кого хоронить, и кому хоронить —
непонятно… А годы уходят.
Все кончается в срок. Лишней крови хватает.
Род людской ведь не сахар: авось не растает.
Двое живы (покуда их вексель продлен),
третий (лишний, наверно) в раю погребен,
и земля словно пух под лопатой…
А над ними с прадедовых самых времен —
черный ворон, во всем виноватый.
Работа
Жест. Быстрый взгляд. Движение души.
На кончике ресницы – влага.
Отточены карандаши,
и приготовлена бумага.
Она бела, прохладна и гладка.
Друзья примолкли сиротливо.
А перспектива так сладка
в зеленом поле объектива.
Определяю день и час,
события изобретаю,
как ворон, вытаращив глаз,
над жертвою очередной витаю.
Нелепо скрючена рука,
искажены черты и поза…
Но перспектива как сладка!
Какая вызревает проза!
Уж целый лист почти совсем готов,
и вдруг как будто прозреваю:
как нищ и беден мой улов,
не те цветы ищу я и срываю.
И жар ловлю не от того огня,
и лгу по мелочам природе…
Что стоит помолиться за меня?
Да нынче вам не до молитвы вроде.
И вновь:
Я. Злость. И трепет у виска.
И пот… Какой квартет отличный!
А перспектива так близка,
и сроки жизни безграничны.
Песенка о молодом гусаре
Грозной битвы пылают пожары,
и пора уж коней под седло.
Изготовились к схватке гусары:
их счастливое время пришло.
Впереди – командир, на нем новый мундир,
а за ним – эскадрон после зимних квартир.
А молодой гусар, в Амалию влюбленный,
он все стоит пред ней коленопреклоненный.
Все погибли в бою. Флаг приспущен.
И земные дела не для них.
И летят они в райские кущи
на конях на крылатых своих.
Впереди – командир, на нем рваный мундир,
а за ним – тот гусар покидает сей мир.
Но чудится ему: по-прежнему влюбленный
он все стоит пред ней коленопреклоненный.
Вот иные столетья настали,
и несчетно воды утекло,
и давно уже нет той Амальи,
и в музее пылится седло.
Позабыт командир – дам уездных кумир.
Жаждет новых потех просвещенный наш мир…
А юный тот гусар, в Амалию влюбленный,
опять стоит пред ней коленопреклоненный.
Надпись на камне
Посвящается московским
школьникам 33-ей школы,
придумавшим слово «арбатство»
Пускай моя любовь как мир стара, —
лишь ей одной служил и доверялся
я – дворянин арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.
За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет – я умру,
пока он есть – я властен над судьбою.
Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной…
Но ты, моя фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.
Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа…
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.
Арбатские напевы
1. «Все кончается неумолимо…»
Все кончается неумолимо.
Миг последний печален и прост.
Как я буду без вас в этом мире,
протяженном на тысячи верст,
где всё те же дома и деревья,
и метро, и в асфальте трава,
но иные какие-то лица,
и до вас достучишься едва?
В час, когда распускаются розы,
так остры обонянье и взгляд,
и забытые мной силуэты
в земляничных дворах шелестят,
и уже по-иному крылато
все, что было когда-то грешно,
и спасаться от вечной разлуки
унизительно мне и смешно.
Я унижен тобою, разлука,
и в изменника сан возведен,
и уже укоризны поспели
и слетаются с разных сторон,
что лиловым пером заграничным,
к меловы́м прикасаясь листам,
я тоскую, и плачу, и грежу
по святым по арбатским местам.
Да, лиловым пером из Риеки
по бумаге веду меловой,
лиловеет души отраженье —
этот оттиск ее беловой,
эти самые нежность и робость,
эти самые горечь и свет,
из которых мы вышли, возникли.
Сочинились…
И выхода нет.
2. «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант…»
Ч. Амирэджиби
Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, безвестные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.
Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.
Без паспорта и визы, лишь с розою в руке
слоняюсь вдоль незримой границы на замке
и в те, когда-то мною обжитые края
все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.
Там те же тротуары, деревья и дворы,
но речи несердечны и холодны пиры.
Там так же полыхают густые краски зим,
но ходят оккупанты в мой зоомагазин.
Хозяйская походка, надменные уста…
Ах, флора там все та же, да фауна не та…
Я эмигрант с Арбата. Живу, свой крест неся…
Заледенела роза и облетела вся.
«Я горой за сюжетную прозу…»
Я горой за сюжетную прозу,
за красотку, что высадит розу
под окошком, у самых дверей.
Она холит ее, поливает,
поливает, как будто справляет
день рождения розы своей.
Распускается каждая ветка.
А потом появляется некто
неизвестно зачем, почему.
Выбрав время, и место, и позу,
наша барышня красную розу,
розу красную дарит ему.
Дверь распахнута. Пропасть разверста.
Всё там есть, и всему там есть место:
и любви, и войне, и суме…
И бушует житейское море,
и спасается кто-то от горя,
но стреляется кто-то во тьме.
К сожалению, все отцветает.
Наша жизнь – она тоже ведь тает,
и всегда невпопад, как на грех.
Даже если решенье не близко,
все зависит от степени риска,
от таланта зависит успех.

Не ищите сюжеты в комоде,
а ищите сюжеты в природе.
Без сюжета и прозы-то нет.
Да, бывает, что всё – под рукою:
и идеи, и мысли – рекою,
даже деньги…
Но нужен сюжет.




