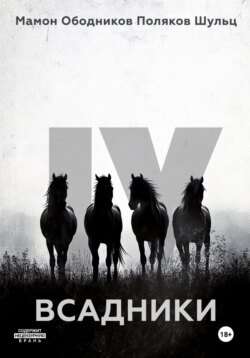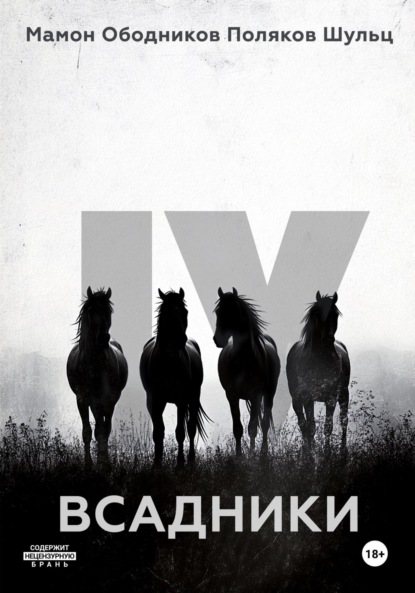Саундтрек
Эта книга – с музыкальным сопровождением. Слушайте саундтрек Всадников авторства композитора Ивана Данюшкина по ссылке https://taplink.cc/danushkin или отсканируйте QR-код с помощью вашего смартфона. Перед главами значком ♫ указано название соответствующей композиции.
Вы можете слушать саундтрек как предложено – перед главами, можете – после их прочтения. Музыка привязана к структуре повествования не линейно, а на уровне контекста сюжета, настроения и характера персонажей. Ее задача – помочь тексту достроить в вашем воображении истории Всадников и сделать их объемнее, кинематографичнее.
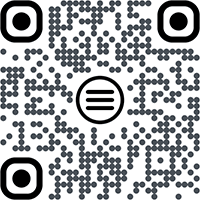
Пролог
♫ Клятва
Бог творил шесть дней. И за то время напоил пустоту сутью и обернул в свой дух все, что впитывало свет, страшилось тьмы и избегало звезд. Трудился в поте лица, а заодно пыхтел и утирал лоб. Бог творил шесть дней, а на седьмой – вероятно, к немалому своему удивлению, – умер. Мысли были крамольными, да, но Лилит не страшилась Бога. Разве можно страшиться того, кого больше нет?
«Если я ничего не предприму, то вполне украшу пиршественный стол падальщиков, – промелькнуло у нее в голове, что в этот самый момент поскрипывала, точно куски мела, зажатые в кулаке. – Лучше бы это были шакалы. Лучше бы прямо сейчас меня терзали шакалы!»
Чужие пальцы, распластавшиеся у нее на щеках, скулах и висках, ослабили хватку и собрались в области ее ушей. Сграбастали то, что еще секунду назад считалось аккуратными женскими раковинками. Эта боль не была такой уж сильной, но Лилит все равно застонала. Пластины черепа, избавившись от чудовищного давления извне, понемногу выправлялись, вставая на прежние места.
Сквозь тяжелый гул, перекатывавшийся у нее в голове, опять прорвался вопль:
– Тойт! Тойт! Херов ты ублюдок! Почему ты не дал ему шанса?
Лилит сделала над собой усилие, и ее веки, размыкаясь, разорвали корку запекшейся крови. Державший ее чистильщик отвернулся. Огромный, лязгающий выгоревшими доспехами, напоминавшими скорлупки красного пепла, он прерывисто дышал, явно ожидая ответа на свой вопрос. Харб. Этого чистильщика звали Харб, и он напоминал зверя, зараженного малярией.
Харб запрокинул голову и опять проорал:
– Тойт! Ты ответишь мне, Тойт! Ответишь за это!
Даже сквозь пульсирующую глухоту Лилит расслышала смех. Смеялся еще один чистильщик. Ва́ба. Сидя верхом на бело-лилейном жеребце, он перекатывал в руках храмовую скрижаль с внесенным лунным циклом, обозначавшим ночи, когда надлежало почитать Омо́нгу, Вечную Старуху. Его тонкие пальцы скользили по рунам «лешо́н ха-ко́деш», первого и вечного языка здешних земель.
– О брат мой, – проговорил Ваба. Он все еще изучал скрижаль. В тенях его капюшона блеснула улыбка. – Твое сердце отвергает очевиднейший ответ, но разум… Разве твой разум столь же близорук?
– Следи за языком, пес!
– Пес? Ну хорошо, сведем наш диалог к прописной истине. Твой жеребец умер. А все почему? Потому что должен был. Таков, видишь ли, извечный порядок вещей.
– Тойт и сраный порядок – из одного нужника набраны! Как тебе такой порядок, а? Этот херов ублюдок мог бы и вмешаться! А он мог, и ты это знаешь!
– Он всего лишь следует правилам, Харб. – Улыбка в глубине капюшона Вабы стала еще шире. – Но ты можешь бросить ему вызов, раз протест мешает тебе дышать. Тогда мы все узнаем, где и когда тебя колесуют. Как минимум удостоверимся, не здесь ли это святое место.
Ваба опять рассмеялся, и его язвительный смех смешался с ревом пожаров. Где-то совсем рядом треснула и обрушилась каменная кладка, не выдержав напора температуры. Лилит вскрикнула, ощутив, что в руки Харба вновь вернулась ярость. И на сей раз компанию ярости составляло раздражение. Боль в голове усиливалась, откликаясь на рост давления, создаваемого широкими ладонями.
Убийство рыжего жеребца – единственное, чего добилась Лилит. Впрочем, нет. Еще она привела этим в неописуемое бешенство хозяина коня, одного из всадников.
«Чистильщик! – прогремел внутренний голос. – Таких называют чистильщиками! Всадник – лишь верховой животного. Но эти пришли с тренированными убийцами, восседая на них верхом. Они все – чистильщики! Не забывай об этом».
Когда все началось, Лилит справляла службу в храме Трех Вечных Сестер, что находился на юге Кесарии. До нее доходили слухи о четырех безумцах, явившихся откуда-то с Востока. Смерть шла за ними по пятам. Только вот интересовали их вовсе не люди. По какой-то причине всадники убивали себе подобных. Они теснили нечеловеческую тьму и столь же безжалостно поступали с ее извечным оппонентом.
В отличие от остальных, Лилит не делила постель со страхом. И это было ошибкой. Страшным, критическим промахом. Ибо чистильщики пришли к храму куда быстрее, чем ожидалось. Расстояние, которое человек с хорошим скакуном мог преодолеть за месяц, они, как выяснилось, были способны покрыть буквально за часы.
Лилит не мешала им убивать слуг, многие из которых, как и она, были далеки от истинной природы человека. Да и зачем? Всадников не одолеть в прямом столкновении. Это она поняла, наблюдая за ними украдкой из дворика благовоний. Тогда же узрела второй слой истины, который был куда страшнее первого: ее отыщут, где бы она ни спряталась. А значит, придется сыграть в открытую. Так Лилит и поступила.
Из клубов дыма вынырнул третий чистильщик, неся на лице голодную улыбку. Этого звали Бхокх, и он восседал на жеребце цвета ночи, пожравшей звезды. Там, где Харб с ревом размахивал полуторным мечом или разил стрелами Ваба, Бхокх работал одними руками – длинными и тощими, точно посеревшие ветви умирающего дерева. Сейчас он держал горящую палку. Пламя шипело и трепетало, пытаясь справиться с густой, застывающей кровью.
Каким-то образом Лилит догадалась, что этот ублюдок тыкал палкой во все тела, до которых только мог дотянуться. Совершенно некстати подумала, что понятия не имеет о том, который час. Затянутое дымом небо могло принадлежать как дню, так и ночи.
– Да, Харб, брось Тойту вызов, – поддразнил Бхокх вкрадчивым голосом, который никак не вязался с его внешностью – ополоумевшего людоеда с покрасневшими глазами. – Не отказывай нам в удовольствии, братец. Ваба, как обычно, посмеется, а я обглодаю твои косточки, когда все закончится. Могу даже поклясться, что не закушу твоей кобылой.
Харб замер, точно обдумывая услышанное, и вдруг расхохотался. Впрочем, глаза его оставались холодны, как промерзшая земля.
– А почему бы нам не бросить Тойту вызов втроем? – спросил он.
До поры Лилит игнорировала Тойта – последнего всадника, замершего вместе с конем у сколотой чаши крупного жертвенника. Не обращала на него никакого внимания хотя бы по той причине, что сам чистильщик никак не обозначал свое присутствие.
В капюшоне, укутавшись в пепельный плащ, Тойт сидел, понурив голову и сложив руки в перламутровых перчатках на рожке седла. Его поза говорила об усталости, но Лилит знала, что в нем кипит энергия. Столь же ошибочным было мнение и о том, что он якобы не участвовал в бойне. Лилит понимала, чувствовала, как Тойт действовал. Он дотягивался разумом до любой раны, оставленной другими чистильщиками, и нарекал ее смертельной. И плоть, сама жизнь – все подчинялось этому неотвратимому суждению.
Ваба бросил на него вежливый, но высокомерный взгляд:
– Тойт не примет наш вызов. Он слишком рассудителен для пустого обмена ударами.
– А кто сказал, что обмен ударами будет пустой? – огрызнулся Харб.
Бхокх подвел коня и наклонился к трепыхавшейся Лилит. Схватил ее за плечо. Сжал пальцы, стремительно погружая их в умасленную, нежную плоть. Лилит едва не захлебнулась от крика, когда кисть Бхокха образовала кулак – с зажатыми в нем кожей, венами, мышцами и окровавленными фрагментами женского жирка.
«Долго ты еще будешь терпеть? – спросил внутренний голосок Лилит. – Ты уже запомнила их. Каждого. Пора бы разменять свои мучения на их».
– Да, пора, – прохрипела она.
– Говорит, – заметил Ваба, с интересом поглядывая в ее сторону.
Отмахнувшись, словно все это пустое, Бхокх отвел коня в сторону. Кровоточащий ломоть, нетерпеливо подталкиваемый пальцами, отправился прямиком ему в раззявленный рот.
– А знаете, у нее вкус как у беременной свиньи, – промычал Бхокх после непродолжительной паузы. Его челюсти работали не переставая. Губы выпячивались, демонстрируя глубокий анализ вкуса. – Свинья она и есть. Может, проверить ее живот?
Лицо Лилит исказила улыбка. Яростная и солнечная, как смерть в огне.
– Я – Лилит, Геката и Селена, Триединая и Вечная! – Голос ее, несмотря на горячечный гнев, слабел с каждым словом. – И я клянусь, жрецы, что буду выворачивать вас наизнанку, пока не сыщу того, чье имя вы прославляете! Клянусь в том кровью зрелых, неоперившихся и тающих…
Тело Лилит, получив соответствующий приказ от разума, от той частички, что выходила далеко за пределы понятия «душа», начало стареть. Безобра́зная рана на плече затянулась, но покрыла ее отнюдь не молодая плоть, а старческое, дряблое полотно, задрапировавшее кость. То же происходило и со всем стремительно дряхлеющим организмом. Лилит трясло. Бедра обожгло тем, что она более не могла удерживать в себе.
И уже проваливаясь в предвечную тьму, лишенную всяческой надежды, она увидела, как вскинул голову пепельный молчун. Его глаза сузились.
– Харб, – только и сказал он.
– Сам вижу, – отозвался Харб и, поднатужившись, свел ладони вместе.
Негромко и влажно хлопнуло. Но за мгновение до того, как лапищи всадника смяли ее череп, Лилит ощутила себя бесплотным лепестком.
И лепесток вытанцовывал во тьме.
Интерлюдия 1. Константинополь
Лилит не отрывала от него взгляда, хотя из-за вонищи, растекавшейся по площади, на глаза наворачивались слезы. Несмотря на тот факт, что солнце сверкало на вершине мира, в Константинополе все равно царили сумерки. Небо заслоняли стаи птиц, слетевшихся на смердевшее угощение. Однако даже они понимали, что бездыханные, чуть маслянистые тела с огромными лиловыми узлами в области шеи лучше не трогать. И все же голод настойчиво предлагал птицам накинуться на смертельное угощение.
«Только вот сейчас время не голода или смерти, мой дорогой, – думала Лилит, делая шажок за шажком по направлению к цели. – Эта маленькая скользкая сценка только для нас с тобой, раз уж ты обобрал этот город до нитки, лишив его любой ходячей жизни».
Между тем Ваба, полностью удовлетворенный содеянным, был погружен в чтение. Он не отправился к Большому дворцу, чтобы оценить позы мертвой императорской семьи. Ипподром, заваленный телами со всего города, тоже не привлек его, хоть там и сладко – ох, до чего же сладко! – чадили последние погребальные костры. Вместо этого, Ваба проследовал к главной библиотеке Константинополя. Тел здесь было не так много, однако мостовая, будучи влажной от трупных соков, все равно понуждала следить за каждым шагом.
Кутаясь в грязную тогу, потерявшую первоначальный зеленый цвет, Ваба листал сборник стихов Коллуфа, не самого бездарного греческого поэта. Правая рука всадника, поблескивая кубовыми и рдяными перстнями, то и дело ныряла в волосы. Этот жест, как давно выяснила Лилит, означал крайнюю степень увлечения.
«Такой жалкий и смешной, будто щенок с одной лапой, – мысленно умилилась она. – Ведают ли твои братья, что ты грезишь тщеславием? Что ты пленник слов, звучащих у тебя в разуме? Что ты отдал бы все, лишь бы тебя услышали?»
Ваба поднял голову на шум, и его светло-ореховые глаза широко распахнулись. Рот приоткрылся. Огромный бело-лилейный жеребец всадника, вдыхавший в этот момент пряную вонь от скорчившегося старика, тоже встревожился.
– Кто ты, девочка? – спросил Ваба. Сборник стихов выпал из его рук, словно и не они только что любовно гладили страницы.
«Да, теперь я девочка, – отозвалась Лилит, ничего не говоря вслух. – Но только сейчас и только для тебя, убийца».
Она действительно выглядела как десятилетний ребенок – обнаженный и перепачканный во всем, что только мог предложить этот город зловонных мертвецов.
– Я принесла тебе пророчество, жрец.
– Вот как? И что же известно такому чумазому и здоровому постреленку?
– Мне известно, что каждую последующую жизнь ты будешь получать искомое – глаза, пожирающие твои строки. Известно, что ни одно из сердец не поверит тем глазам. Горечь угнездится в твоих жилах и костях. Горечь и миллионы неудач!
Ваба дернулся, явно собираясь отшатнуться, но в последний момент взял себя в руки. Потянулся к серповидному друидическому ножу, висевшему на поясе.
– Я бы назвал идиотами тех, кто тебя просмотрел, но я, веришь ли, не привык наговаривать на себя. Ты просто-напросто сорняк, вылезший на чужой могиле. Тебя не должно быть.
– Но я есть, – возразила Лилит с поистине детской, невинной улыбкой.
Несмотря на острый ум, он так и не раскусил ее. Ваба видел лишь дитя, наделенное силой, тогда как Лилит зрила куда больше. Она не нуждалась в глазах, ушах или соглядатаях, чтобы знать, где чистильщики находились в тот или иной момент и чем промышляли. Лилит и всадники были связаны. Их переплело, точно жилы одной руки, когда они вдохнули ее суть, выпростанную из умирающей оболочки. Именно тогда, в Кесарии, ныне оставшейся под завалами времени, их скверные, пористые души приняли ее яд – обволакивающий и тихий.
Ваба усмехнулся и кивнул жеребцу, как бы намекая на предстоящее развлечение. Этот жест запустил поразительную цепную реакцию. В тех местах, где кожа всадника обтягивала скулы, лопнуло. Обнажилась быстро чернеющая кость. Ничего не понимая, Ваба захрипел и вцепился в свою шею. Дрожащие пальцы нащупали уплотнение – необычайно мягкое, почти сливочное. Шейные железы всадника раздувались и пульсировали, наливаясь мертвенным цветом меди.
Жеребец встревоженно заржал, но уже через мгновение перешел на гулкий рев. То, что настигло его хозяина, частично происходило и с ним. Тело, еще недавно сильное и свежее, шипело и разламывалось. И если Ваба бесхитростно разделил судьбу жителей Константинополя, на которую их же и обрек, то жеребец немыслимым образом рассыпа́лся на части. Отделявшиеся куски падали в болезнетворную грязь, отскакивали и, истошно попискивая, разбегались.
Хрипящие останки коня рухнули на мостовую. В стороны порскнули полчища крыс. Они блестящими, упругими ручейками огибали мертвецов и скрывались в тенях опустошенных зданий. Вскоре попискивание стихло.
К тому времени Ваба уже лежал на боку, судорожно дыша. Сейчас он практически не отличался от своих жертв. Лилит приблизилась к всаднику, поставила голенькую ножку ему на грудь и несильно толкнула. Ваба перевернулся на спину. Его светло-ореховые глаза отыскали какую-то точку в затянутом птицами небе и замерли.
– Вот видишь? Ты уступил силе, которой же и управлял, глупыш, – произнесла Лилит. – Но главное, разумеется, вовсе не это, мой дорогой Ваба. Главное, что теперь ты будешь страдать и страдать, пока я не призову тебя. А я, знаешь ли, в ближайшее время не настроена на беседу.
Больше Ваба не шевелился.
…А потом первая из многих вытолкнула его из своих чресл.
Печать первая. Иди и смотри
♫ Метод Станиславского
1. Камю
За глазом тупо ныло.
Эдуард перевернулся со спины на левый бок и подсунул руку под подушку, заныло сильнее и еще начало постреливать где-то в районе макушки. Тогда он со стоном выбросил себя, как кит на берег, на другой бок, и боль за глазом чуть притупилась, зато опять захотелось в туалет. Еще через пару минут он усилием воли вернулся на спину, а потом с проклятиями поднял себя с кровати для похода в ванную. От рывка тела вверх нытье за глазом стало, по ощущениям, колото-резаным ранением, которое он будет лечить сегодня горячим чаем, чуть менее горячим душем, пивом, таблетками от головы, минералкой и наваристым фо-бо из лапшичной за углом.
Вставая, Эдуард неудачно на что-то наступил и подвернул большой палец левой ноги. Сил на членораздельные проклятья уже не оставалось, он просто злобно завыл в тишине комнаты. Эту новую боль причинил томик, валявшийся у кровати. Альбер Камю.
Причина всех этих страданий была банальна: Эдуард нажрался.
Но Эдуард вчера нажрался не бездумно, как делают это по пятницам офисные рабы, а нажрался, как люди с тонкой душевной организацией: от экзистенциальной тоски, неустроенности и разобранной верхушки пирамиды Маслоу, для которой не хватило несколько блоков в уровне «самоактуализация». Несмотря на применение радикальных методов в поисках вдохновения, писательская карьера Эдуарда застыла на месте и, он знал, шла под откос.
Подвинув занавески, он поморщился от слабого солнца, еле пробивавшегося из-за серых столичных туч: за окном валил январский снег.
Он и не собирался напиваться, но оказался вечером в книжном магазине, где испытал приступ ненависти к представленным на полках новинкам. Отовсюду на него смотрели раскосые азиатские глаза, а обладатели этих глаз – все сплошь с длинными волосами и острыми клинками – грозились любить или убивать друг друга до смерти. Меж клонированных азиатов летали опавшие лепестки сакуры, бегали лисицы с девятью хвостами и скользили в траве драконы с золотой чешуей. Почти все книги имели в названии слова «легенда», «сказание» или «песнь». И они расходились как горячие пирожки, прямо при Эдуарде школьница с россыпью анимешных значков на рюкзаке купила десяток томов.
Азиатские мотивы перемежались творениями нового поколения русских писательниц, которые зачем-то усердно рядились в иностранок. Он даже попытался поиграть в игру – понять, где переводная книга, а где доморощенная, но сдался, обнаружив, что Рэйчел Иви и Чарли Роуз – это Оля Бабич и Маша Трусова, а вот Мари Яррус – ирландка. В этих книгах сильные длинноволосые мужчины со шрамами на щеках по-всякому проявляли маскулинность, приручали драконов и временами абьюзили, газлайтили и придушивали главных героинь, которые возмущались, но на самом деле получали удовольствие от происходящего.
Добил его стоявший на самом видном месте бестселлер из новомодного литературного течения «ретеллинг». Как обещала обложка, «знакомая с детства история переосмыслялась в жанре темного фэнтези». Но под скалившимся монстром с твердого переплета обнаружилось мало темного фэнтези и много порнографии: в готическом замке чудовище сношало красавицу, прекрасного принца, превратившихся в мышей слуг и даже оживший сервиз. Тираж пятнадцать тысяч экземпляров, треть нового Пелевина.
Свой последний стрельнувший роман, вымученный после скандала за пять лет труда, триллер «Мгла над Воронежем», выигравший жанровую литературную премию, он нашел на полке с уцененными товарами. Тираж две тысячи пятьсот экземпляров.
Окруженный азиатами, фейковыми иностранцами и порнофанфиками, Эдуард истерически расхохотался, а потом пошел и утопил разочарование в ближайшей рюмочной. За соседним столиком сильно кашляли.
2. Хороший человек
Примерно за полгода до отъезда в Москву Эдуард в последний раз побывал в деревне. Бабка уже умерла, дом ее покосился, городских стало больше, чем деревенских, и кастовое деление ушло в небытие, а ежей на улицах уже не встречалось. Но тогда – тогда они бегали, животных вообще было больше: зимой могла забежать лиса, весной прилетали гнездиться неизвестные птички с яркой окраской, летом огородам соседей досаждали кроты. Круглый год по деревне ходил сам по себе конь вечно пьяного Ивана Ильича, сотрудника закрывшегося конезавода по соседству. Кажется, красок в траве и деревьях тоже было больше.
Все это померкло. Сгнившие деревяшки забора напомнили ему о Кузе.
Когда Эдику было лет семь, родители отправили его сюда на лето. Тут он впервые узнал о делении на деревенских и городских, получив в нос от заскучавшего внука соседки бабы Зины, а еще нашел ежа.
Одним утром, выйдя из калитки, Желтухин услышал шуршание в траве у забора. Раздвинув высокие стебли, он обнаружил среди них трясущегося и свернувшегося калачиком ежика, в спине которого зияла огромная дыра. В ней скопился и булькал гной, копошились извивающиеся бледно-желтые, будто могильные, личинки. Эдик заревел и позвал «ба».
– Что сопли размазываешь? Таз тащи, лечить будем! – скомандовала бабушка Вера. – Видать, ворона его так долбанула. Побегает еще.
Эдик метнулся за лоханью и рукавицами, положил трясущимися руками трясущегося ежа в жестяной таз и понес подранка в дом.
В следующие пару недель еж прописался у них, в картонной коробке. Несколько дней бабушка начинала с того, что вытаскивала пинцетом из раны личинок, это мухи успели отложить их в открытую рану, как она объяснила. Дальше она удаляла ватой пахнущий сгнившим сыром зеленоватый гной, а потом принималась за лечение. Никаких лекарств для животных у бабушки не водилось, а ехать в веткабинет вообще никому не пришло в голову, так что она просто заливала рану зеленкой, иногда зачем-то сыпала в нее небольшие порции стирального порошка, мазала края похожей на воск мазью с острым запахом. Бедный еж дрожал, сворачивался в клубок, шипел, а Эдик сострадательно наблюдал за процедурами и поглаживал его по высунутой лапке или носику. Потом подносил куски яблока или морковки. А еще удивлялся и как-то испуганно восхищался этими личинками: как так может быть, что один живой и вредный организм обитает внутри другого?
Ежа окрестили Кузей, как домовенка из программы, которую показывали по телевизору. Ночами еж наводил в деревенском доме дебош: шуршал в коробке, скребся, пыхтел, шумно вдыхая воздух. На пятую ночь он прогрыз картонную тюрьму и устроил разгром в прихожей: разбросал тапки, порвал газету, оставил лужу на коврике.
C каждым днем Кузе становилось лучше: от бабушкиного своеобразного лечения рана начала затягиваться, еж охотнее брал еду, его выпускали побегать по лужайке около дома. Эдик внимательно следил за ним и оберегал: контролировал, чтобы тот не убежал во время прогулок, смотрел, как заживает дырка на его спине, то и дело подходил к коробке и проверял, как тот себя чувствует и чем занимается, приносил нарезанные овощи и фрукты.
За лето Кузя полностью излечился – только на спине у него теперь красовался круг из иголок другого цвета: все были серые, а там, на месте бывшей раны, – коричневые. Бабушка предположила, что это из-за «лекарств», которые она туда лила. В последние дни августа мальчик умолял оставить ежа как домашнее животное, но бабка и родители были непреклонны: это дикий зверь и ему нужно возвращаться к семье.
Перед отъездом в город, утирая слезы, Эдуард вынес ежа на прогулку, посадил на траву и легко подтолкнул – «иди к своим». Напоследок Кузя фыркнул, обернулся, повел носом, словно прощаясь, а потом засеменил через участок и быстро скрылся в кустах. Эдик ревел всю дорогу.
В старших классах Эдик, пронеся через годы историю колючего друга, волонтерил в школьном живом уголке, потом помогал не только животным, но и людям: организовал сбор для детского дома, таскал тяжеленные ящики с книгами во время инвентаризации в библиотеке, красил стены во время ремонта в ней. В ней же он и пристрастился к чтению и написал первый рассказ.
Одним словом, маленький Эдик (и взрослеющий Эдуард) был хороший человек. Пока не начал писать книги и не переехал в Москву.