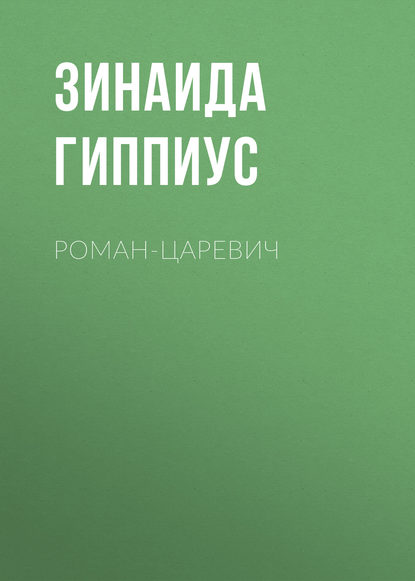Глава первая
В буре и грозе
– Чего я желал бы?..
Разговаривали полушутливо, о каких-то пустяках. Ведь они едва знакомы.
Кругом тихо и темно. Так тихо, темно, притайно, как бывает днем в летнюю пору перед сильной грозой.
– Чего желал бы…
И ветер, со стоном, внезапно сорвался, – будто сама туча взмахнула темно-синими крыльями.
Сразу ударил ветер, зашумел сырым холодом около девушки, сидевшей на ступенях балкона; длинные, волнистые пряди ее бледных волос вырвались из косы и повлеклись по ветру. По ветру, с жидкими, торопливыми жалобами, влеклись вершины берез, клонились, тянулись, стлались, влеклись длинными прядями, зеленые июньские листья сыпались вбок и улетали…
– Что, что? Не слышу! Ветер! и гром! – прокричала девушка, стараясь вдохнуть, глотая ветер и смеясь.
Собеседник ее, молодой человек в синей косоворотке, сделал два шага вперед, навстречу ветру, и крепче надвинул полотняную фуражку.
– Хорошей грозы желал бы… Ветра, ветра…
Слова с ветром летели, пролетали мимо девушки, едва слышные, едва понятные.
– …желать? Быть может, еще жениться на вас…
Конечно, ей послышалось. Ветер отнес, запутал, исказил слова. Как смешно.
– Что вы говорите? Что? – крикнула она опять сквозь сухой шум испуганных берез и переливчатое воркованье грома.
А вдруг он повторит? Как быть тогда? Ведь это или насмешка, или наглость, или сумасшествие. Они едва знакомы. Но такой странный человек…
Гром поднял голос, зарычал, раскатился и закатился, но не смолк. Ветра вдруг словно не бывало. Словно улетел весь – ничего не осталось.
В синеватой тишине прозвучали спокойные слова:
– Я сказал: «чего желать? О, так желаний много…» Вы не помните этого стихотворения?
Тишина была мгновенна. Опять налетел ветер, второй, опять покорно вытянули березы свои зеленые волосы, опять, опять… А над ними, по синей туче, словно кто-то пальцем прочертил огненные слова. Сквозь железный грохот освирепевшего грома не слышно было, как стукнула балконная дверь.
– Лилька, безумная! Что ты здесь делаешь? Иди скорее домой. Такая гроза. Наверху уже, кажется, окно разбило.
Девушка, поправляя выбившиеся волосы, поднялась.
– Иду, тетя Катя. А так хорошо!
– Ничего нет хорошего. Подумаешь! – кричала тетя Катя, молодая, пышная, красиво освещенная молниями: от них то розовел, то червонел ее белый капот.
– Батюшки! Да и Роман Иванович тут с тобой. Роман Иванович! Идите! Убьет непременно.
Сменцев обернулся.
– Нет, не убьет. Я люблю ветер. И он меня любит. Не бойтесь.
Зашагал прочь от балкона и сгинул за деревьями, за сизой мглой начинающегося, еще летучего дождя.
– Экий сумасшедший. Ведь ливень будет. Ох, вот опять! Иди же, Лилюша, я дверь ставней прикрою.
Они вместе вошли в длинную, низкую комнату, где стояли сумерки, – хоть огонь зажигай.
– Пойдем наверх, к детям, – сказала Катерина Павловна. – Там и светлее, да и Витя меня беспокоит: позеленел весь, явно трусит грозы, а не признается. Такой нервный ребенок.
По угловатым, нелепым, темным коридорам они дошли до прихожей и стали подыматься по лестнице.
Лестница широкая, дубовая, винтом – потому что в башне. В круглом окне трепыхались молнии.
– И не знаешь, что делать нужно, что говорить, вот хотя бы в грозу, – болтала Катя, путая по ступеням складки капота. – Вот я была маленькая, в деревне у нас, в Шишкове, так когда гроза – няня свечки под образами зажжет, удар – она сейчас «Свят, свят…» и нам велит креститься, и рассказывает что-то такое интересное и утешительное… А с Витей сидит эта идиотская бонна ученая столбом, да равнодушно мямлит: «Это электричество. Займитесь книжкой».
Девушка улыбнулась. Очень похоже передразнила Катерина Павловна Витину деревянную бонну.
– Вавочке – той все равно, а Витя ужасно впечатлительный. Громоотводом его, что ли, утешить… Да громоотвод у нас испорчен, неудачный такой…
Пришли в детскую. Там было все словно по писаному, четырехлетняя Вавочка мирно занималась кубиками на ковре, бонна сидела равнодушным столбом, а Витя забился в дальний угол.
Вавочка – общительная, ласковая, в меру шумная, толстая девочка. Коротенькая и черноглазая – в мамашу. Витя неизвестно в кого. Он рыжеват, бледен и тонок. Брови у него тоже светлые, как будто и вовсе их нет. Но часто морщит брови, и тогда лоб краснеет.
– Мама… – приветливо пропела Вава, не оставляя кубиков.
Но Катерина Павловна позвала Витю.
– Куда ты спрятался? Уже гроза проходит. Иди. Кто же боится грозы? И ведь уже тебе скоро восемь лет.
– Я и не думаю бояться. С чего ты взяла? – проговорил Витя быстро, дрожащим голосом. – Просто неприятно. Стучит. И потом ветер.
– И ветра нечего бояться. Лиля, ты слышала, как Роман Иванович крикнул, что ветер его любит, и отправился в парк? Экий чудачина. Пожалуй, и дождь его любит. Гляди, что делается.
Окна облились сплошными потоками воды. Точно ведро на них опрокинули. Но так же внезапно дождь прекратился, шумел только ветер. Молнии становились реже.
– Ветер его любит… – как-то задумчиво сказал Витя, выполз из угла и присел на ковер около дивана. Потихоньку.
Вавочка полезла на колени к матери. Занятая собственными однообразными мыслями, однообразно, нараспев повторяла: «ма-ма, ма-ма!» Потом потянулась к сидевшей рядом девушке: «У-ля, У-ля!»
Но та не обратила на нее никакого внимания.
– Ты, Катя, давно знаешь Сменцева? – спросила она.
– Давным-давно. Ведь он Алексеев давнишний приятель. Знаю-то давно, да почти не видала. Мельком. Живет он с нами в первый раз. Говорят, интересный. Алексей в нем души не чает. И представь, Люлюша, ему лет под тридцать, а кажется юношей.
– Нисколько не кажется, – возразила девушка.
– Ну да, это потому, что он такой широкий, крепкий, плечи точно четырехугольные. Но он высокий, это при высоком росте красиво. А лицо у него совсем юное.
Девушка ничего не ответила, хотя и тут, кажется, не согласилась. Смуглое лицо Романа Ивановича встало вдруг в ее памяти ярко. Беспокойное лицо. Красивое? Некрасивое? Не в том дело: беспокойное. Изогнутые, длинные, будто нарисованные брови; плотные усы, небольшие, похожие на кусочки черной ваты; притом и брови, и глаза, и все в этом лице – чуть-чуть криво. Усмехался он тоже немного вбок. Вот эта кривизна, должно быть, и беспокоила.
– Да, он красивый, – протянула Катерина Павловна, играя с девочкой. – Красивый… Ах, я вспомнила. Он уже как-то говорил, что любит ветер. Студентом, давно, в ссылке, бедствовал; нанялся в машинисты или в истопники, что ли, на железную дорогу. Рассказывал, хорошо на паровозе. Ветер, говорит, так и бьет в лицо…
– Сам на паровозе? И не боялся? – робко и жадно спросил вдруг Витя.
– Он-то! – засмеялась Катя. – Не всем же быть такими трусишками, как ты. Я думаю, Роман Иванович в твои годы…
Остановилась, заметив, что Витя покраснел весь и нахмурился.
– Я… не трусишка… – проговорил он. – Вот Уля пусть скажет. А про него я… знать ничего не хочу… Ничего, да.
Девушка нежно обняла Витю и прижала к себе.
– Конечно, ну его! Почем мы знаем, где он там ездил, чего боится, чего нет. Страшных вещей нужно бояться, это не трусость, а чего не надо, того и ты, Витя, не боишься. Я же знаю.
– А вот и солнце! – сказала Катерина Павловна, вставая. – Можно и окно отворить. Совсем прошла гроза.
Глава вторая
Стройка
К обеду ждали из Петербурга хозяина, Алексея Алексеевича Хованского, и так как погода совсем разгулялась, то накрыли на террасе.
Алексей Алексеевич приехал кислый и сумрачный. Сумрачен он был, положим, всегда. Стоило взглянуть на его длинные, бледные, вялые усы, чтобы понять характер этого человека: тихое уныние. Умелый инженер-архитектор – он проявлял большую деятельность, но порывами. А потом опять кис, сидел небритый дома по неделям, молча раскладывал пасьянс и с отвращением вспоминал свои работы. Он, впрочем, был мягок, добр, нежен к семье, никогда не ворчал и не сердился. У Хованских было порядочное состояние, и это, к несчастию, позволяло Алексею Алексеевичу месяцами предаваться своему унылому безделью.
Катерина Павловна прошла в спальню, где муж умывался и переодевался с дороги.
– Гроза тебя где застала? Не здесь?
– Нет. Ехал от станции – уже солнце было.
– А где же тебя так вымочило?
– Не вымочило. Ефим меня в грязь опрокинул.
Катерина Павловна всплеснула руками.
– Господи! Да как же это?
– Да как же. Очень естественно. Дорога хороша: пока до этого скверного лесного острога доберешься, все кости сломаешь.
– Почему острог, – обиделась Катерина Павловна, – сам же строил, сам выдумал и кирпичи эти, и башни довольно нелепые, а теперь бранишься. Мог бы и о дороге позаботиться, хоть о той, что по нашему лесу идет. И всего-то шесть верст…
Алексей Алексеевич молча отвернулся, отыскивая пиджак. Еще дорогу строить! Ему смертельно и так надоела возня с этим глупым имением, которое он с чего-то приобрел года три тому назад. Имение, имение! Просто громадный кусок земли с грязными болотистыми лесами. На берегу небольшого озера Хованский выстроил замысловатый каменный дом, с круглыми башнями, с водопроводом, неудобный и холодный. Расчистили вокруг лес, сделали аллею к озеру.
Пока строилась новая дача – оба радовались, и Катерина Павловна и Алексей Алексеевич: у нас будет имение. Но вскоре дача надоела Хованскому: нелепая. И глушь, и вся Новгородская губерния какая-то нелепая, сырая, кислая.
Не хотели сгоряча давать название своей даче: долго обдумывали. Называли просто «стройкой». Привыкли незаметно, и так эта дача и осталась навсегда под глупым и нелюбовным именем «Стройка».
Хозяйства на Стройке порядочного не было. Какой же Алексей Алексеевич хозяин? Ближняя деревня, пьяная, убогая, – в двух верстах. Станция захудалая. И на Стройке жилось, действительно, не очень уютно.
Уныло сказал еще что-то Алексей Алексеевич о Петербурге, об одном деле, которое «ему навязали» и которое он кончал. Пошли обедать.
На террасе влажно и жарко. Невысохшие березы недвижны, и листья ровным светом горят на солнце.
Дети ужасно обрадовались отцу. Мальчик, как подошел, прижался, так и не выпускал отцовской руки.
– А, Улинька, «сияющее видение»! – сказал Алексей Алексеевич, целуя в лоб подошедшую к нему белокурую девушку и грустно улыбаясь ей под усами. – Рад видеть вас в добром здоровье, прелестная моя родственница. Не утонули еще в болотах? Привет от бабушки.
– Видел графиню? – спросил Сменцев, который сидел рядом с хозяином. Сменцев был в такой же синей косоворотке, очень, однако, приличной и красиво облегающей широкие его плечи.
– А ты разве… Да, ты знаешь ее сиятельство. Был, был я на минутку с докладом, вот насчет того, что внучка ее к нам прибыла и находится в вожделенном здравии. Сама графиня доклада потребовала.
– Могли бы и не трудиться, – холодно сказала девушка, которую Хованский называл гоголевской Улинькой – сияющим видением, дети – просто звали Улей, тетя Катя – Лилей, а бабушка и отец – Литтой.
– Бабушка-графиня вам не нравится, Юлитта Николаевна? – удивленно сказал Сменцев и поднял длинные, тонкие брови. – Изумительная она, графиня.
Литта поглядела строго.
– Что значит «не нравится»? Не понимаю.
И, обратившись к Алексею Алексеевичу, прибавила:
– Бабушка до сих пор не стесняла меня излишней заботливостью, я и за границу ездила одна. Не понимаю, что это вдруг. К вам нынче едва отпустила.
– Сильно она переменилась, – задумчиво сказала тетя Катя, – не постарела, а скорей помолодела. Я, впрочем, редко у нее бываю. Родня мы дальняя…
Разговор на минуту сник. Литта, скучная, глядела в тарелку. Хованскому было неприятно, что он как будто расстроил девушку, хотя не понимал – чем.
Был благодарен Сменцеву, когда тот заговорил о постороннем.
Роман Иванович не молчалив. Правда, споров он избегает, но рассказывает охотно и весело.
– Катерина Павловна, – говорит он, – не странно ли, что я Алексея сто лет знаю, а с вами до последнего времени почти не знаком был?
– Да, – мечтательно сказала Катя. – Я помню, какие мне тогда из Петербурга Алексей о вас письма писал. Восторженные. Я ничего понять не могла, но очень жаждала с вами познакомиться. И не вышло. Приехала в Петербург, а вас уже там нет.
– Да, друг, скоро тебя тогда убрали: я и не опомнился. Девятнадцатилетнего мальчишку, первокурсника…
– Вы где были в ссылке? – спросила вдруг Литта.
– В местах не столь отдаленных. Да я не жалею. Рад, что сразу же, без проволочек это случилось и по пустяшному поводу. Успел без потери времени, на свободе, и продумать нужное и прочувствовать.
Катерина Павловна засмеялась.
– Это в ссылке-то – «на свободе»?
– А еще бы. Чего лучше: одиночество, отсутствие всякой среды, – среда в юности очень влияет, – полная самостоятельность (я ведь не в тюрьме сидел) и полное отсутствие денег. Прекрасные условия для того, чтобы выработать характер и научиться думать.
– Пустяки, – сказал Алексей Алексеевич и слабо махнул рукой. – И мы в молодости… второй курс в институте пребуйный у нас был… Меня раза три засаживали… Кое-кого и высылали… Вернувшись, позлобились слегка, – после так же, как другие, в свое время угомонились…
Роман Иванович резко, неожиданно засмеялся.
– Да ты понимаешь ли, что говоришь? – крикнул он, вставая.
Встали все, обед кончился. Шли пить кофе на другой конец террасы, где он был уже приготовлен на плетеном столике.
– Угомонились! – продолжал Сменцев. – На втором курсе пошалили – и довольно? Вот тут и беда наша, корень бед, что вся интеллигентная Россия только шалит на вторых курсах, а зрелому человеку, видите ли, не до пустяков, он о своем гнезде подумывает, он службу ищет, дело похлебнее, птенцов кормить, – самому позабавиться, либо попокоиться…
– Что ты? О чем ты? – в удивлении сказал Хованский, закуривая сигару.
– О том, что студент наш смотрит на учение не как на дело, он «пребывает» в университете, потому что это нужно для будущего его самоустроения; и развлекается, от безделья, делами «общественными». Молодость требует развлечения! Но ведь надо же помнить, что это стыдно.
Алексей Алексеевич рассердился, хотел что-то сказать, но Литта подошла близко к Сменцеву и спросила:
– Что стыдно? И кому?
– Стыдно прежде всего недорослям, которые хватаются за общественные дела как за временное развлечение. Но стыдно и всем нам… всем зрелым российским обывателям… Ведь благодаря их своевременному «угомону», дела общественные и переданы в ведение недоучкам, как одно из увлекательных занятий для молодежи.
– Вы резки и грубы, – сказала Литта.
– Может быть. Но тут правда.
Сменцев уже был спокоен, легко улыбался.
– Тут правда, – повторил он. – И рад бы я был, если бы другие поняли ее, как я понял. Положим, мои условия исключительные. У меня было счастие по два дня не есть, в мерзлой избе в тифу валяться, а потом кочегаром на паровозе в морозе и в жару ездить… На паровозе-то, под огнем топки, под ветром, срывающим дыханье и таким веселым, свободным, благодатным, – многое можно понять. Он ведь не сказки мне, ветер, рассказывал; пусть поэты воображают, что ветер небесные песни поет; нет, я голос ветра знаю; я слова его разумею.
– Скажите, пожалуйста! – лениво проговорил Алексей Алексеевич. – Поэтов бранишь, а это ли у тебя не поэзия? Голос ветра…
Маленький Витя устроился на коленях отца. Молчал. И все время, украдкой, не сводил глаз с Романа Ивановича.
– Улинька, милая, – продолжал Хованский. – Вы не сердитесь, коли что, на моего приятеля. Уж у него свои мнения. И он в них тверд. Подумайте, как вернули его из ссылки, пошли времена такие-этакие, самые зажигательные, – он нет, ничем не соблазнился, в Германию уехал учиться. Отучился, – домой. Да жаль, дома-то делать уж нечего оказалось.
– Авось найдется, – небрежно сказал Сменцев.
– То-то нашлось. А для чего ты год в духовной академии вольнослушателем проторчал? Нет, как хочешь, я тебя не понимаю. И давно уже понимать перестал.
Роман Иванович ничего не ответил. Отошел от стола, медленно спустился в сад. Там было желто и тихо. Просвечивала желтым мокрая трава. Близко, настойчиво свистела какая-то птица, собираясь спать.
Катерина Павловна давно ушла с бонной и девочкой. На балконе теперь оставались только Алексей Алексеевич с Литтой и Витя, притихший на ступеньках.
– Скука унылая, – сказал Алексей Алексеевич. – И споры – тоска, и деревья – тоска… Делать нечего; да и не хочется.
Сменцев, вероятно, не отходил от балкона. Вступил на нижнюю ступеньку и сказал:
– Тебе, Алеша, влюбиться нужно. Вот что.
– Влюбиться? Ты бредишь? Или смеешься?..
– Нет, я серьезно. Для таких тихих нытиков – это единственное спасение. Влюбиться поздно, несчастно, с препятствиями, с волнениями, непобедимо. Ты, я знаю, жалуешься иногда: ах, если б верить во что-нибудь. Но это вздор. Человек, который в себя самого не верит, вообще на веру неспособен; ему под силу только любовь, и даже не любовь – влюбление.
Литта засмеялась.
– Алексей Алексеевич, – сказала весело, – а если правда? Наверно, вы не скучали, когда были в Катю влюблены?
– Глупости, глупости, – закричал Алексей Алексеевич. – И вы туда же, Улинька. Что за разговоры!
Литта поглядела на него удивленно. С чего он так рассердился? Простая шутка…
– Витя! – обратился вдруг Сменцев к тихонькому, забытому всеми мальчику. – Что вы тут? Пойдемте гулять. Со мной, в аллею, к часовне…
Но Витя не двигается, смотрит исподлобья, морщит реденькие, светлые брови.
– Витя! – сердится Алексей Алексеевич. – Что же ты, не слышишь? Иди с дядей.
– Не хочу. Не выйдет, папа.
– Что такое не выйдет?
– Да вот не хочу. И к чему это лгать? Какой он мне дядя? Сами же не велите все лгать, а потом «дядя, дядя».
Хованский удивился и с любопытством поглядел на сына.
– Да зови Романа Ивановича, как хочешь. Но будь вежлив.
– Я, папа, вежлив. Но я не хочу идти с ним. Вот и все.
Вступился Роман Иванович.
– Я просто предложил, Витя. Сказали бы, что не расположены.
Витя поглядел на него, открыл рот и молчал. Хотелось, нужно было сказать много, но слова не говорились.
– Иди тогда к маме, – сердито сказал отец.
Мальчик сорвался с места, но не пошел в комнаты, а насильственно прыгая, ринулся в сад, в темнеющую березовую аллею.
– Однако с норовом мальчишка! – проворчал Алексей Алексеевич. – Пессимист, и непонятности какие-то в нем.
Литта, все время молчавшая, поднялась со стула и пошла в сад, за Витей. Проходя, бросила короткий взгляд на Сменцева, усмехнулась:
– Не любит он таки вас, непонятный этот пессимист.
И прошла в глубь сада, под березы. Роман Иванович слышал ее тихие слова, пожал плечами, точно Витя, улыбнулся. «Не любит!» Глупенькая, злая, упрямая девочка. Много ты понимаешь.
Глава третья
К жениху-богомольцу
Наверху, в своей просторной белой комнате, кругловатой (потому что в башне), сидит за столом Литта и пишет письмо.
Белые шторы не спущены. Одно окно совсем раскрыто. Сырая, светло-серая северная ночь за окном. Внизу в просвете между березами уже краснеет тонкая полоска неба.
Литта пишет письмо не на листке почтовой бумаги, а в толстой синей тетрадке. В начале тетрадки несколько страниц оторвано.
«Милый мой, вот и второе письмо пишу тебе. То, первое, я уже вырвала из тетрадки и уничтожила; я уже отлично знаю его наизусть. Ты все удивляешься странностям моей памяти; а я рада, что такая зубрилка. Могу писать тебе под свежими впечатлениями и притом знать, что ты письмо непременно прочтешь, хотя пишу в России, никуда не пошлю, через день сожгу. Верно и надежно перевезу через границу – в своей памяти, забуду разве тогда, когда слово в слово отдам тетрадочке, такой же, как эта, но ее уже ты прочтешь. Рада, рада, что так запоминаю написанное, что могу поэтому каждый день с тобою беседовать. После не рассказала бы так.
Прошлое письмо мое было довольно дикое, признаюсь: но уж очень меня обрадовала русская деревня. Я ведь ее никогда, настоящую, не знала. Чудится мне, что и тут не все настоящее, дом какой-то ни на что не похожий, и Хованские оба – горожане, всему чужие; но ведь озеро-то и березки – они настоящие, и сирень, и болотца… Особенно болотца эти я полюбила. Я писала о них, о березках, и радовалась, что могу писать, не опечалю тебя: ведь и ты сейчас в той же России, те же луга и цветы видишь. А теперь мне уже стыдно моего восторга; и больно. Стыдно, что ведь это все в громадной степени – эстетика барышни, которая в восемнадцать лет, после петербургских дач, наконец, очутилась „в сердце России“, где, во-первых, все так неожиданно, а во-вторых, должно быть любимым, – как же? родное. Цветочки, ручеечки… а ведь я каждого мужика, если увижу издали, на дороге, когда одна гуляю, – боюсь: вдруг – пьяный? И постоянно пьяный. Бегу мимо, не глядя, с отвращением; что он говорит – не понимаю, не хочу понимать, хорошее ли, дурное ли, – все мне одинаково чуждо, не нужно. Вот я какая. Надо, чтобы ты это знал про меня. Я барышня. Многого ли стоят мои умиления перед осинками да болотцами?
Еще я тебе признаюсь: опять приполз ко мне тот страх, – за тебя. Нет-нет и взглянет желтыми глазами. У страха именно желтые глаза.
Ночью просыпаюсь и дрожу: ты – в России! Милая, страшная, невинная, укрой, ухрани, защити его… но от кого? От себя же. Нет, нет, „они“ – не „она“, это я твердо знаю, чувствую насквозь. Я молюсь, я вспоминаю, почему и как решил ты провести это лето в России, – и мне легче, страх закрывает глаза.
Где ты сейчас? Поздно. Может быть, спишь на сеновале с другими богомольцами, положив голову на котомку. Я даже не знаю, как тебя зовут, Семен или Игнат, не знаю, какой у тебя паспорт. С худым ты не пойдешь, тут я спокойна.
Михаил, ведь это счастье же, что ты можешь так, три месяца проходить с котомкой среди неизвестных, родных и чужих, грубых и мудрых людей, идти рядом, идти как они, слушать их молча, только слушать. Это не дело, ты прав, это лишь малая крупица в деле твоего личного приготовления к делу, но как я понимаю, что это нужно»…
Она остановилась, задумалась нечаянно, с пером в руке. Вспомнила, что он не любит долгих рассуждений, возвращений к решенному, сделанному. Для кого же она пишет? Для себя? Не письмо выходит, – дневник. Бесцельный.
Как просто разговаривали они в ее высокой парижской комнате об этом простом плане. Пойти походить с «народом» несколько месяцев, посмотреть на этот народ с новой стороны, с той, с которой никогда еще ни Михаил, ни «товарищи» его, давние и недавние, не смотрели. Смотреть, а самому непременно всегда молчать; и от выводов даже остерегаться, – ведь он, Михаил, тут новичок, не знающий… Так, кое-что в свою памятку записать.
Дело маленькое, узкое, личное. Михаил еще сузил его намеренно, он не пойдет к сектантам. Не хочет сейчас. Литту это успокаивало. Опасности меньше. Но опасность все-таки большая. Ведь Михаил-странник в России должен так же скрываться как Михаил-революционер.
Литта невольно улыбнулась. Нелегальный богомолец. Нет, все-таки нечего ей бояться. Старый опыт поможет Михаилу.
Красная полоска внизу, на востоке, чуть просвечивала теперь, залитая мягким, вдруг наплывшим и все наплывающим туманом. Какой страшный. Затворить, что ли, окно? Нет, пусть его. Литте даже интересно, дотянется ли он до самого дома и как полезет в окно.
«…не о том хотела я писать тебе. А как живу здесь, кого вижу. Тетя Катя и Алексей Алексеевич, в сущности, мало интересны: Катя, что называется, „славная“. А Хованский – „бедный“. Он не глуп, и все у него есть, вот уж не обижен! Однако „бедный“. Никакого упора жизни. Сменцев советовал ему влюбиться… трагически как-нибудь. Да, Сменцев; вот еще человек, которого я постоянно вижу, болтаю с ним, гуляю; и, вообрази, совсем не знаю. Я писала тебе, что с первого взгляда он мне скорее не понравился: беспокоит что-то в его лице. Теперь я привыкла, но все же с ним неспокойно. Иногда кажется, что ему надо сказать очень важное, ждешь (хотя что?), а он говорит пустяки. Но так говорит, будто нарочно. Зачем он живет у Хованских – не понимаю. Катю он мало замечает, а к Алексею Алексеевичу относится с пренебрежительным, хотя и дружеским сожалением».
Опять остановилась. Мелькнуло воспоминание о грозе, о тех странных словах Сменцева, которые почудились ей в волне ветра. Господи, какая чепуха. И как это не забылось.
«Он, кажется, человек с характером, – продолжала она. – Это ведь чувствуется. То, что о нем рассказывал Алексей Алексеевич, мне нравится. Восемнадцати лет разорвал с теткой, у которой воспитывался (он внук декабриста, барона Розена; оттого, кажется, и фамилия у него такая нарочная, выдуманная). Сам, один, прожил; сначала в ссылке, потом в германский университет поехал. Вернулся – и еще год в духовной академии вольнослушателем пробыл. Вот это обстоятельство, да еще то, что он у моей знаменитой бабушки-графини в салоне бывает, довольно непонятно и подозрительно. Главное – не подходить к нему. Представь, ведь он теткиным наследством не пользуется; он там, в ее имении, устроил…»
Литта очень устала. Перо вываливалось у нее из рук. Распущенные волосы, пышные, бледные, не очень длинные, лезли на глаза. Хотелось спать. Вытянувшееся личико побледнело. Литта – хорошенькая девушка. На узеньком подбородке у нее глубокая ямочка, детская. Но глаза совсем не детские, взрослые, печальные, упрямые.
Теперь так хочется спать, ресницы щурятся.
«Я потом, завтра, допишу тебе это письмо…»
И вот пышная головка уже лежит на столе, пряди волос упали на тетрадку. Литта спит. А в открытое, мертвое окно лезут длинные струйки тумана, тянутся серые лапки. Их почти нет, и все-таки они есть, тянутся явственно, лезут в окно и, втянувшись в комнату, совсем делаются невидимыми. Но они, лапки серые, цепкие, мокрые, – тут. И все новые тянутся в окно, тонкие, длинные, от самого озера болотного – до окна, до стола, до пышных волос, упавших на тетрадку.
Литта устала. Литта спит.