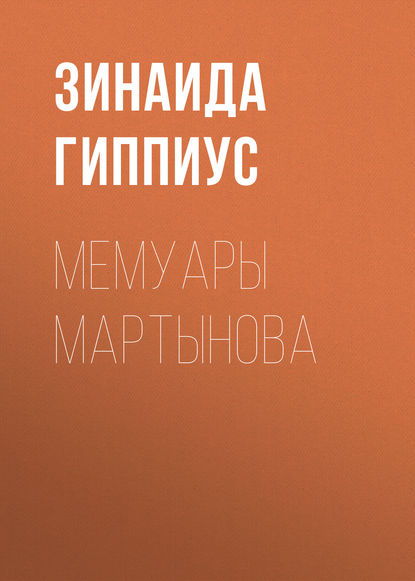Писать я никогда не пробовал. Бывало, конечно, гимназистом, стишки, потом доклады по специальности, но чтобы историю какую-нибудь написать, повесть, – нет, этого не приходилось. Но разве так трудно? Выдумай, представь себе что-нибудь – и пиши.
А мемуары еще того легче, не нужно и выдумывать. Теперь все пишут мемуары, мне тоже захотелось. Но если приняться всю жизнь свою описывать, себя, – невозможно! Никакого терпения не хватит. И я, поразмыслив, решил сделать выбор: ограничиться моими любовными историями. Тоже будет длинновато, хоть и не все записывать, но сюжет веселее, а, главное, о себе можно не так распространяться. Сказать только, что вот, Иван Леонидович Мартынов, человек обыкновенной наружности, долговязый, из интеллигентной семьи и сам интеллигент, по профессии… ну хоть свободный философ, – и довольно. Остальное не важно. Не в том ведь какой я – дело. И вообще не во мне. И даже не в тех, кого я любил.
В самой любви дело.
I. Сашенька
Это, первое, – не история, конечно. Так, эпизод. Но уж начинать, так сначала.
Сижу за столом за книжками. Но смотрю не в книжку, а прямо перед собой, – в окно, окно деревянного домика нашего выходит в палисадник. Там высокий снег, неровные сугробы, серовато-белые, со звездистыми, слабыми птичьими следами. Потом забор, над забором прутья акации, над акациями крест нашей остоженской церкви и белое, зимнее, бесцветное небо. Оно похоже на палисадничные сугробы, только ровное. Крест, хотя и золотой, тоже какой-то мутный: все мутное, скучное и даже страшное.
Впрочем, страшно оно стало тогда, когда я подумал: а вдруг бы так навеки осталось: небо вроде земли, земля вроде неба, крест над забором, я за окном? Все так – без конца?
Да страшно… А, может, и ничего бы? Может, если не останется, еще страшнее? Ведь неизвестно, что еще будет. Мне только двенадцать лет, жизни ужасно много, совсем неизвестной. Положим, могу скоро умереть. Я часто болен, в гимназию даже не хожу, только весной сдаю экзамены, а занимаюсь дома. Ну, если умру – другое дело. И отлично бы! Все тогда разъясняется.
Я об этой смерти думаю теперь часто; неподолгу, правда, но с удовольствием. Именно потому, что тогда все разъясняется. А то все путаница; если хорошее – из него ничего не выходит; даже вообразить нельзя, что из него может выйти. Даже вообразить!
Ну, это небо со снегом я решил запомнить. Хотя не знаю, для чего.
Дверь отворилась, срыву. Конечно, Надя. И чего лезет?
Я младший. Вова уже студент, а Надя весной кончила гимназию. Воображает. Кривляется. О, как я ее ненавижу!
– Ваничка, Иванушка-дурачок, опять сычом сидишь?
– А тебе что нужно?
– Ничего. Пойди туда. Там Сашенька.
Я чувствую, что краснею, оттого еще больше краснею, уши даже заливает. Но смотрю строго и зло на круглое Надино лицо с ямочками на щеках, на розовое жемчужное ожерелье (фальшивое) и спрашиваю:
– Гатмазов, что ли, явился?
– Не говори глупостей, вихры лучше пригладь.
У меня не вихры, а локоны. Она это знает. Завидует.
– Я решаю задачу. Убирайся, пожалуйста. Я и так бьюсь с этой задачей, а ты лезешь. И наверно Гатмазов. Не там, так у Вовы сидит.
– А я почем знаю? Вот прекрасно! – Она лживо и противно захохотала. – Не можешь задачу решить – умен, видно, очень! – так я тебе Сашеньку сюда на помощь пришлю. И мне, и тебе веселее.
– Убирайся! – заорал я и вскочил со стула.
Но проклятая Надя уже перекрутилась на каблуках и вылетела за дверь, а я остался посреди комнаты. Стою столбом, в душе ужас и безысходное мое страдание, смешанное с блаженством.
Я все, все знаю. Сашеньку люблю давно… с каких пор? Теперь мне кажется, что всегда любил, раньше даже первой встречи. Но, конечно, не понимал сначала. Первую встречу я даже не помню. А вот, раз мы все сидели вечером за чаем (давно), и мама была, и Надя, и Вова со своими товарищами-студентами (Гатмазов тоже, но я еще ничего не знал; и вдруг я взглянул на Сашеньку, как раз против меня. Взглянул на серенькую его студенческую тужурку, на локоны под лампой (совсем как у меня, только у меня черные, а у него золотые) – и тут же навеки понял, что люблю его, всегда любил.
Должно быть, у меня было дикое лицо, потому что Сашенька посмотрел на меня, улыбнулся (ох, какой он, когда улыбается!) и спросил, о чем это я так задумался? А я вспоминал всю свою любовь, все, что было раньше, как он приходил, что говорил с другими и со мной, все, словом, вспоминал, – только уж по-иному, по-новому.
С тех пор новое и наступило. Моя безнадежная блаженность, – любовь к Сашеньке. Что любовь, как говорится, безнадежная, – это нисколько у нее блаженства не отнимало. Даже напротив. Таинственнее. И знал же я, какая же тут надежда? Какая? Если вообразить глупое чудо, что Сашенька меня так же полюбил, как я его, ну к чему бы это было? Что могло бы из этого выйти? Я и не думал о глупом чуде, не хотел его… но того, что потом случилось – я ж, конечно, ни за что не хотел и не хочу.
Опять не помню, в какой момент мне все стало ясно, и наступили мои страдания, окончательно безысходные. Я в них бьюсь, как муха в тенетах, а в то же время и блаженствую. Так вот она, любовь! Не хочу ее! Или все-таки хочу?
Сашенька – влюблен в Надю. Я это понял, когда он раз с ней говорил, и у него глаза были с сиянием и задумчивые (в Сашеньке все замечаю). Потом уже и дома стали об этом говорить, и Вова с Надей шутил (Господи, какие проклятые, могут про это – шутить!). А потом… Вот потом и главный ужас – Гатмазов…
Я Надю вначале нисколько не возненавидел за то, что Сашенька в нее влюблен. На Надю мне было наплевать. А что у Сашеньки глаза такие стали, сиянием светят, что в нем – любовь, это его ко мне приближало по-какому-то.
Гатмазов не может любить. Надя – тоже. Оттого между ними и началось… это. Хохотки, любезничанье разное… У Гатмазова такие плечи (и тоже под серой тужуркой!), такие щеки, усики короткие щеточкой, масляные вишни вместо глаз, а голос густой, как малага, – весь он такой по-моему, что и должен именно… «ухаживать». А барышням, вроде Нади, – нравиться. Он и стал Наде «нравиться».
Да пусть бы нравился. Оба проклятые. Но… Сашенька? У него глаза стали печальные-печальные. Лицо побледнело. Все-таки приходит, но видит же, что Надя хочет от него отделаться и тянет к своему Гатмазову.
Убить, что ли, Гатмазова? Или Надю? Мне не жаль для Сашеньки, да будет ли для него толк?
Когда я стою посреди своей комнаты, в блаженстве, что там, за стеной, Сашенька, в ужасе, что Надя опять хочет от него отделаться и, чего доброго, впрямь пришлет его ко мне – я просто сгибаюсь под навалившейся на меня тяжестью. Ну чего, чего бы я хотел? Чтобы Наде разонравился Гатмазов и понравился Сашенька? Или чтоб Сашенька так же не умел никого любить как… эти?
Нет, не знаю, чего мне надо. Не понимаю. Хорошо, убежать… Умереть…
Но я не умер, а убежать не успел: в дверь стукнули, она приоткрылась, и я на пороге увидел высокую-высокую, тонкую-тонкую фигуру Сашеньки. Не глазами только увидел его, всем собой почувствовал, и весь сжался, поник неизъяснимо.
– Ваничка, задача нейдет? Что ж, давайте. Посмотрим.
Он говорил тихим, как всегда, голосом. Странную рассеянную улыбку точно забыл на губах. Двинулся к окну, к моему столику.
Так как мне казалось, что все равно все потеряно, то и я пошел за ним и сел тоже за стол.
Сашенька больше не спросил о задаче. Словно забыл и о ней, и обо мне. Смотрел в окно, как я недавно, один. Теперь вместе мы смотрели на сугробы в палисаднике, с птичьими следами, на забор с прутьями акаций, на мутный крест остоженской церкви в бело-мутном небе. Но я уж ни о чем не думал. Отчаяние, смешанное с восторгом, все росло, и уж почти выдержать было нельзя.
Тогда я отвел глаза от снега и взглянул на Сашенькино лицо.
Спокойное, с той же застывшей улыбкой на губах. Что я увидел в этом лице? Я не знал. Я не знал, что я сейчас сделаю или скажу, и заговорил – будто не я. Вспоминаю даже теперь – только приблизительно; оно кажется глупостями, невероятностями; а, должно быть, как раз так и нужно было. Я говорил шепотом, грозным шепотом:
– Александр Александрович. Так нельзя. Я знаю. Я вас люблю. Посмотрите на меня. Я знаю, знаю. Я вас люблю. Посмотрите на меня!
Он вздрогнул, точно проснулся, хотел сказать что-то, но не сказал, удивленным взором, молча, стал глядеть мне в глаза. А я понесся дальше, быстро шептал, не помня что – меня уж совсем точно не было:
– Это все ничего не стоит, потому и нельзя. Жизни много, пустяки, что она неизвестная, будет, как вы захотите. Они не знают, а вы знаете, и я тоже. Я вас люблю за то, что… ну не за что, а просто так люблю. Это страшно важно. И что вы – тоже. Это все равно, кого. А они там – пустяки все. Она не понимает…
Зачем-то еще прибавил (чего никогда не думал):
– Она потом, после должна же когда-нибудь понять, вот увидите. Вот увидите, все будет хорошо, отлично. Уж как там – а будет. Я-то знаю. Я все знаю! Я все, все знаю!
Должно быть, со стороны взглянуть – было это комично. Взъерошенный мальчишка, в исступлении, уверяет длинного влюбленного студента, что «все знает»… что?
Но студент не со стороны смотрел, – и не засмеялся. Я видел, как глаза его до самых краев наполнились слезами: а дальше уж ничего не видел, потому что он охватил рукой мою голову и прижал меня к себе, к своей тужурке. Там, в темноте, где пахло теплым сукном, я и плакал неслыханно-блаженными, всеразрешающими, всерастворяющими слезами. Так я потом плакал только во сне.