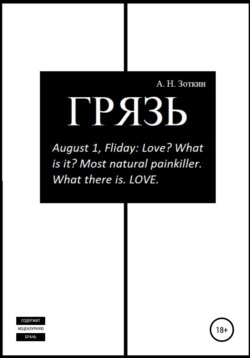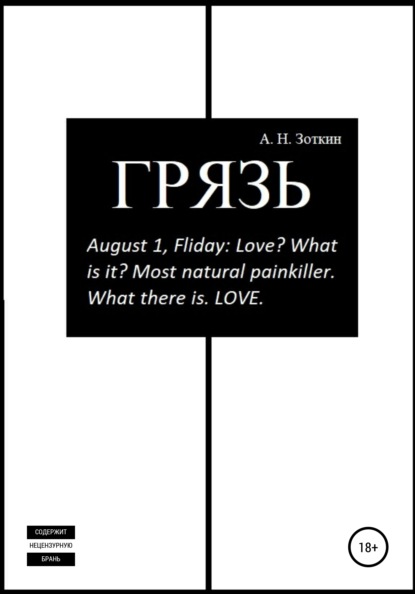Грязь/Серая История
Несколько слов
«Перетираю наш сервиз
И накрываю стол –
Скорей бы вечность началась
И ты ко мне пришел».
Я открыл глаза. В комнате царила несвойственная ярким снам последних дней тишина. Этот долгожданный день настал. Но меня даже не охватило волнение, возможно, для него нужно откинуть край пледа: ведь в кровати всегда спокойно и не штормит. Ах, утро, сколько раз я видел тебя, и каждый раз ты всё одно и то же: изменчив день, вечера не похожи друг на друга, а ты всё такое же немногословное и прозрачно-чистое в невесомых деталях своих. Вот и сейчас тусклые красные шторки заалели на ярком солнце. На столе сверкает графин с водой. В голове мысли о том, что этот день уже не станет интересней.
Когда я вышел из дома и побрел по узким пыльным улочкам, в городе проснулся уже каждый из его жителей – последние из них только сейчас заваривали себе мятный чай, многозначительно зевая в белую стену кухни. Повсюду бегала детвора, похожая на любую другую детвору из любого другого города. Они сновали туда-сюда, смеялись, обгоняли меня и мельком бросали свои открытые миру взгляды на моё загорелое европейское лицо и белую хлопковую рубашку с длинными брюками. Порой они строили рожицы – не удивительно, ведь так легко обогнать старика. Я брел, держа в дряблых руках небольшой чемодан и всё время поправляя шляпу на голове: сегодня мне казалось, что она сидит особенного криво.
Немного было отрадного в этот день, мало что могло тронуть меня, мало того, что я мог тронуть собой. Моя возлюбленная как-то раз сказала мне, что я расплачусь дорого за своё безучастие и потеряю всех, кого любил. Я вспомнил это, проходя мимо заброшенной лачуги с провалившейся крышей, выбитыми окнами и наполовину упавшими стенами. Я тихо поклонился ей и пошёл дальше. Этого никто не заметил. Дорога спускалась вниз, прямиком к шумному порту.
Я издалека узнал свой пароход. Такой же, как я: дряблый и надевший на свои борта белую краску. Я улыбнулся: приятно видеть родственные лица. Отсюда я как будто уже видел свою маленькую железную каюту: столик, две привинченных к полу кровати с панцирной сеткой и круглый иллюминатор, слишком высокий для того, чтобы смотреть в него сидя. От этого веяло покоем, лишь бы была настольная лампа для чтения. Путь предстоял неблизкий: мне предстояло обогнуть берега Испании, Франции, проплыть через Ла-Манш, держать путь в туманах северных морей. Но этот долгий путь стоил того, чтобы воспользоваться им, отбросить ставшую привычной обстановку этих песчаных мест, и отдаться воспоминаниям, вспомнить то время, когда каждый из нас был молод, и мир был совсем не против этого: несмотря ни на что, нам казалось, что мы были ему нужны.
Я в одиночестве возвращался домой. Возможно, она была права.
Путь
«Сколько людей сможет жить без прикрытия фильма? Сколько сможет забыть что вы были полицейскими священниками писателями бросить всё о чем вы когда-либо думали всё что вы когда-либо делали и говорили и просто выйти из фильма? Больше идти некуда. Кинотеатр закрыт».
Мотив спасителя красной нитью проходит через все культуры и религии человечества. Да что там человечества, нить проходит и через нас самих. Вера в то, что всё наладится, станет только лучше, блаженней, что настанет день, когда нам не надо будет заботиться о выживании, подобно пещерным людям, отпадет надобность врать и убивать. И настанет на земле мир и тишина, сладко убаюкивающая все несчастные сердца, несчастные до сих пор. Но это не может произойти просто так, ничего в мире не происходит просто так: наши жизни тесно переплетены между собой и миром природы; падет один – на земле окажутся и остальные. Вот так и возвышается над нами фигура спасителя, скрытого от нас пеленой неизвестности: каким должен быть тот, кто сможет решить все проблемы? Это уже за пределами нашего понимания.
Я снова выглянул на улицу, держась за гладкий от сырости дверной косяк. Та девка всё еще отсасывала моему товарищу. Я хотел крикнуть в их деятельную ночную темноту двора-колодца «Да сколько можно!», но, слегка пошатываясь, посмотрел по сторонам и, увидев рядом скамейку с выломанными сиденьями-деревяшками и зачем-то моментально посмотрев на одно из окон в верхних этажах, передумал, ограничившись только броском мятой железной банки в их порочную сторону. Металл зазвенел и покатился по неровному асфальту, поблескивая на слабом сиянии лампы над черным входом. А они даже не шелохнулись: их головы были еще слишком ватными и праздными, чтобы чего- либо бояться. В темноте её белые ручки виднелись особо отчетливо на фоне его темных джинс: они страстно обхватили его бедра и едва ли собирались останавливаться на достигнутом. Я снова уставился на то окно на самом верху и только через минуту понял, что меня так привлекло в нём: оттуда лилась музыка. Это была какая-то симфония из классических опер или балетов, торжественная, возвышенная, возносящая всех слушателей высоко-высоко за пределы маленьких ободранных комнатушек. Оконные рамы были распахнуты, в комнате горел мягкий свет, но никакого движения видно не было: быть может, обитатель той квартиры уже воспарил над городом.
– Хорошо всё-таки, что Зарёв сдох, – внезапно раздался голос моего товарища.
В образовавшейся тишине я сплюнул на крыльцо. Скоро наверняка сюда приедут жандармы. Пора уходить и не придавать значения случайным фразам. Скоро закончится и эта ночь.
Зачем сопротивляться тому, что неизбежно? Зачем бежать и кричать, бить кулаками надвигающиеся когорты нового, что сметают привычный нам мир? Они всё равно ворвутся, ведь это и есть жизнь – постоянные изменения. И мерилом здесь выступает только то, что мы сами выберем своим солнцем. Стремились ли мы к нему или бессовестно убегали, вонзая нещадно в своё сердце рюмку за рюмкой, покрывая себя шрамами, стремясь пасть раньше времени. А кому-то и так отпущен малый срок: лучи должны гореть ярче.
По дороге на квартиру мой товарищ вспомнил ту симфонию, которая играла во дворе.
– Это финал «Тангейзера», увертюра к нему, – пояснил он. – Бодлер умирал под нее, сраженный сифилисом. Я бы тоже умер под нее, но, разумеется, не от сифилиса.
Я хмыкнул, и молчание улиц снова ворвалось в наш разговор. Промозгло. Пусть это произведение начнется со слов Берроуза, а закончится серым цветом под палящим солнцем на чистом от облаков небосводе.
Или же всё-таки в конце проскользнет надежда?
Мы вышли ещё до первых лучей. Или их просто не было видно из-за низких громадных туч, которые всегда висели над городом. Мы сразу же направились на перрон местной станции через сломанные турникеты, распинали с жутким грохотом пару-тройку куч пустых жестяных банок, согреваясь таким образом, и сверились с часами. Изо рта моего товарища вылетали клубы пара. Он покачал головой: электрички ещё не ходят. Значит, прыгаем. И вот мы уже шли по грязным шпалам и щебню. Нас окружали бетонные стены, изрисованные жуткими рисунками и непристойными надписями:
«Умрите –ые ублюдки!»
«Не целуйтесь без регистрации в районном центре Ж.О.П.А. (Жилищно-Общинного Полицейского Аттестата)»
«Великий ПУ даст воровать, как и Алёна»
«Будь осторожен в нашем гетто
–бут здесь за каждое минетто»
«Трахея – богиня любви»
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее (далее стёрто и подпись: А ИДИТЕ ВЫ НА–!)»
«Строго храни девственность, военную и государственную тайну! Все беды от крепкого сочного венозного Х–! И армия это доказывает»
Хотя кто тут говорит о пристойности? Два ободранных выкидыша – грош нам цена.
Мы прошли мимо огромного упавшего рекламного щита, который уже наполовину ушел под вечно мокрую землю. Какой-то умелец баллончиками нарисовал на нем библейские сюжеты, которые уже стали выцветать. Я остановился и стал разглядывать это. В моей голове зазвучали строчки: «И вторили вавилоняне жрецам: «Бойтесь, неверные! Ибо когда придет наш Бог, то узрите вы, как глубоко заблуждались и вели свой род во тьму!» И Бог пришёл».
Снова стал накрапывать дождь. Мой попутчик стоял рядом. Он тяжело вздохнул, вынул из широкого кармана куртки баллончик, потряс его забинтованной рукой и подошел к ржавеющему щиту, вырисовывая поверх тусклого Вавилона одно слово: ЛОЖЬ. Эта надпись перечеркнула весь рисунок. Да, нам цена была грош, поэтому мы и могли вести себя так: бросать вызов самому Богу и не наедятся на победу или милосердие, ведь последнего никогда и не было в нас самих.
К слову, и единства у меня с товарищем никогда не было. Даже в музыке, которая, казалось, и была нашим нектаром жизни. Я думаю, что многие песни были написаны из-за чувств, которые не мог не высказать человек. Если промолчал – умер, тебя больше нет. Ты можешь жить, но цели и смыла уже не догнать, они ушли. А он считал, что идеи правят миром. Главное смысл, а чувства… Они есть и у подзаборных дворняг. Дурак несчастный.
Этой ночью город упирался верхушками своих домов в наши рваные кеды. Как только мы поднялись сюда, я выбросил скрипку с крыши дома. Её нам подкинули «наши», сказав, что отжали у какого-то ушлого скрипача в переходе: он играл больно уж «по-пидорски». От удара она разбилась на две части и кучу щепок. Я увижу это, когда мы отсюда спустимся.
После этого я достал из внутреннего кармана фотографию: на ней тонкая женская рука лежала на краю ванны, плечо и лицо девушки остались за кадром. Мой товарищ не увидел этого, сплюнул и сказал:
– Они… боятся нас. Ты чувствуешь это? – сказал он, и огонек на конце дешевой сигареты в его оскаленной улыбке зажегся вновь. – Поэтому они так ожесточились. Все эти разгоны митингов, усиление законодательства, все эти слова на экране – лишь начало их панической болезни. Мы страшнее нацистов, и они знают это. Страх… – он широко раскинул руки, зажав сигарету между большим и указательным пальцем, и глубоко вдохнул воздух, воображая себя спасителем или даже мессией. – Он витает над этим миром. И мы его дети. Почувствуй это. Рожденные в эпоху очередных цепей, мы будем ЖИТЬ. Ведь мы уже обрекли сами себя на вечную свободу.
Но я чувствовал лишь, как сильно сжаты мои зубы, как волна отвращения подступает к горлу, а уши медленно начинают сверлить мой мозг. И виной тому были не эти самонадеянные слова, а музыка, которая играла где-то внизу. Жалкий выкидыш компьютерной программы и вокального класса, то, что сейчас пела девушка в динамике, было слишком абсурдно и прилизанно, чтобы воспринимать это с чем-то другим, кроме чувства полного отвращения. А ведь эту певицу все считали знаменитой. Все, но не мы.
– «Наша маленькая группа всегда была и будет до конца», – пробубнил он, раскачивая головой из стороны в сторону. – Наша тоже. Кто, если не мы, покажет всем, насколько все зыбко, насколько все прогнило. Вонь, вонь от этой гнили витает в воздухе, но люди называют это «слегка испорченной экологией». Будто за городом можно убежать от этого. Везде сплошной обман, и они его дети, – он ткнул тем, что оставалось от сигареты, в сторону центрального района. – Его дети, его…
Несколько капель упали на засыпающий город. Буря была близко… Вдалеке мелькнула молния. Подул западный ветер. Но он этого не замечал. Он молча смотрел остекленевшими глазами на грязные улицы, по которым проезжали редкие одинокие машины, прокручивая в голове свои воспоминания. Песня закончилась. Началась другая. Он громко вскрикнул, нарушая сон трущоб:
– Что? Неужели эта сука будет снова петь?
Вместо ответа начался дождь, смывший его слова в историю. Из этой картины можно было сделать хорошую драму, но в любом случае, всё это не больше, чем жизни нескольких людей. Кому сейчас есть дело до них?
После того как нас чуть не сбил уже третий поезд подряд, мы поняли: пора выходить на улицы. Часы дороги не пропали даром: мы были в центре города. Немного прошли и вышли на привокзальную площадь с обелиском в центре. Где-то в толпе мелькнул человек в желтом дождевике, он выделялся своей яркостью, и это развеселило меня, но увы, человек быстро исчез в одном из пабов на Лиговском. Мой товарищ не удержался и пошутил про фаллическую форму обелиска. Он даже не догадывался, что Фрейд в своё время на этом делал деньги и психологию. Теперь же на таких шутках зарабатывают туалетные комики. Наверное, я слишком критичен.
Мы шли по главной улице – широкому проспекту, набитому доверху людьми, машинами, старинными домами и памятниками архитектуры. Правда, домов за салонами и вывесками уже и не было видно. Лишь полуголые красавицы в дорогущем нижнем белье на большом рекламном баннере радовали глаз в этой серо-цветной безвкусице. Небо уже посветлело, но даже редкий луч не пробивался через завесу туч. Весь этот город – набережная неисцелимых. С одной стороны, инфекционный изолятор у канала, с другой – чистый вымысел: смыслы и знаки, которых нет, но мы всё же наполняем ими судьбу всех прокаженных.
Не боясь непогоды, над домами пролетел огромный неповоротливый дирижабль грязно-зеленого цвета с большими экранами и громко кричащим рупором:
– Все на футбол! Акция от Хеленгайзера! При покупке трех единиц товара скидка на второй билет 70%! Это твоя удача, так возьми её в руки!
– Ха, орет, как будто о начале войны объявляет! – прокричал мой товарищ. – Войне праведного потребителя за лучшие товары! Виват, хер Хеленгойзерн, или как там тебя?!
Когда мы переходили дорогу, одна из машин не успела проехать и перекрыла зебру. Толпа людей стала недовольно обходить ее, опасаясь проезжающих мимо машин. Мой товарищ рассмеялся, запрыгнул на белоснежный капот машины и прошелся по нему, как по переходу. Спрыгнул, обернулся. Парочка прохожих переглянулась и последовала его примеру. Я же перешел, как все остальные, и стоял в сторонке, наблюдая за своим хохочущим товарищем. На белом капоте осталось множество грязных следов, это было действительно смешно, и я улыбнулся. Водитель машины высунулся из окна и стал громко и истерично кричать своим толстым лицом, покрасневшим от злости и унижения. Весь перекресток смотрел на него, будто бы произошедшего ему было мало. Еще несколько людей прошлись по капоту, в то время как остальные с опаской проходили мимо. А мой товарищ стоял в нескольких метрах от машины и смеялся, согнувшись и держась за живот. Водитель кричал именно на него, пытаясь задавить одинокого героя своим богатым, но отвратительно сложенным четырехэтажным матом. А мой товарищ лишь смеялся. Он будто показывал суть вещей, имея мужество не только это делать, но и смеяться над этим.
Загорелся зеленый, и машины снова поехали. Мы молча продолжили путь. В конце улицы сквозь легкий туман стал виден небоскреб. Огромные синие буквы на фасаде властно высились над городом. Да, у них сбылись все мечты: рабы теперь знали имя своего господина. На месте старинного Адмиралтейства стоял бизнес-центр города. Дальнейшее развитие истории. Но нас это не заботило. Ведь мы шли, а в наших сердцах уже били барабаны. Увидев нас, люди расступались. Наши головы качались в такт нашей жизни, и не собирались останавливаться ни на секунду. Мы знали, насколько дорога эта секунда. Собираясь умирать в двадцать семь, приходится танцевать. Ведь когда же ещё это делать. Наши ноги быстры, кеды порваны, дождь льет на нас слезы Богов, а мы лишь грязно посылаем небеса. Превосходно. Наша жизнь обретает смысл.
Из-под арки на проспект вышла невысокая напряжённая девушка в полушубке, крепко держа под руку шатающегося молодого человека. Тот согнулся в три погибели, мотался из стороны в сторону, но всё-таки сумел выпрямиться, хоть и ненадолго – после следующей фразы он вновь согнулся, пытаясь упасть на мостовую:
– Ну, и напиздрячился я.
Девушка самоотверженно удерживала его от окончательного падения.
– Сушай… Давай такси вызовем, – промямлил он.
– Да какое такси! Тут вот… – возмутилась она и продолжила «тащить» парня по проспекту.
Они прошли мимо нас. Мой товарищ с улыбкой наблюдал за этим, но резкий треск и скрип тормозов поблизости, заставил нас обернуться: рядом с нами остановилась красная иномарка. Из машины, цокая каблучками и развевая на ветру подол легкого платья с большими вырезами для надутой груди и тонких ножек, выбежала женщина, полностью не предназначенная для пеших прогулок. Она окликнула моего товарища и бросилась ему на шею. На ее тонкой шее под кожаным чокером с металлическими вставками виднелась цепочка с крестиком.
– Ого, Илона, какой сюрприз! – рассмеялся мой товарищ и шлепнул её по заднице.
– Нет, нет, не сейчас, – ответила она своему любовнику, поправляя воротник его пальто; ее взгляд упал на его перебинтованную ладонь, она с натяжкой улыбнулась и продолжила как ни в чем бывало. – Тебя давно уже не видела у себя…
Данная особа деревенских кровей и юбочных амбиций (от выражения «таскаться за юбками», именно она была такой юбкой), владела благодаря мужу спа-салоном «Премьера». Ох, извините, мужским спа-салоном. Это одно из тех заведений, где царит приятный полумрак, бесплатный бар, всюду девушки из провинциальных «Плейбоев» и программа с названиями типа «Эгоистка», «50 первых поцелуев», «1000 и 1 ночь», «Сирены», «Мокрые кошечки», «Главная шалость»; и большой прайс дополнений: надеть черную повязку на клиента – 1000 у.е., называть весь сеанс клиента именем, которое он пожелает – 2000 у.е., «голая соседка» – дополнительный мастер в джакузи – 10000 у.е.. И, конечно, под всем этим надпись: «мастеров (девушек из провинциальных «Плейбоев») руками не трогать!» Но мы-то все понимаем, как там устроено.
– Да дела… – бросил мой товарищ, посмотрел в сторону и сжал зубы, будто готовясь сказать что-то неприятное. – Слушай, лучше бери мужа и езжай отсюда. Крошка, это не шутки, лучше уезжайте.
– А как же мои девочки?
– Тебя всегда интересовала только ты сама, эгоистка чертова, – он с силой впился в ее губы, крепко сжав ее талию; она замычала от удовольствия.
Она была богатой, скучающей и неверной женщиной, и в этом была ее добродетель: так она могла доставить удовольствие многим и не упрекать их ни за что; это был ее честный выбор перед Богом.
Когда они расцепились, она что-то промямлила, поправила прическу и выскользнула и его объятий в машину. Стальной конь в мгновение ока проскочил через пол проспекта и скрылся от нас.
– Как она тебе? – глумливо спросил мой товарищ.
Я с кривой ухмылкой посмотрел на него.
– Да-да, – сжав в кулак здоровую руку, ответил он. – Блядь, такая блядь, блядь, хорошая.
Дорога продолжалась.
Если мы видели дешевые машины с надписями типа «Используйте своих домашних животных как вторсырье», то понимали: это наши. Мы врывались в эти машины как варвары, а выходили оттуда с добрым словом и банкой пива в руках. А потом стояли на одном из множества мостов в этом городе, опершись на облезлую ограду, и беззаботно свистели, отпивая пенящийся напиток немецких богов. Под нами проплывали прогулочные корабли, и мы передразнивали экскурсоводов. Наверное, мы прожигали наши жизни, горели только, чтобы сгореть. Но никому до этого не было дела. Нам не было до этого дела. Нас привлекала свобода. Мы были непобедимы. А что другие люди? Смотря вокруг, казалось, что никаких других людей-то уже не было. Одни ряды врагов и им сочувствующих.
В одной из арок мой товарищ заметил важного человека и сказал:
– Пошли, покурим.
Мы зашли в стальную дверь с вырванными звонками и покореженным магнитным замком. Под желтой аркой с отвалившейся наполовину краской и штукатуркой стояло несколько парней, которые курили, девушка и человек со шрамом. Именно к человеку со шрамом обратился мой товарищ, пожимая ему руку:
– Здорово́, Клык.
– Не жалуюсь, – хмуро ответил новый собеседник.
– Какие сводки с полей?
Человек, названный Клыком, прищурил один глаз и ответил:
– А ты не в курсе?
– Был бы в курсе, не спрашивал бы. Так что расскажешь, как раз хотел покурить, вот и тебя послушаю заодно.
– Герман на днях скопытился, и в столице наших накрыли. По большей части не тех, кого надо. Их даже сообщниками не назовешь.
– Но сроки будут реальными.
– Мне насрать на них, – резко сказал человек со шрамом. – Главное, что все на месте остались, всё идет по плану. Ждем знака и начинаем, и гори всё синим пламенем.
– А что с Германом?
– Что, что, не слышал, что ли? – рявкнул Клык. – Накрылся наш головастый спидозник. Но это понятно, от него кости одни остались с натянутой кожей. Мы ему шепнули, что по его голову выехали, так он с места не шелохнулся. Врубил на полную свою любимую классику и потом, во время штурма квартиры, застрелился. Вот такая лебединая песня верхних этажей.
Я моментально непроизвольно дернулся: вспомнил тот пьяный вечер и темный двор-колодец с «Тангейзером» на верхнем этаже. Неужели это был он?
Герман… это же тот маленький, вечно хворающий человек с узкими плечами и толстой шеей. Герман… Когда-то он преподавал в университете. На чем же он специализировался? Хм… А не важно. Я отчётливо представлял, как в ту злополучную ночь, увидев из окна луну, он вяло дергает правой рукой, чтобы оголить часы на запястье. Большая стрелка на одиннадцати, маленькая на тринадцати или четырнадцати минутах. Не может сразу разобрать, зрение подводит. Время точное, пока всё хорошо. Луна из его окна будет видна следующие сорок минут, пройдет от одной части крыши дома напротив и зайдет за другую. К тому времени все окна погаснут, останется одно или два. Всего несколько человек, не спящих в эту ночь в этом дворе. По крайней мере, при свете. Он дотянулся рукой до магнитофона, стоящего на стуле с облезлой обивкой, и нажал на кнопку. Щёлк! Простой механизм закрутился и спустя несколько секунд… началось. Откинулся на кресле, сжал неприятные на ощупь подлокотники и глубоко вздохнул, смотря на гардину без штор. Его глаза наполнены усталостью и безразличием. Музыка играла, первая музыкальная тема – духовые, вторая – струнные, невидимое шествие, состоящее только из звука, записанного много лет назад, проходит мимо его, звук нарастает по мере их приближения, а потом удаляется, удаляется куда-то за спину. Нет, не в комнату и не в коридор и дальше к входной двери, а туда, в прошлое, в тот момент, когда этот звук был записан на пленку. Множество микрофонов, мотки пленки, сделанной химическим концерном где-нибудь в центральной Европе, многодорожечная запись…
В комнате беспорядок: одежда, книги, рисунки, стекло из дверки шкафа, ручки, зеркало из ванной в виде осколков, гвозди, пластинки и диски – все это лежало на полу, диване, столе в одной большой куче, растекшейся по всему помещению. Он вспоминал свою жизнь. Некогда было убираться за воспоминаниями. Он должен был прожить еще минимум десять минут, пока не закончится мелодия, он хотел ее дослушать до конца. В дверь постучались. Он даже не сказал: «Чёрт». Просто опустил голову, взял пистолет, лежащий у него на коленях, и дал клятву, что дослушает до конца. Ведь его гости были готовы пилить дверь. Они не примут отказа. Он снова откинулся на спинку кресла и стал ждать, наслаждаясь мелодией. Именно это он и делал всю свою жизнь, пусть иногда и вставал со своего «кресла».
Пришло время умирать. Пришло. Чем же была твоя жизнь, о человек, смотрящий на луну под увертюру «Тангейзера»?
Дверь пилили долго, только в последнюю минуту, пока играла музыка, он стал стрелять себе за спину в коридор. Гости идти в его комнату после такого не хотели, что-то кричали, наверное, предлагали сдаться, но он стрелял в ответ. Апофеоз мелодии и одиночные выстрелы сотрясали квартиру. Свободной рукой он нащупал через плащ книгу в зеленой обложке во внутреннем кармане.
– Надеюсь, что завтра посох Папы расцветет.
Выстрел. Последняя пуля. Пять, четыре, три, два, один. Музыка смолкла. Он вставил себе пистолет в рот и сразу же выстрелил, не дав ни одной мысли проскочить и отвлечь себя. Он видел только луну в небе. Взрыв боли. И сразу же всё стихло.
Тишина.
Тишина.
Тишина.
Тишина.
Тишина.
Внезапно он почувствовал, как падает вниз, сквозь этажи. Воздух шумел в ушах, но пальто и одежда не колыхались на ветру, а лежали ровно и неподвижно на его теле. На каком-то этаже он отклонился и вылетел в окно. С удивлением заметил, что не было звука разбивающегося стекла. Он мягко опустился на асфальт, оглянулся и со всех ног побежал по единственной ровной дороге, которая уходила вперед и не делала поворотов. Он бежал так, как никогда в жизни, он чувствовал, что впереди его ждет ВСЁ. Будто сама Любовь стояла на том конце дороги, разведя руки в стороны для объятия. Он бежал всю ночь, почти не чувствуя боли в ногах. Дорога вывела его из окружения осажденных громадных стен-домов на зеленые луга. Он даже не сразу понял, что бежит по траве. От неожиданности он резко остановился и чуть не упал. Он огляделся: луга, живописная река и мост через нее, сделанный из живого дерева, которое как будто само упало стволом на ту сторону и пустило корни на обоих берегах. На том берегу слева виднеются развалины замка, а в центре зеленеет роща с гигантскими деревьями и маленьким красным домиком на холме. Он дотронулся до плаща, но книги не было на месте. Он улыбнулся, обнажив свои уставшие от нескончаемой борьбы зубы, схватился за голову и засмеялся. Он знал, почему не было книги. И был несказанно этому рад. Она перешла в нечто большее, вернулась туда, откуда пришла. Собранная из кусочков этого мира в единый камень под обложкой, она вновь рассыпалась и стала целым миром. Она была вокруг него. Теперь ему можно было спать спокойно. Здесь было тихо.
Под желтой аркой в центре города наступила пауза. Все молчали и курили. Клык высился над всеми, высокий был черт. Его тело наполнено мощью, которая заставляла всех присутствующих непроизвольно посматривать на него с опасением. Я хорошо помнил, как впервые встретил его: он вминал какого-то урода в мостовую. Почему урода? Да все, кто попадал под его руку, были мелкими прислужниками, человеко-мясом, «черными воротничками» наших грязных улиц. Воровские рожи вместо лиц, да и у тех никаких манер и чести. За это Клык их вечно презирал. Когда он закончил, бедолага не шевелился и только слабо постанывал, было в этих звуках неестественное сопение, присвистывание, будто из самой глубины легких. Клык перешагнул через него, доставая тряпку, чтобы вытереть руки от бурой, и обратился к моему товарищу. Когда этот здоровяк встал рядом, то внутри моей груди образовалась большая пустота, наполненная дребезжанием ложек за сдержанным викторианским завтраком – всё трепетало перед его сокрушительной физической мощью. И тогда я понял, что ничем не отличаюсь от того «урода», лежащего на гладких безжизненных булыжниках мостовой, как бы о себе ни думал, и что бы о себе ни мнил. Я легко мог оказаться на его месте.
Клык… ему можно было дать лет на десять больше, чем ему было, потому что за последние четыре года он пережил слишком многое, чтобы оставаться в добром психическом здравии: он даже поседел. Его долго держали в самых жутких застенках Крестов, но он вышел, чем уже заслуживал звание легенды. Шрам на его правой щеке был глубокий, с неровными краями, он буквально уродовал его лицо. По слухам, это ему оставил на память следователь. А еще говорили, что у него много подобных шрамов. А еще… в общем, сплетен насчет него было много, что в очередной раз доказывало значимость Клыка для нашего непрочного мирка.
Мой товарищ прервал молчание:
– Ты сказал, что накрыли по большей части тех, кого не надо. Значит, и кого-то им нужного накрыли?
– Да, Страуса и Гаврилу взяли. Но ничего, с ними уже покончено.
– Как?
– Подослали к ним людей, пока их в общаке держали вместе со всеми. Удар ножом – и они ничего не расскажут. А ведь могли бы, наши авторитарные паскуды-жандармы умеют разговорить людей. Странно только, что они уйти не успели, я им весточку присылал. Их не должно было быть там.
Неожиданно в разговор вмешалась девушка в черной кожаной куртке с большими клепками, стоявшая рядом с ним:
– Я не успела передать послание.
Она сказала это, даже не повернувшись к разговаривающим, сказала так, будто это было чем-то неинтересным и обыденным. Клык моментально повернул голову к ней:
– Что?
Его лицо исказила жуткая гримаса.
– Я вчера поздно вышла, защищенный канал связи уже ушел. А зачем нам рискованные отправления сообщений?
Она посмотрела на него уставшим и безразличным взглядом. У нее была милая мордашка с заостренным носиком.
– Я же сказал, чтобы ты отправила сразу же…
– Были дела.
– Ты понимаешь, что я сделал? Кровь этих людей теперь на моих руках, я думал, что они остались на квартирах, потому что проигнорировали мои слова, а теперь знаю, что они даже не получили их. А знаешь, что сделала ты? – он говорил медленно, с каждым словом повышая голос. – Ты предала нас!
Клык наотмашь ударил её правой рукой по щеке, девушка издала прерывистый стон и упала в лужу. Мгновенное отвращение. Я даже хотел кинуться к нему или к ней, но меня опередили, один из курящих парней подпрыгнул к обидчику девушки, приняв боевую стойку и замахнувшись для удара.
– А, нет… – довольно сказал Клык, выхватив нож из кармана и наставив на нападающего. – Сучка даже по заслугам не получила, а ты уже мешаешь. Угу?
Он говорил, чуть высунув язык, явно получая от происходящего удовольствие. Парень опустил руки, уставившись на выставленное перед собой лезвие. Клык кивнул головой и легким движением собрал нож-бабочку, но не стал убирать в карман – оставил в руке. Он потряс кулаком:
– Такие как вы обрекут нас всех на погибель. По заслугам надо получать.
И подняв сложенный нож над собой, в напоминание о том, что он вооружен, Клык прошел мимо нас и вышел на проспект. Никто не посмел остановить его. Девушка лежала в луже и всхлипывала. Никто не помог ей подняться. Я поднял глаза наверх. «Служение есть жертвенность» – гласила надпись на своде арки, тускло проступая через слой дешевой краски.
Вид из этой квартиры открывался на одну многочисленных площадей этого города. Площадь Искусств, слишком фантастическое название для наших времен. Ведь что есть искусство? Сплошное разочарование для людей практичных, поверхностных. Сплошной художественный вымысел, никакого реального действия, всё сказочки да рисунки на потеху дня. Одинокий памятник Маяковскому стоял в широких штанинах и презренно смотрел на толпы собравшихся людей. Очередной митинг… Как же громко, надо закрыть окно.
Мой товарищ сидел, развалившись в кресле, и обсуждал условия нового выступления с молодым человеком нашего возраста, но не нашего духа. Он даже пиджак нацепил на встречу в собственной квартире. Люстра в этой комнате была синего цвета.
– Томми, ты пойми: мы просто делаем свое дело, потом идем в ближайший бар, чтобы хорошенько надраться. Беспорядки после нас – это не наша забота.