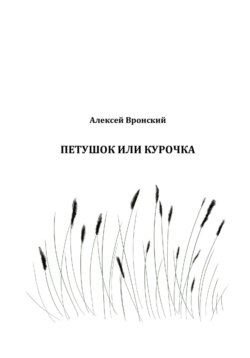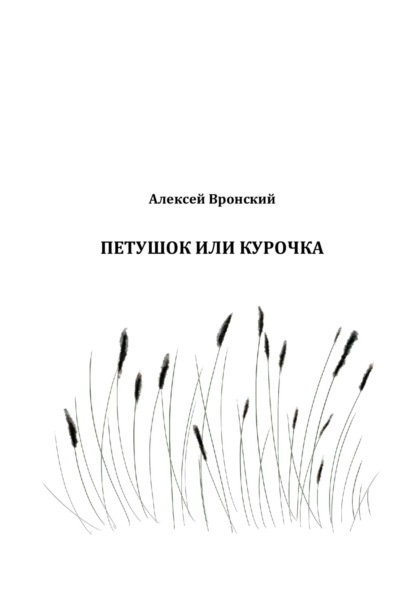Вронскому Юрию Михайловичу,
Вронской Марии Яковлевне,
Вронской Татьяне Юрьевне.
Дедушке,
бабушке,
маме,
доказавшим, что весь мир вращается вокруг меня,
посвящается эта книга
Глава 1. Петушок или курочка
Я долго подбирал название к своей «летней» автобиографии, доставая из памяти милые сердцу воспоминания детства, которые бы моментально и безошибочно описывали мою деревенскую жизнь.
Помню, как совсем маленький, может быть, лет четырех, я бежал по тропинке, пряча в руке сорванные бы́лки травы, и без конца повторял, докучая бабушке: «Петушок или курочка?» И, получив ответ, доставал из пригоршни травяной «хвост», торжественно объявляя: «А вот и нет, а вот и не угадала!» Потом шла очередь бабушки, она срывала свой колосок и спрашивала меня. Затем я искал новую травинку и приставал снова. И так до бесконечности.
Дни напролет я проводил в травяных зарослях, ныряя по пояс в дикорастущее разнотравье. Так с детства у меня вошло в привычку срывать и, подражая взрослым, словно покуривая, жевать травяные бы́лки. С сигаретами я так и не подружился, но и сейчас могу задумчиво «затянуться» зубочисткой.
Вся местность вокруг нашей деревни была сплошь покрыта густыми рядами диких злаков. Уже тогда я знал, для какого «хвоста» лучше подойдет кострец, ве́йник или райгра́с, мя́тлик, полеви́ца или овсю́г1, а можно было и не обдирать колосок, а просто тайно сорвать стебель лисохвоста2 и выиграть в любом споре. Я бродил по траве и выбирал себе самые свежие и вкусные травинки. Набивал карманы липучими шариками чертополоха и лепил из них «летние снежки», готовясь к внезапному «обстрелу». Отважно проскакивал мимо жгучих рядов крапивы, окаймленных зубчатыми краями, как у остро наточенных пил, с кусачими ворсинками на бледном исподе. Среди заросших лугов, приминая травы, я прокладывал тайные тропы, изучая окрестности. Стрекотали сверчки, жужжали шмели и пчелы, и, широко раскинув руки, я с разбегу нырял в душистую траву, переворачивался на спину и подолгу лежал, смотря на лазурное июньское небо, до которого, казалось, можно дотянуться рукой.
Я бегу по деревне, спотыкаясь на неровной тропке, впереди идут дедушка с бабушкой, я срываю травинки и кричу им вслед: «Петушок или курочка?» С тех пор прошла целая вечность…
Глава 2. Долгая дорога в деревню
Долгая дорога в деревню начиналась с посадки в поезд на Московском вокзале. Носильщик толкал по перрону огромную телегу, груженную с горкой вещами, коробками и чемоданами. Провинция снабжалась скудно, Костромская область в особенности. Дедушка доставал через стол заказов3 тушенку и «Завтрак туриста»4, остальные коробки были забиты баранками, сушками, гречкой, геркулесом и макаронами, суповыми пакетиками и приправами. Сельские магазины были настолько пусты, что Куанэ́б из «Ро́льфа в лесах» мог купить больше товаров в таежной лавке, чем мы в коны́гинском магазине.
Носильщики сновали по вокзалу, грубо крича: «Дорогу! Дорогу! Поберегись!» и резко опускали нос телеги на асфальт, заставляя подпрыгивать от неожиданности зазевавшихся прохожих, словно удар этот тяжелой металлической рамой пришелся им прямо по пяткам.
Проводница долго проверяла билеты. Покупали почти всегда плацкарт – купейных вагонов то ли не было, то ли они были очень дорогими.
Мы размещались в нашем отсеке плацкартного вагона, расставляя вещи под нижними полками и забивая все пространство над третьими – там, где хранились свернутые в рулон матрасы и подушки. На это уходило чуть ли не полчаса.
– 17, 18, 19… Юра, 19 мест! – бабушка пересчитывает вещи.
«Провожающих просим покинуть вагоны, до отправления поезда осталось пять минут!» – вещала проводница тоном диктора Всесоюзного радио, пробираясь по проходу и цепким взглядом определяя, кто остается, а кто выходит.
«Слушайся дедушку с бабушкой!» – мама целует меня и выходит из вагона, идя по перрону к нашему окну. Там уже стоит отец, он вышел раньше, чтоб выкурить сигарету. Было видно, что он уже устал от долгого прощания, он подталкивает маму к выходу, но она что-то говорит ему с упреком, и они остаются. Чтобы как-то разбавить прощание, отец начинает показывать мне какую-то пантомиму: он рисует дугу над одним бицепсом, потом над другим, потом над плечами и грудью, из чего понятно, что я должен много есть, чтоб у меня, как он говорил, «росли мы́шицы».
Я киваю, а он уже переходит к другой пантомиме: рисует в воздухе чернильницу, перо (при этом он смешно и неуклюже изображает гуся, из которого это самое перо и вынули), а потом начинает водить вымышленным пером по воздуху – это письма, которые я должен писать маме и ему. В этот момент вагон чуть дергается, я вижу, как блестят от слез мамины глаза, она замахивается на отца, чтоб он уже прекратил свое кривлянье, поезд начинает медленно ползти вдоль платформы, мама идет вровень с вагоном и крестит меня вслед.
Мы медленно отъезжаем от вокзала, оставляя позади «клубки» путей и железнодорожных тупиков, на которых «отдыхают» тепловозы и вагоны, проплывая мимо семафоров и сигнальных огней, бесчисленных складов и сортировочных дебаркадеров, мимо рабочих в оранжевых безрукавках, снующих взад-вперед, как муравьи.
Проводница идет по вагону и, как цирковой артист, ловко несет веер из четырех стаканов с чаем в рельефных подстаканниках в каждой руке. Грусть от расставания с мамой постепенно растворяется, как сахар в чае. Бабушка достает курицу, огурцы, помидоры и вареные яйца. Необъяснимо, но в поезде всегда разыгрывается аппетит, еда кажется намного вкуснее, да и дорога переносится легче в неспешных разговорах за столом.
Мы уже выбрались из города, поезд набрал ход. После обеда дедушка достает мне книгу: надо проводить досуг с достоинством. Смысл прочитанного уплывает, как летний пейзаж за окном, от которого невозможно оторвать взгляд. Никакая книга не заменит той картинки, что мелькает в окне поезда: стройные ряды леса, щекочущие небо; буковки «Т» придорожных столбов, повисшие на проводах; красные кирпичные водокачки возле полустанков, клумбы цветущих бархатцев и кусты шиповника у придорожных станций.
Помню долгие остановки на узловых станциях, когда опускали окно и свежий воздух врывался в вагон. На каждой станции были какие-то люди, которые разглядывали наш поезд, а мы разглядывали их. Мой взгляд всегда выискивал красивых девочек, мы переглядывались, но каждый знал, что смотреть друг на друга осталось ровно двадцать минут, а потом мы не увидимся никогда, и было в этом что-то щемящее. Иногда я уже на ходу махал им вслед, пока окно было открыто, не в силах оторвать взгляд.
Какие-то станции были совсем пустынны, на перроне появлялись лишь сотрудники железной дороги. Все, казалось, было погружено в сон. Они стояли и смотрели на поезд, делая вид, что чем-то заняты, всматриваясь в лица пассажиров.
Будильником звенел звонок железнодорожного переезда, разлеталось эхо объявлений с размытыми неразличимыми звуками, из которых невозможно было составить ни одного слова, завывал тепловоз, пыхтя и испуская воздух, и долго лязгали и громыхали колесные па́ры, проваливаясь в расшатанные рельсовые стыки; дергались вагонные сцепки, в нос шиба́ло углем, мигали семафоры переезда. Новое эхо, далекий щелчок микрофона, протяжный вой другого состава вдали и наплывающий звук чего-то тяжелого, неповоротливого и грузного.
Опускался вечер, закат окрашивал все вокруг в желто-оранжевый цвет, делая станции и пейзажи красивее и таинственнее. Поезд прибывал в пять или шесть утра, бабушка расстилала белье, стараясь уложить меня как можно раньше, боясь, что я не высплюсь. Но сон никак не шел, я наизусть знал расписание, вывешенное у титана с горячей водой, рядом с открытым купе проводников, куда было интересно заглядывать.
Я делал вид, что ложусь спать, но на самом деле приподнимался на полке и смотрел в окно. Я знал, что среди ночи в темноте небо вдруг окрасится горящими факелами, поезд будет полчаса медленно ползти мимо металлургического комбината в Череповце, и сотни лампочек, вышек с горящим синим пламенем и цистерн будут светиться, словно космическая станция на Марсе.
Глава 3. Путь от райцентра до деревни
Путь из райцентра до деревни была полон незабываемых приключений. Эти тридцать километров проселочной дороги по капризу природы могли превратиться в непреодолимое бездорожье. Несколько дней майских или июньских дождей способны были превратить бурый пунктир дороги в жидкое месиво или мутную грязную реку. Автобусы не рисковали сунуться в глубокую жижу; редкие безрассудные попытки заканчивались то тут, то там застрявшим и брошенным транспортом. Бабушке и дедушке нужно было решить задачу, как добраться до деревни. Поезд приходил на бу́йский вокзал в пять утра, и пустынная станция еще дышала прохладой. На вокзале не было ни души. Меня, трясущегося то ли от недосыпа, то ли от прохлады, оставляли с чемоданами в зале ожидания. Сидя на облупившихся, покрашенных рыжеватой краской деревянных креслах, разделенных металлическими дугами, я ждал, пока взрослые решат, на чем мы будем дальше добираться.
Чтобы занять себя, я изучал объявления на стенах зала ожидания вокзала, рассматривал коричневые и кремовые плитки на полу, количество которых я знал уже наизусть, ковырял облезлую краску сидений, на которых безуспешно пытались уснуть пассажиры, подходил к окошкам билетных касс, внимательно разглядывая кассиров, склонивших голову и напряженно перебиравших билетные бланки.
Чтобы я не заскучал, меня отпускали гулять по площади. Я ходил по аллеям парка возле памятника Ленину, который каждый год обновляли серебрянкой. Стволы деревьев на метр от земли аккуратно окрашивали белой известью, и когда я спросил дедушку, для чего это делают, он ответил, что кору окрашивают для защиты от зайцев. Я не унимался: «А как живут другие деревья, которые никто никогда ничем не красил?» На этот вопрос я не получил ответа, решив для себя, что деревья вокруг Ленина важнее, чем остальные.
Запах дегтя со станции разносился по центральному скверу и улице 10-й годовщины Октября, перемешиваясь с запахом растений и трав. Дровяные сараи чернели во дворах. Старые покрышки, выкрашенные белой краской, цвели бархатцами. Покидать вокзальную площадь мне строго-настрого запрещалось, но проходя мимо закрытого еще магазина «Заря», я норовил хоть чуть-чуть удалиться от вокзала.
Во дворах стояли железные столбы с перекладинами, на которых были натянуты веревки с бельем. Развешенное белье плескалось на ветру разноцветными флагами. У гаражей торчали ржавые треугольники для выбивания ковров. Один мужчина «повесил» «Утро в сосновом лесу»5 и охаживал его выбивалкой, поднимая в воздух облако пыли…
Вариантов добраться до деревни было не так много. Дважды в день из райцентра до наших мест отправлялся молоковоз, собиравший молоко с районных ферм. Он появлялся на вокзальной площади около восьми часов и подбирал попутчиков. Кузов огромного Урала был на три четверти забит пустыми сорокалитровыми бидонами, которые он вез на смену. Александр Пантелеймо́нович Перева́лкин брал за проезд по рублю с человека, помогал загрузить чемоданы и подняться наверх женщинам и детям. Пустое пространство в кузове быстро набивалось, но Пантелеймо́нович старался взять всех.
Урал отправлялся от площади и сворачивал на улицу Октябрьской революции. Я смотрел, как ранние, сонные прохожие останавливались, провожая его взглядом. Мужчина в брезентовом плаще неторопливо ехал на велосипеде, и привязанные к раме удочки тряслись на каждой кочке. Возле старинной лавки Урал сворачивал на улицу Первого мая. Выползал на мост через Вексу6 с густыми шапками ивы по берегам и мостками, на которых женщины полоскали белье. Слева оставалась стрелка и белесая колокольня Благовещенского собора. Урал с диким ревом дергался и плелся по окраинным улицам городка, разгоняя стайки гусей, куриц и цыплят, неспешно прогуливающихся в траве. По мере удаления от города дорога становилась все хуже и хуже: глубокие лужи превращались в озера, в которые наш Урал погружался по самый кузов.
Я с наслаждением смотрел, как мы заплывали в бурую грязную воду, и в стороны от нас расходились волны, разбегавшиеся по краям. В некоторых «озерах» на дне была глубокая илистая жижа, которая засасывала колеса. Грузовик ревел и трясся и, надрывая двигатель, старался выбраться из болотистых луж. Когда Урал выбирался из лужи, со всех сторон лились струи воды и с колес летели комья грязи. Колея становилась все глубже и, казалось, что мы вот-вот сядем на задний мост, а колеса повиснут в воздухе. В кузове народ напряженно держался за болтающиеся алюминиевые бидоны, которые бряцали друг о друга.
Урал творил чудеса: опускался, ревел, но каким-то чудесным рывком выныривал из очередной грязевой трясины. Брызги с колес летели и покрывали бурым цветом заросли придорожной травы. Встречного транспорта почти не было. Мы проехали уже километров шесть, как дорожное полотно расширилось вдвое, и жидкое месиво превратилось в зыбучую болотную топь. В низине скопилось гораздо больше воды, чем на других участках, чувствовалось, что дорога сделалась намного хуже, и каждый новый отрезок давался с огромным усилием. Все уже понимали, что долго это продолжаться не может, и хоть и надеялись на лучшее, но с ужасом представляли, что будет, если мы застрянем. Урал выбрался на более-менее твердый участок дороги, чуть разогнался, чтоб проскочить очередную водную топь, и как-то осел, истошно надрываясь и ревя. Он торопливо попытался откатиться назад и с раскачкой рвануть вперед, но зарылся еще глубже, а движок стал «кашлять» и «чихать».
Все стихло. В кузове беспокойные пассажиры стали перегибаться через борт и смотреть вниз.
– Сели, …бена мать. Давеча здесь всегда садились, и тут не сумел. – Дверь кабины раскрылась, и оттуда высунулась голова Перева́лкина.
Он посмотрел вниз и полез обратно в кабину переобуться в болотники, высунулся через полминуты и осторожно спустился в воду. Вода едва не залилась ему в сапоги. Он сделал несколько осторожных шагов и выбрался на сухую обочину.
– Ну что, Пантелеймо́ныч? – кто-то крикнул с кузова. – Выберемся или надо за трактором идти?
– Не, тут не пройдешь, встали так, что …
Далее шел мат, который я в то время не совсем понимал. Чудились какие-то странные слова.
– Я́комлемна! – он обращался к бабушке. – Я пойду до Глобéнок за трактором, килóметра полтора будет. Пойдете с мальцом в деревню? А то пока нас вытащат.
Он помог нам спуститься с кузова и перенес меня на обочину. Далее шел долгий и неприятный путь до Глобéнок. Дедушка остался в кузове сторожить вещи. Глобéнки была совсем небольшой деревенькой на десять дворов, но там был свой тракторист. Перева́лкин шел прямиком к его двору. У дома красовался оранжевый гусеничный трактор с готовым намотанным тросом сзади. Мы зашли в избу. У тракториста был обед и нас позвали к столу. В доме находилась еще какая-то пожилая женщина, которая подавала на стол.
Нас напоили молоком, поставили сковороду с картошкой и банку соленых огурцов. Я ел и слушал разговор мужиков.
– Где сел? У мóста что ли или поближе?
– Да, прям у мóста, как и в прошлый раз.
– Я уж две недели тягаю оттуда.
Тракторист не торопился, спокойно наливал водку, выпивал полстакана и смачно закусывал огурцом; брал огромный ломоть ржаного хлеба и ел со своего края сковороды, всякий раз старательно облизывая ложку.
– Ща вытащу, не волнуйся.
Он специально затягивал время, хотел, чтоб Перева́лкин пообещал ему больше денег. Потом они вдвоем ушли во двор, долго возились там, заводили трактор, и медленно, покачиваясь, поплыли в сторону дороги. Мы с бабушкой оставались ждать с хозяйкой дома. Начинались деревенские разговоры.
– Вы откуда ж будете?
– Мы Скворцо́йские с Коны́гина и Полета́лова.
– Аааа… то за Ли́кургой, к Елегинý?
– Да, семь килóметров от Ли́курги.
– А Авгу́ста Петровна-то не ваша ли родственница?
– Конечно, это ж моя троюродная сестра.
– О, так это ж свояченица моего мужа.
В деревне всегда находились родственники. И при любом знакомстве люди перебирали свое родство в поисках знакомых фамилий.
Мы сидели за столом. Хозяйка достала семечки. Окно было раскрыто нараспашку, и сквозь натянутую марлю с улицы долетал легкий гул от трактора, гудевшего где-то вдали. На подоконниках стояли жирные бордовые цветы Ваньки мокрого7 с блестящими сахаринками на кончиках листьев. Иконы в углу комнаты смотрели на меня из полумрака. В избе пахло жареной картошкой и зажженной лампадой. Уходить не хотелось, постепенно заламывалась середина дня, а мы так и не знали, сколько еще времени нам придется провести за столом. Гул от трактора прекратился, и за окном наступила полная тишина, изредка нарушаемая криком потерявшего часы петуха.
Шло время, бабушка долго разговаривала с хозяйкой, серчая на то, что мы застряли и неизвестно, как нам выбраться. Начало смеркаться, и где-то вдали послышались приближающиеся звуки работающих двигателей. Трактор с трудом вытащил Урал. Мы сели в машину около девяти вечера.
Наша долгая дорога продолжилась. Проезжая через мост у Ля́хово, Перева́лкин повернулся и сказал бабушке:
– Я́комлемна, открой окошко, мост слабый, может не выдержать, если в реку свалимся, они-то из кузова выплывут, а нам надо будет через окна выбираться, иначе потонем.
Я высунулся в окно и напряженно смотрел, как прогибаются бревна моста под нашими колесами.
Я помню, как в полудреме тянулась нескончаемая дорога, прыгал свет фар, освещая огромные лужи и танцующие стволы берез вдоль дороги. Мы добрались до дома только к двум часам ночи, преодолев тридцать километров за восемнадцать часов.
Глава 4. Полетáлово
Я знал, что Полетáлово – это родина моей бабушки и ее сестер. Ранние воспоминания первых наших приездов в деревню яркими цветными пятнами всплывают в моем сознании. Поначалу мы останавливались в доме бабушкиной сестры тети Нины. Это был большой крепкий дом, срубленный8 в начале двадцатых моим прадедом, дедушкой Яковом. Если считать от большой дороги, дом стоял последним в деревне, сразу за ним начинался спуск к реке. Он нравился мне своей крепостью и чистотой. Светлые ровные бревна, несмотря на полвека жизни, поражали своей свежестью. Рамы были выкрашены в нежно-голубой цвет, нижние венцы лежали на земле, сохранив горизонтальную правильность линий. Не было ни пляшущих половиц, ни покосившихся углов, ни кривой крыши. Во всем ощущалась солидность, и казалось, что дом простоит еще очень долго. В палисаднике было много ульев. Пчелы кружили вокруг лип и колокольчиков ипомей9. Как-то раз я почувствовал, как пчела ползает у меня по лицу, а потом ощутил сильнейшую боль: она успела ужалить меня в веко. Глаз немедленно стал заплывать, я испугался. Дедушка аккуратно достал жало и долго еще прикладывал к веку компресс. Я промучался три дня от нестерпимого зуда. Помню, что все это время, чтобы как-то отвлечь, меня дедушка непрерывно читал книгу. Одним из главных героев книги была гадкая муха Шиши́га10.
Мне еще не раз доставалось от пчел, когда я играл во дворе. Бабушка, успокаивая, приговаривала, что это полезно, и что многие пожилые люди нарочно ищут пасечников, которые занимаются лечением и сажают по несколько пчел на руки, поясницу и даже затылок. Объяснения эти мало помогали, боль не утихала, но мне становилось легче от понимания, что это полезно.
Кроме ненавистных пчел, в доме жил тетининин муж – Николай Васильевич Тяпкóв – беспробудный пьяница и скандалист. Дедушка с бабушкой Тяпкóва недолюбливали, но вынуждены были терпеть его. Нрав у него был скверный, настроение, в зависимости от состояния, переменчивое. Пить Николай Васильич мог в любом количестве и всегда норовил устроить скандал. Нарочно хвалился гостеприимством, но лишь для того, чтоб подчеркнуть свою значимость и спровоцировать ссору. Был он небольшого роста, чуть больше метра шестидесяти, сухого телосложения, лицом напоминал Шукшина – с огромными выдающимися скулами, за которые, казалось, его можно было подвесить. От работы в поле он быстро загорал и всегда был смуглым. На руках его средь волос виднелись полувыцветшие нечеткие татуировки.
Тяпко́в всем торжественно заявлял, что в молодости служил на подводной лодке, но дедушка, считал, что он выдумал эту историю, на самом деле попросту отсидел в тюрьме. До правды мы так никогда и не докопались, так как рассказать толком о службе вечно пьяный Тяпкóв не мог.
Витал в доме и дух первого тетинининого мужа – дяди Васи, портрет которого висел на одной из переборок11. Жизнь его оборвалась трагически: он заболел ангиной и полез париться в русскую печь. От резкой перемены температур спазм сковал его горло, и он задохнулся. Эта история всегда поражала мое воображение, и я иногда заглядывал в печь, думая о том, как страшно было раньше в ней мыться. На портрете дядя Вася был крепким, яснолицым молодым мужчиной, разглядывая его, я всегда сокрушался и думал: «Как же так получилось?!»
Лежа на печи среди вороха овечьих шкур и сложенных валенок, которые не убирали с зимы, я слышал разговоры взрослых, о том, что тетя Нина устала жить в Полетáлово, так как зимой они оставались в деревне совсем одни. Всего в деревне было четыре дома, но пожилую Мáрью Федоровну Цветкову увозили к дочери в Ли́кургу, Дядя Федя Щербаков гостил только летом, а Бабушка Оля Сорокина была совсем старенькая и из дому не выходила. Поговаривали, что совхоз выделит жилье в соседней деревне Коны́гине, где есть магазин, медпункт, телефон и двадцать восемь домов, а главное – колонка и ручей с ключевой водой. Председатель совхоза соблазнял переездом.
Я вытягиваю шею и из-за переборки и слышу, как, сидя за столом, тетя Нина беседует с бабушкой.
– Мýсень, зима больно долго тянется. Тропку мять тяжело. Трактор не разгребает. Все ногами да ногами. Года́ уходят, здоровья почти мало, – жалуется тетя Нина.
– К ферме к утренней дойке иду – по пояс в снег валюсь, еле выгребаю.
Бабушка только слушала и поджимала губы, качая головой.
– С печки надо выпиливать кирпич12, да выгребать сажу.
В голбце13 замяукал кот. Тетя Нина дернула кольцо в полу, подняла люк, и рыжий комок проскочил к блюдцу и стал жадно лакать молоко.
– Давеча, Мýсень, коты дрались, думала, сердце выскочит, насилу шерсть собрала, задо́хлась. Сил не было, меня шатало из стороны в сторону. Ведро вынесу, дыхание останавливается. Никогда такого не было. А тут и медпункта нет, Мýсень. Позвать некого. Коны́гино все-таки живая деревня. Доярки на ферму вместе ходят, тропка пробита, а я отсюда одна мну. Тяжело.
– Конечно, Ниночка, переезжай в Коны́гино, тяжело здесь зимой.
– Да, поди, что переедем, куды́ деваться.
Бабушка надеялась, что тетя Нина предложит занять ее дом, но никто не знал, когда именно они переедут, и как отреагирует на это Тяпкóв, который грозился, что разберет дом на дрова. Тетя Нина посмотрела в окно:
– Вон, Валька-дура побежала за черникой.
Бабушка все ждала, что разговор зайдет о доме, но он так и не сложился. Тетя Нина посмотрела на пола́ти: «Лук никудышный, стрели́т, совсем не уродился. И картошка мелкая родилась. Лети́на14 вся сгорела».
Тетя Нина и Тяпкóв все-таки переехали в Коны́гино. Предложение занять дом так и не поступило, и бабушка с дедушкой решили, чтоб не зависеть от чужого настроения и не ждать у моря погоды, купить дом у бабки Оли Сорокиной.