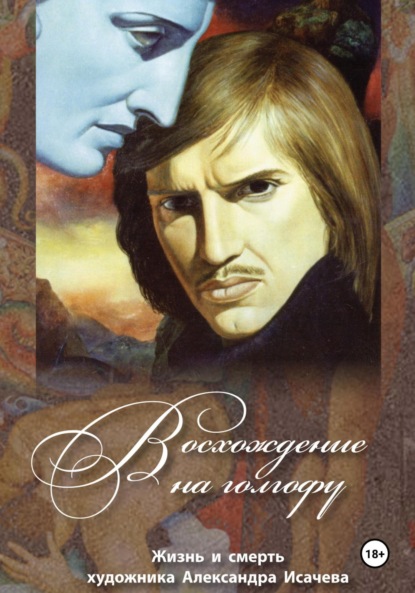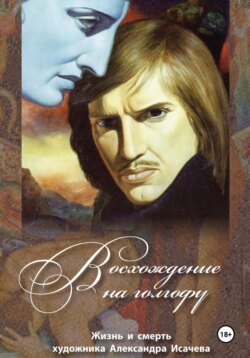
000
ОтложитьЧитал
ПРЕДИСЛОВИЕ
Нет, пожалуй, в белорусском искусстве фигуры более загадочной и более противоречивой, чем художник из города Речица Александр Исачев. Одни считают его гением, сравнивают с Марком Шагалом; другие называют обычным школяром, а его картины заурядным кичем – поделкой, дешевкой. После смерти художника прошло более четверти века, но даже этого времени не хватило для того, чтобы примирить оппонентов. Думаю, что не произойдет это и через тридцать, пятьдесят лет. Слишком уж выбивается его творчество из канонов живописи, а они сохраняются веками.
Единого мнения о том, что представляет собой феномен Александра Исачева, нет даже в профессиональной среде. Тем более опрометчивым было бы претендовать на обладание истиной в последней инстанции журналисту, я и не ставил перед собой такую цель. Постарался избежать и соблазна пересказывать биографию художника, хотя драматических эпизодов его жизни хватило бы на захватывающий телесериал.
С годами интерес к Исачеву не ослабевает. Его персональные выставки неизменно собирают аудиторию, которой завидуют даже признанные мастера кисти. Периодическая печать то и дело напоминает о трагической судьбе художника. Далеко не все в этих публикациях равноценно. Недостаток конкретных фактов иногда восполняется домыслами и даже откровенной неправдой. Особенно о взаимоотношениях Александра Исачева с властями и причине его неожиданной смерти. И это огорчает. Сам художник в своих картинах трепетно относился к точности даже малейших деталей, для чего старался с головой окунуться в изображаемую эпоху – изучал труды по истории древнего мира, научные монографии по искусству.
Мне посчастливилось, пусть недолго, знать Александра Исачева – наблюдать за тем, как колдует он у мольберта, слушать размышления о предназначении искусства и даже принять скромное участие в его творческой судьбе. Это дает мне моральное право сказать свое слово о нем…
Больше всего в судьбе речицкого художника меня занимает кажущаяся нелепость его ухода из жизни. «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», – справедливо считал маленький принц из повести Сент-Экзюпери. А если гасят?..
Каждый человек подобен любовно зажженной звездочке. Но отчего же так различен их век?
Одни доживают до глубокой старости, превратившись к своему исходу в немощное существо – с угасшей памятью, с едва тлеющими чувствами; а жизненный путь других обрывается в самом начале…
Одни грешат напропалую, не заботясь ни о теле, ни о душе, но к ним не пристает даже банальный насморк; другие же, ставящие добродетель превыше всего, с самого рождения обречены на страдания…
Одни бездарны, живут, словно сорная трава, лишь для себя, но наделены долголетием; другие отмечены печатью гениальности и могли бы украсить этот мир, но успевают использовать лишь незначительную часть своего таланта…
Что наша жизнь? Игра?..
Так считал герой оперы Чайковского «Пиковая дама». К такому невеселому для нас выводу склоняются многие ученые и интеллектуалы. Российский «Клуб знатоков» даже сделал эту фразу эпиграфом популярной телепередачи. Если придерживаться точки зрения пессимистов, тогда наши жизни подобны листьям на дереве: не всем из них суждено дождаться осени, во время грозы порыв ветра может сорвать их и ранней весной.
В отличие от науки православная церковь убеждена, что здесь, на земле, все начинается и ничего не кончается. Известный российский публицист, диакон Андрей Кураев на вопрос о том, существует ли бессмертие, ответил афористично: «Вы что же, действительно полагаете, что Бог работает начерно? Пишет и рвет, пишет и рвет?» Земную жизнь христианина богослов сравнил с ракетоносителем, который доставляет в космос полезный груз. Если расчет орбиты сделан правильно, а в баках оказалось достаточно топлива, иначе говоря, если жил человек по Божьим законам, его душе уготовано вечное счастливое бытие. Чем более грешен человек, тем проблематичнее его дальнейшая судьба, ведь «грех», если следовать буквальному переводу с греческого, означает, по утверждению Андрея Кураева, «непопадание в цель».
Александр Исачев верил в Бога. Все его творчество – путь к нему. Тяжелый, тернистый. Быть может, то, что он ушел из жизни без малого в тридцать три, в возрасте Христа, не случайность?
Тайна судьбы Александра Исачева в его последних днях. О них и рассказывается в книге.
Все действующие в повести лица – реальные люди. Из соображений этики я изменил фамилию лишь одного из них.
Образ публициста Андрея Юренева собирательный, автор отождествляет себя с ним лишь частично. Создавая его, мне хотелось показать, что и в советское время, когда существовала официальная цензура, и сейчас, когда ее нет лишь формально, в нашем газетном цеху находилось и находится немало смелых, честных людей, для которых главным мерилом их творчества является совесть, и служат они, прежде всего, не государству и не олигархам, а читателям. Думающие журналисты умеют запрятать крамольные мысли между строк, а думающие читатели находят их там. В отдельных случаях, когда такой прием не позволяет сказать всей правды, приходится решаться на действия, которые раньше квалифицировали как антипартийные, а теперь – как антигосударственные. Именно так и поступил Андрей Юренев.
Все факты из жизни художника абсолютно достоверны. А иначе повесть и не стоило бы писать.
В предпоследней главе автор использовал небольшой фрагмент из книги русской поэтессы Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения» (М., изд-во «Эксмо», 2008). С ней Александр Исачев был дружен, она оказала большое влияние на характер его творчества.
Процесс над Юлией Вознесенской воссоздан по подлинной стенограмме, которую друзья поэтессы сделали, тайком записав судебные дебаты на магнитофон.
Глава 1
Разговор явно не клеился.
–– Ты пойми, Саша, – убеждал гость хозяина дома, – мне становится все труднее переправлять твои картины за рубеж. Хотя прежние судимости сняты, гэбэшники продолжают вести за мной слежку, пасут на каждом шагу. А в Ленинграде за них дают копейки. В Союзе ведь тебя никто не знает. Это в Германии ты – талантливый художник. Прошла персональная выставка, выпущена серия слайдов, о тебе пишет немецкая пресса. А здесь ты – недоучившийся школяр! Конечно, художественный бомонд заприметил тебя еще с того времени, когда ты был в Ленинграде. Но они сами нищие. Да и ревность не позволяет признать в тебе гения. Единственный для тебя выход – эмиграция. Отсюда выпустят без проблем. Горбачев открыл шлюзы. А в Германии, в Израиле у меня есть надежные связи. На первых порах получишь политическое убежище и социальную помощь, которую дают всем эмигрантам. А дальше все зависит от тебя самого. Тут и раздумывать-то не о чем. За рубежом – известность, обеспеченная жизнь, а в СССР – нищенское прозябание. О себе не заботишься, пожалей хотя бы семью.
Александр Исачев, он был хозяином дома, выслушивал подобные увещевания Георгия Михайлова не в первый раз. Его раздражала настойчивость, с которой скандально известный питерский коллекционер склонял его к выезду за границу. Но, боясь обидеть гостя, которому он был признателен за многолетнюю поддержку, предпочитал не вступать с ним в споры и отмалчивался. Приезжего это злило. Не находя убедительных аргументов, он на какое-то время замолкал, нервно мерил просторную комнату большими шагами, раз за разом останавливаясь у картин, беспорядочно разбросанных повсюду, и внимательно разглядывая их, словно видел в первый раз. Затем все повторялось заново…
Впервые они встретились в Ленинграде в начале семидесятых. Исачев приехал сюда вместе с другом, у которого жили здесь дальние родственники, чтобы познакомиться с сокровищами Эрмитажа, а если повезет, и завести связи с художественным бомондом. Приехал без гроша в кармане в надежде на «авось». Молодости присущ авантюризм. А Александр принадлежал к категории тех людей, которые ради поставленной цели не боятся бросаться с головой в омут. Поначалу все складывалось, как нельзя лучше. Хотя к «лимитчикам» во всех крупных городах относились с прохладцей, а в Ленинград было настоящее паломничество гастарбайтеров, друзьям удалось устроиться в зеленхоз, получить временную прописку и места в общежитии. Но заработков не хватало даже на скромную жизнь, и друг, не имевший больших амбиций, предпочел вернуться домой. А Исачев остался. И тут фортуна изменила ему. Повздорив из-за какого-то пустяка с сотрудниками милиции, угодил на пятнадцать суток, лишился крыши над головой. Жил впроголодь, ночевал на вокзалах. Здесь и заприметил его питерский поэт Константин Кузьминский. Растроганный рассказом паренька, помог ему с ночлегом. Среди его друзей был коллекционер Михайлов. Кузьминский посоветовал ему:
–– Присмотрись, Георгий, к нему. Видится мне, что этот провинциал еще удивит мир. Ты же знаешь, я редко ошибаюсь.
Поначалу работы художника-самоучки из Белоруссии не произвели на Михайлова особого впечатления, в профессиональном отношении они были слишком сырыми. Но в карандашных набросках угадывался незаурядный талант. А неуемная страсть восемнадцатилетнего паренька к рисованию обещала когда-нибудь принести свои плоды. И он рискнул. Купил у Исачева несколько картин. Заплатил, как и всем остальным своим клиентам, не много. Художники знали, что, перепродавая их картины по имевшимся у него каналам за рубеж, Михайлов выручал на порядок больше. Но торговаться с ним было бесполезно. Впрочем, Александр радовался и этому. Тем более что коллекционер свел его с неформальными художниками, о чем он давно мечтал.
Исачев стал завсегдатаем посиделок, которые постоянно устраивались на квартирах Михайлова и поэтессы Юлии Вознесенской, куда и пристроил его Кузьминский. Помимо художников, сюда захаживали непризнанные поэты и барды-песенники.
Пробыв в Ленинграде почти год и решив, что созрел для серьезной работы, Александр вернулся в Речицу, чтобы целиком отдаться творчеству. Михайлов продолжал опекать Исачева. Разместил несколько его картин на выставках, лучшие работы выкупал для себя.
В марте 1979 года «за пропаганду чуждого искусства» Михайлова арестовали. Все имевшиеся в его квартире картины, в том числе около ста полотен Михаила Шемякина, в то время уже известного за рубежом, были конфискованы. К категории абстрактной живописи, бывшей в СССР под запретом, эксперты отнесли и несколько полотен Исачева.
Вернувшись из заключения, коллекционер мало-помалу восстановил свой бизнес и разыскал Исачева…
–– …Ну, так что будем делать, Александр? – продолжил свой натиск Михайлов.
Исачев вспылил:
–– Георгий Николаевич, я безмерно благодарен вам за все, что вы сделали для меня. Без вас я, наверное, не состоялся бы как художник, не смог бы сводить концы с концами. Но поймите, не смогу я жить на чужбине! В Речице мать, друзья, близкие мне люди – то, что питает творчество. Не перетащу же я их всех с собой! А в одиночестве писать не смогу. И потом, в конце концов, здесь моя Родина…
–– Саша, это все обывательская мораль. Ты, как тот суслик. Хоть и тесная, неуютная норка, но своя! А ты поднимись над этим жалким бытием. Ты же птица большого полета. Оглянись вокруг. Настоящая жизнь там, за кордоном.
–– Нет, нет и еще раз нет! И давайте не будем возвращаться к этой теме.
Михайлов понял, что дальнейшие уговоры бесполезны, и искренне огорчился этому. Судьба не баловала его. После отбытия наказания по первому приговору он был обвинен в хищениях в особо крупном размере, за что полагался расстрел. Суд проявил снисходительность, заменил исключительную меру максимально возможным 15-летним сроком. К счастью, подоспела горбачевская перестройка, и коллекционера оправдали. Подорванное в тюрьме здоровье он поправил. Но психологическая травма осталась в его душе на всю жизнь. В Александре Исачеве Михайлов видел самого себя и не хотел, чтобы он повторил его судьбу.
–– Ну, как знаешь. Я желаю тебе только добра. Но помяни мое слово – погубишь ты себя. Гэбисты не дадут тебе покоя…
Глава 2
Перевод из Гомеля в Речицу начальником районного отдела Комитета госбезопасности БССР Владимир Сидорович воспринял с удовлетворением. Это был шаг вверх по карьерной лестнице. Но еще больше радовала перспектива самостоятельной работы. В областном управлении КГБ его ценили, не раз отмечали благодарностями. И все же здесь он не мог в полной мере раскрыть себя и оттого чувствовал душевный дискомфорт. Общество на глазах менялось, рушились идеологические стереотипы. Креативно мыслящие люди получили свободу действий. А в «конторе», как называли в кулуарах свое ведомство сотрудники КГБ, все оставалось по-прежнему. То же единомыслие, те же устаревшие инструкции. Попытки проявить инициативу наталкивались на окрик: «Никакой самодеятельности!» Сидорович не сомневался, что руководство комитета осознает необходимость перемен, но вынуждено следовать указаниям партийных органов. Все разговоры в отделе на эту тему заканчивались сакраментальным вопросом: «Тебе, что, больше всех надо?!» А обращаться наверх через голову непосредственного руководителя запрещала субординация…
Знакомясь в Речице с делами, Владимир Сидорович обратил внимание на толстую папку с надписью «Александр Исачев, художник». С приколотой на первой странице пожелтевшей от времени фотографии на него смотрел молодой парень в брюках клеш и рубашке навыпуск. Длинные волосы, расчесанные на обе стороны, придавали его лицу женскую миловидность. Он совершенно не вписывался в традиционный образ художника, скорее походил на ловеласа-модника, и Сидорович подумал даже, что эта фотография оказалась здесь по ошибке.
–– Нет, нет, это он – Александр Исачев, местный художник-самоучка, – подтвердил сотрудник, помогавший Сидоровичу принимать дела. – Личность весьма одиозная. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи и подался с дружком в Ленинград. Там спутался с компанией диссидентов. Влюбился в какую-то замужнюю журналистку. А когда та дала ему от ворот поворот, пытался покончить с собой, наглотавшись снотворного. Попытку суицида вовремя заметили, откачали парня и поместили от греха подальше в психиатрическую больницу. После курса лечения вернулся в Речицу. Нигде не работает. Попал на заметку участковому. Повозился он с ним немало, а толку никакого…
Участковый милиционер знал Александра с подросткового возраста и потому не утруждал себя поиском подходов к нему. Вся «психология» сводилась к короткому диалогу.
–– Исачев, ты почему тунеядствуешь?
–– Кто вам сказал, что я не работаю? Я работаю.
–– Где?
–– Дома. Здесь, в мастерской. Пишу картины.
–– Это не работа, а блажь. За работу деньги платят, а ты занимаешься спекуляцией. Признавайся, с кого рисуешь голых баб? Небось, девиц сюда приводишь. Смотри, Исачев, я этого бл…ва не потерплю! Если через месяц не устроишься на постоянную работу, привлеку за тунеядство.
Так повторялось из месяца в месяц. Наконец, под нажимом матери и жены, Александр устроился на стройку чернорабочим. День вкалывал до изнеможения, а затем до глубокой ночи просиживал у мольберта. Конечно, не высыпался. Однажды в полусонном состоянии обварил кипятком себе левую руку. Когда вечером в мастерскую заглянула жена, он весь светился от счастья. С торжествующим видом показал ей больничный лист:
–– Представляешь, Наташа, теперь я две недели смогу не ходить на работу! Буду рисовать!
А потом подвернулся заказ на роспись церквей. Слухи о его иконах в Свято-Покровской церкви в Речице и Кафедральном соборе во имя Святого архангела Михаила в Мозыре распространились среди прихожан по всей республике, привлекли внимание специалистов по иконописи. Посмотреть на них приезжали даже из Москвы, Ленинграда. Когда о самобытном художнике заговорили за рубежом, к делу подключился КГБ. Предшественник Владимира Сидоровича побывал даже у него дома.
–– У вас, Исачев, бесспорный талант. Но почему вы не хотите направить его во благо государству? Оглянитесь вокруг! В Речице столько замечательных людей. Почему бы вам не написать портреты доярки, механизатора, учителя, врача, наконец? Что вас тянет так к этим библейским мотивам? Вы же современный молодой человек, Александр, а ведете себя, как какая-нибудь безграмотная, верующая старушка.
–– В Библии отражена наша история. Разве запрещено воссоздавать ее в живописи?
–– Не запрещено. Но это дело церкви. А она, как вы знаете, отделена от государства.
–– От государства, но не от народа. Может быть, старушки, о которых вы говорите с таким пренебрежением, и заблуждаются в своей вере. Но это их право, гарантированное советской Конституцией. Считайте, что я тоже заблуждаюсь вместе с ними.
Видя тщетность уговоров, начальник райотдела КГБ прибегнул к традиционной ментовской тактике.
–– Эх, Исачев, Исачев, погубите вы свой талант! А ведь могли бы стать известным, уважаемым в стране художником. Подумайте хорошенько! Мы еще встретимся…
Последняя реплика смахивала на угрозу, и Исачев вспылил:
–– Я спекуляцией не занимаюсь. Поинтересуйтесь в Союзе художников. Там вам ответят, что мои картины не представляют художественной ценности. Поэтому я могу продавать их кому хочу. А то, что пишут и говорят обо мне на Западе, меня не касается. Вы же знаете, ни с кем оттуда я не встречаюсь. Так что разбирайтесь с ними сами!
-– …В общем, послал он вашего предшественника в известном направлении, – не без удовлетворения резюмировал свой рассказ сотрудник, знакомивший Сидоровича с делами. – Понимаете, Владимир Евгеньевич, здесь не все так просто. Хотя в Союзе художников картины Исачева и называют мазней, но его уже знают на Западе. Радиостанция «Свободная Европа» посвятила ему несколько передач, представив как узника совести. По нелегальным каналам ему доставляют запрещенную литературу, подбивают к эмиграции. Зарубежные туристы, наслышанные о необычном провинциальном художнике, просят включать в программу пребывания в Белоруссии посещение Речицы. Отказывать им становится все труднее.
–– А как ведет себя сам Исачев?
–– Да никак. Рисует себе и все. Правда, у него в доме постоянно собирается всякая местная шпана. Пьют чифирь, иногда покуривают травку. Исачев рассказывает им про историю искусства. Но антисоветских разговоров не ведут. У нас есть среди них свой человечек. Говорит, пока ничего аполитичного не заметил…
История самоучки, которого на Западе считают гением, сравнивают с Марком Шагалом, а на родине вовсе не признают за художника, заинтересовала Владимира Сидоровича. Не откладывая дела в долгий ящик, он обстоятельно изучил содержимое папки. С каждой новой страничкой перед ним все яснее вырисовывался портрет незаурядного человека, не понимаемого и потому отторгаемого обществом.
…В трехлетнем возрасте остался без отца, учился в школе-интернате. Там, заметив его способности к рисованию, помогли определить в Республиканскую школу-интернат по музыке и изобразительному искусству. Проучился четыре года, был одним из лучших. Его картины демонстрировались на выставке детского рисунка в Женеве. Но за обычную шалость был отчислен. Судя по всему, минские педагоги оказались плохими психологами – вместо того, чтобы поддержать подростка в самый трудный для него период жизни, фактически бросили на произвол судьбы. Причем в несвойственной для людей этой профессии жестокой форме. Когда, уже будучи исключенным из художественной школы, мальчишка приехал однажды в деревню, где проходили практику его сверстники, воспитательница, увидев его, зашлась в истерике:
–– Исачев, не смейте подходить к ребятам!
Но он не уехал. Две недели встречался со своими бывшими одноклассниками тайком, старательно запоминая пересказываемые ими уроки… Затем – вечерняя школа, Ленинград, знакомство с питерским культурным андеграундом, известная уже история с первой любовью и попыткой суицида…
Отдавая должное скрупулезности, с которой коллеги описывали каждый шаг художника, зачисленного в группу идеологического риска, Владимир Сидорович не мог не обратить внимания на грубейшие ошибки, которые допускались в работе с ним. Да, если быть откровенным, работы никакой и не велось. Была заурядная слежка и неадекватная реакция на безобидные поступки.
Разобравшись с оперативными делами, Владимир Сидорович решил познакомиться с Исачевым. Поблуждав по застроенным частными домами закоулкам, наконец, нашел указанный в папке адрес. На стук вышел сам Исачев. Сидорович без труда узнал его, хотя фотография в деле была явно многолетней давности. Из полуоткрытой двери слышались мужские и женские голоса. Вспомнилось, что сотрудники райотдела окрестили гостей художника «шпаной». «Любим мы присваивать ярлыки!»
Поздоровался. Исачев ответил. В его глазах не было ни любопытства, ни раздражения. По всей видимости, к визитам незваных гостей он давно уже привык.
–– Я недавно приехал в Речицу. Узнал, что есть в городе незаурядный художник…
При этих словах по лицу Исачева проскользнула едва заметная ироничная улыбка.
–– …Хотел бы, если не будете возражать, посмотреть картины, поговорить.
–– Я не против. Но сегодня у меня гости. Приходите завтра после пяти.
На следующий день, в назначенное время, Сидорович снова стоял у двери уже знакомого ему дома. Когда Исачев открыл дверь, потянулся рукой к внутреннему карману, где хранилось служебное удостоверение.
–– Вчера я не успел представиться…
Но Исачев опередил его.
–– Ксиву предъявлять не надо. Я знаю, кто вы.
–– Но мы, кажется, не знакомы.
Исачев улыбнулся:
–– Вы забываете, что я художник и умею распознавать типажи людей. Так, как вы, одеваются только официальные лица. В нашей маленькой Речице их можно пересчитать по пальцам. А манера держаться, разговаривать с головой выдает в вас сотрудника спецслужб.
Теперь уже Сидорович не смог скрыть улыбки. Такое начало знакомства ему понравилось…
Органы государственной безопасности во всем мире принадлежат к элите спецслужб. Чтобы попасть сюда, нужно пройти через множество фильтров, отсеивающих людей с низким коэффициентом интеллекта. К числу определяющих качеств относятся также твердая вера в идеологические постулаты, навыки психоанализа, коммуникабельность, готовность во имя долга жертвовать своими личными интересами. По всем этим параметрам Сидорович был безупречен. А кроме того, он сохранил в себе способность сочувствовать чужой боли, желание в нестандартных ситуациях не переадресовывать принятие решения вышестоящему руководителю, как поступало обычно большинство его сослуживцев, а самому разобраться в сложившихся обстоятельствах. И в этом смысле принадлежал к числу тех, кого принято называть «белыми воронами», выбивающимися из общей стаи…
Готовясь к разговору с Исачевым, Сидорович перечитал все, что было в районной библиотеке о живописи. Удалось разыскать материалы о скандальных встречах Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с творческой интеллигенцией, где он обрушился на Эрнста Неизвестного и других художников нетрадиционных направлений, и даже о выставке «неформалов» на Манежной площади, которую по команде Брежнева проутюжили бульдозерами.
Предложив гостю чай, от которого он отказался, Исачев спросил:
–– Не возражаете, если я буду кое-что делать за мольбертом? Не привык разговаривать, сложа руки. Когда рисую, жена даже частенько читает мне статьи по философии, искусству. Теперь вот штудируем историю костюмов.
–– Конечно, конечно! А почему вас заинтересовали костюмы?
–– Не столько сами костюмы, сколько люди, которые их носили. Костюм – внешняя оболочка человека, но по ней можно без труда узнать его характер, привычки, настроение, даже чуточку заглянуть в душу. Без знания всего этого не стоит браться за кисть. Получится не живой человек, а манекен… Ах, простите, я совсем забыл, вы же просили показать вам мои картины. Вот, пожалуйста…
Исачев жестом провел по комнате, заставленной картинами в багетовых рамах. Вперемешку с ними на столе, подоконниках, просто на полу лежали незаконченные работы, на некоторых были сделаны лишь карандашные наброски.
–– Готовых картин у меня мало. Продаю. Надо же жить за что-то. И потом я привык писать сразу несколько полотен.
Рассматривая импровизированную галерею, Владимир Сидорович, как и всякий, кто попадал сюда впервые, испытал шок. В деле Исачева хранилось несколько любительских репродукций, даже они давали представление о необычном даре художника. Но разве может засушенная для гербария бабочка передать всю ее красоту, воспроизвести волшебство полета! Люди на картинах Исачева были живыми. Казалось, еще мгновение – и они, разорвав пространство времени, сойдут с полотен в избу.
Исачев оставил гостя наедине с его мыслями, колдовал возле мольберта. Наконец, придя в себя, Сидорович сказал:
–– Здорово! Если честно, не ожидал увидеть ничего подобного.
Исачев на эту реплику никак не отреагировал. Будто и не слышал ее. Отвлекся от мольберта лишь тогда, когда Сидорович попросил:
–– А знаете, теперь я, пожалуй, не отказался бы от чашки крепкого чая.
Исачев извлек из-под стола чайник; судя по всему, эксплуатировали его нещадно – сквозь копоть лишь слегка угадывалась эмаль, засыпал прямо в него горсть заварки, поставил на газовую плиту.
Говорили они часа два. Сидорович старательно избегал скользкой темы, расспрашивал о мастерах «старой школы», об отношении Исачева к творчеству Шагала, о технике лессировочного письма. «А ведь пришел он сюда не за этим. Ищет подходы!» – улыбнулся про себя Исачев. Но гость почему-то нравился ему все больше. Напряженность, ощущавшаяся в первые минуты встречи, исчезла, и он уже не вспоминал о том, какую организацию представляет Сидорович. Может, оттого, что были они сверстниками, обоим чуть за тридцать; тот возраст, когда впервые всерьез задумываешься о том, для чего ты существуешь на этом свете, и Исачев чувствовал, что Сидоровича тоже волнует этот вопрос. А еще потому, что оба были по натуре искренними людьми, и это сближало их.
Прощаясь, Сидорович спросил:
–– А можно я загляну как-нибудь еще? Оказывается, живопись – захватывающая штука!
Он произнес это как-то по-детски непринужденно. Исачев видел – не лукавит. Достав с этажерки какой-то толстый том, протянул его Сидоровичу.
–– Лосев. Самый компетентный знаток античности. Если хотите, полистайте в свободное время. А приходить ко мне можно по четвергам и пятницам. Как и сегодня, после пяти. В это время других гостей у меня не бывает…
Воспользовавшись приглашением, Сидорович навещал Исачева каждую неделю. Иногда забегал минут на пять – десять, иногда задерживался надолго. Вел он себя совершенно естественно, без тени менторства, присущего сотрудникам спецслужб, скорее наоборот – как ученик, готовый часами слушать обожаемого учителя. И это окончательно растопило в душе Исачева ледок недоверия. Как-то незаметно для себя они перешли на «ты». Пили крепко заваренный чай, разговаривали. Владимир, действительно, заинтересовался искусством всерьез. Прочитав от корки до корки монографию Лосева, брал у художника и другую литературу. Но при этом честно признавался, что живопись остается для него неразгаданной тайной.
–– Бывая на выставках, замечаю, что мои оценки картин очень часто расходятся с мнением других посетителей. Возле какого-нибудь полотна стоят толпы. Ахают, охают. Рассматривают с разных ракурсов. А меня оно совершенно не волнует. Мимо другой картины, наоборот, все проходят, взглянув лишь мельком, а я не могу оторвать от нее глаз. Например, совершенно не понимаю, в чем заключается гениальность Марка Шагала. Мне кажется, его живопись интересна лишь с исторической точки зрения. Запечатлен старинный Витебск, быт того времени. А сама манера письма производит на меня отталкивающее впечатление. Грубые мазки, карикатурные образы…
–– Это нормально, – отвечал ему Исачев. – Искусство рассчитано на индивидуальное восприятие. Картина как женщина. Есть фотомодели, которых считают эталоном красоты, а тебя они абсолютно не волнуют. А на иную простушку глянешь – и сердце готово выскочить из груди. И фигура вроде нескладная, и талия не на том месте, и ноги не оттуда растут. А ты ходишь за ней следом, как собачонка, счастлив выполнить любой каприз. Помнишь? «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу!» А бывает наоборот. Живешь с девчонкой рядом, годами не замечаешь ее. А однажды, словно очнешься. Боже мой, да она же красавица! Так и картины. Их смысл, их красоту познаешь не сразу. Некоторые начинаешь понимать лишь через много лет, а к некоторым охладеваешь. Со мной такое часто бывает.
–– Ну, а Малевич. Разве его «черный квадрат» – картина?! Такой «шедевр» любой ребенок создать может. А ей посвящены десятки монографий.
Исачев улыбнулся.
–– Искусствоведы тем и отличаются от обычных людей, что стараются разглядеть в произведении то, чего там нет. Владение тайной возвышает их в собственных глазах. Помнишь сказку о голом короле? Вся его челядь свято верила в то, что на нем волшебное платье, увидеть которое могут лишь умные люди. Конечно, я не отождествляю критиков с шарлатанами портными. Но склонность к мистификации присуща им. И, кстати, это касается не только художников. Когда-то, глядя на женщину, наверное, раздражавшую его своим присутствием, Валерий Брюсов в сердцах написал: «О, закрой свои бледные ноги!» Литературная критика квалифицировала эту фразу как самое короткое стихотворение и тоже зачислила в шедевры…
Узнав о неформальных встречах Сидоровича с Исачевым, его заместитель как-то осторожно заметил:
–– Не боитесь, Владимир Евгеньевич, что наверху это истолкуют неверно? Земля ведь слухами полнится. А распространяют слухи, как правило, непорядочные люди.
–– Не боюсь. Исачев – до мозга костей наш, советский человек. Он стал жертвой обстоятельств. Отчасти потому, что мы подходим к своей работе слишком формально; обращаем внимание на оболочку человека, а в душу заглянуть не умеем.
Видя, как Исачев мается с плохими кистями, как страдает от недостатка хороших красок, Сидорович однажды предложил:
–– Понимаю, что членство в Союзе художников в профессиональном отношении для тебя ничего не значит, учиться у них тебе нечему. Но ведь это дало бы возможность покупать хорошие кисти и краски. Ты же знаешь, государство обеспечивает их всем необходимым. Может быть, имеет смысл наладить с союзом связи. Для начала побывать в его областном отделении.
Исачев нахмурился.
–– И ты туда же. Наташа мне уже все уши прожужжала об этом. Пойми, не получится у меня с ними разговора… Вот ты – не художник. Но умеешь слушать, учишься понимать искусство. А они напоминают мне мартышку из басни Крылова. Только вместо очков нахватали кистей, мажут ими полотна, как кому вздумается. Леонардо да Винчи, прежде чем рисовать, годами изучал строение человеческого тела. Сам вскрывал тела покойников, исследовал каждый внутренний орган. Казалось бы, ну зачем художнику знать структуру костей или устройство мозга?! А он занимался изучением их с настойчивостью ученого, в его архиве – тысячи анатомических рисунков. И определил идеальные пропорции человеческого тела – этот рисунок из его дневника известен каждому школьнику. Или зачем, ты думаешь, великий гуманист Леонардо ходил наблюдать за казнью преступников? Хотел увидеть искаженные страхом и болью лица, ему важно было понять структуру мимических мышц, приводящих в движение губы. В картинах Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли нет второстепенных деталей. Посмотри, как тщательно выписывают они даже складки одежды, хотя на них посетители никогда не обращают внимания… Нет, тайну улыбки Джоконды мог сотворить только гений, сочетавший свой Богом данный дар с любознательностью ученого и трудолюбием ремесленника. Художники, к которым ты меня посылаешь, об этом не хотят даже слышать. Они – мэтры, а я – школяр, богомаз! Так о чем мне с ними говорить?