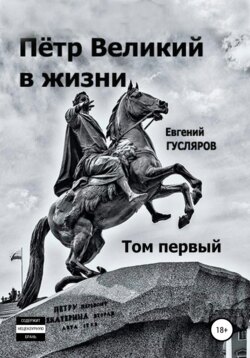
000
ОтложитьЧитал
Книга первая
Глава I. Время русской Атлантиды
Из дневника читателя (вместо предисловия)
То, что было прочитано мной перед тем, как появилась эта книга, вся эта масса бесчисленных документов, слов очевидцев и героев того времени побуждала на посильные размышления. Мне представлялось кое что между строк тех документов, слышались голоса, умолкшие три с половиной столетия назад. Воображению чудились картины давно ушедшей жизни. Так является собственный опыт постижения истории. Каков он ни есть, а он дорог мне, поскольку этот опыт личный, мой собственный. По ходу чтения тех документов, которые собраны мной и обработаны для текста книги, у каждого читателя, коль скоро они явятся, будут собственные мысли и соображения, у каждого тоже свои. К сожалению, я о них не узнаю. Тогда и придумал я по ходу чтения этих материалов записывать кое-какие свои мысли. Вот и выходит – то, что написано, является, некоторым образом, дневником читателя. Заметками, сделанными по ходу освоения разного рода документов и первоисточников. Заметки мои, повторюсь, субъективны, всякий заинтересованный человек при чтении тех же самых документов волен сделать свои выводы, и тогда история Петра Великого будет выглядеть совсем иначе. Всякий человек имеет право на собственную истину. И чтением последующего повествования, сделанного в форме систематизированного свода документов, воспоминаний современников и мнений известных историков каждому вдумчивому читателю предоставляется возможность обдумать собственную версию развернувшейся исторической драмы. В том предоставляется ему полная свобода. Жанр подобного изложения жизнеописаний придуман не мной. Первым это сделал В.В. Вересаев в ряде своих книг, лучшей из которых является замечательный по оригинальности биографический роман в документах «Пушкин в жизни». Во всех деталях этой своей работы я следовал названному образцу. Как и в некоторых других моих книгах. В документах о человеческих судьбах есть захватывающее обаяние. Одной из задач моего повествования была опора на это обаяние, и попытка подействовать документом на воображение читателя.
Я бы хотел отнести свои поиски и усилия к несуществующему разделу науки, который можно бы назвать археологией духа. Или исторической реконструкцией человеческой души. Обычную археологию интересуют черепки и кости, разного рода ископаемые материальные свидетельства о живших когда-то людях. Это свидетельства внешних проявлений их жизни. Декорации, в которых они действовали. Можно без труда догадаться, что возможна и та археология, которая даёт возможность отыскать осколки человеческой души, окаменелости духа. Заметили ли вы, как разительно напоминают строчки, написанные рукой человека, порывистую строку кардиограммы. Это может подсказать, откуда является слово… Так вот, драгоценные россыпи окаменелостей духа легко обнаружить в старых рукописях, в старых письмах и дневниках. Тут есть слова, когда-то звучавшие на самом деле. Поступки, подлинность которых засвидетельствована в виде преданий. Можно даже восстановить мысли тех далёких людей. В самом общем виде их можно отыскать в летописях и литературных памятниках, в книжных листах подёрнутых волнующим цветом времени. В том числе даже и в фольклоре. Сказка и песня всегда формировала душу и склад русского человека. А сколько их в тех же допросных актах, которые заполняли сумрачные летописцы вековечного русского застенка.
С некоторого времени я испытываю огромную симпатию к тем людям, которые были на столетия моложе нас. И завидую им. Жившие в России восемнадцатого и девятнадцатого веков и раньше испытывали ещё великий интерес к жизни. Они полагали, что следующие за ними поколения будут жизнестойки и любопытны. Они хотели говорить с ними. Писали дневники и письма, делали «подённые» записи. Они чуяли ещё неповторимую цену каждого мгновения жизни…
По слову, живому осколку души, легко бывает представить целиком живую душу, движение её и даже сами размеры этой души.
А, представив душу, легко судить о времени.
И ещё. Если бы снимал я фильм о жизни Петра Великого, начал бы я его вот с этой картинки.
…Поутру, 1 числа сентября в первый день нового 1672-го от Рождества Христова года, у коломенских чертогов, в которых обитал с весны до осени симпатичнейший государь российский Алексей Михайлович, замечена была странная фигура, околачивавшаяся у самого Красного крыльца царских палат. Морозный, ранний в этом году утренник затянул перед дворцом частые вполне осенние лужи ледяной полированной слюдой, а фигура была босая. Грязь наросла на ногах до ципок, не держалась она только на выпуклом диком панцире ногтей. И вот когда шёл он, казалось, что впереди прыгали маленькие жёлтые черепашки. Дик и зверовиден казался лик его с павшими на чугунный лоб колтунами. Взгляд же, хотя и волчий, исподлобья, но не злой, наоборот, можно было угадать в нём цепкое любопытство, тёплую благодать живой мысли.
Дежурный стрелец, пропадавший до того в зябкой истоме, насторожился. Сизые от холода и грязи босые ноги юрода добавили знобкого неуюта ему под кафтан, и без того не шибко сохранявший спёртый дух отсыревшего за ночь бдительного тела.
– Куда прёшь, немытая харя? – вяло качнул стрелец мгновенно и весело вспыхнувшим на солнце железом.
– Стоит Егорий в полупригорье. Грядёт Сысой пятьдесят три версты высотой, в широту непомерен… Божья иконка, божья коровка, грамотка монастырская, богоматерь Ахтырская, имячко святое, да молочко снятое. Аз есмь постник, многотысячный обносник, аспид карпыч, чёртов ухват, – забормотал торжественно и бессмысленно божий человек, но дежурного стрельца не убедил.
– Посторонись, загавкал, псина… Прощай, прощай, катись откуда выкатился, – важно грозил ему стрелец, которому вышел, наконец, час употребить должность, всё-таки он тут при царе состоял.
И тут, вот чудо-то какое, из чудес чудо. На крыльце явился сам ласка-царь Алексей Михайлович. Борода ещё скомкана, и как-то уж очень весело и будто даже тепло стало и служивому человеку стрельцу и приблудному божьего вида голодранцу от того, как ясно и распахнуто глянули небесного весеннего цвета царские глаза. И весь он, ещё неумытый, щёки розовые от внутреннего жара, в ночной немыслимо мятой льняной рубахе, так уютен был и вкусен на вид, что и стрельцу, и юроду показалось – пирогом запахло.
– Не тормоши божьего человека, – голос у царя оказался звонкий и шибко подходящий к свежему морозному утрецу. – Кто божьего человека обижает, тот божье лицо омрачает. Подь сюда, – шевельнул царь тоже пышною, как оладушек, ладонью.
Через мгновение между юродом и царём предивный уже происходил разговор. Если б кто слышал, не поверил бы, что такое могло быть. Юрод просил приложиться губами к благодатной утробе царицы Натальи Кириловны. Объяснял это тем, что чувствует высшее веление поклониться и благословить великого царя, которому пришёл черёд явиться из материнского чрева, чтобы покачнуть обветшалый мир, ужаснуть его страстью и волей.
И ещё одно неслыханное дело. Царь Алексей уговорил царицу дать приложиться юроду к неприкасаемому телу. Принесли для того тончайшую бусурманской выделки ткань, которую и наложили на непомерно вспухший её живот. Юрод восторженно и вполне благочестиво припал замшелыми устами к нему как раз в том месте, где нелепо выставился на целый вершок, видный даже сквозь павшую туманом кисею, выгнанный из тела жестоким напором царицин пуп.
Задолго до того происходили в православном царстве следующие важные и благие для смирного течения жизни дела.
Необузданную лютость и дикое своеволие царя Ивана Васильевича народ запомнил крепко. Новую династию Романовых возводили на трон спустя лишь тридцать лет после смерти жестокого царя. Возвращения его строгостей не хотели. Ужас того времени совсем ещё не выветрился. Вот тут-то царская власть впервые претерпела нечто необычайное – народ, от лица которого выступили, конечно, высокие служилые и думные чины, попытался ограничить самодержавие. Как раз в части неконтролируемого зверства. Первые Романовы обязывались клятвой править «тихо». Нрав же Алексея Михайловича казался подданным настолько безобидным, что его от обязательства быть на троне «тихим» освободили. Он и так был «тишайшим». Вероятно, это слово означало тогда деликатность и милосердие. И в историю он вошёл как Алексей I Тишайший. Это не потому, что он не громыхал время от времени посохом, а потому, что не убоялся сделать ласку и мягкость средствами державной власти.
Царь Алексей Михайлович не то чтобы был очень уж ярый реформатор, но он как-то уже неловко чувствовал себя в рамках традиций. Он был первым, а, может, и единственным царём, который умел дружить, быть добрым соседом. Не переодеваясь и не маскируясь, подобно халифу Гаруну ар Рашиду, он мог явиться к столу своего подданного, коли испытывал к нему душевную тягу. И именно это качество имело последствия, которые скоро перевернули, наполнили блестящей суетой ход русской истории.
Из времён царя Алексея Михайловича мне легко представить, например, ещё и следующую замечательную картинку. Был у царя кот. Дымчатый, того цвета, каким бывает дым от не совсем просохшего осинового щепья, на котором коптили тогда двухпудовых белуг. Морда круглая, величиной со среднюю тарелку. Оранжевые глаза на этой усатой тарелке, будто две прорехи в геенну огненную. Был он началом той породы, которую теперь называют русской голубой.
Царская приязнь была коту великой обороной. Вся подобная никчёмная тварь в системе тогдашнего русского суеверия отнесена была к легионам воплощённого бесовства. Когда Господь свергнул с небес воинство Сатаны, та его часть, которая пала в лес и поле, обернулась диким зверьём, та, что попала в дом, стала ручной живностью. Кота так и звали грозным именем Бес. Ему позволялись неслыханные вольности, те, что заставляли вылощенное в православной чистоте царское окружение тайком плеваться в рукава. Кот безнаказанно гулял по трапезному царскому столу и деликатно нюхал обольстительный пар, источаемый изобильной снедью. На зуб он никогда ничего не пробовал, потому что был всегда утомительно сыт.
Бывали случаи, когда котяра Бес являлся в тронную залу во время державного чина, шёл прямо к царю, мимо какого-нибудь калмыцкого неподъёмного посла и прыгал на раззолочённое и расцвеченное жаркой тканью царское колено. Тогда царь аккуратно откладывал скипетр на низкий при троне индийский самоцветный столик, оставлял в левой руке одну только державу и потихоньку щекотал коту тугое брюхо. Тот немедленно включал невидимый внутри чудный органчик, и довольно громкий. Смотрел на истекавшего жиром посла, внимательно щурясь. Так продолжались аудиенции, доклады и прения. Картина выходила домашняя, казённый официоз обретал уют. Власть, от ласки которой мурлыкал кот, могла дать надежду если не на благоденствие, то хотя бы на покой… После недавнего и это казалось благом…
Стоп, тут надо бы описать первую смутную мысль, подвигшую меня бросить всё и отправиться в непростое, но занимательное путешествие по времени и оказаться, в конце концов, в петровом веке. Странную и тяжкую обиду испытал я однажды. В скучную пору мне выпало жить. Утомила болтовня какая-то о наступившей свободе. Никакой свободы нет. Диктатура, оказывается, может принимать самые разные формы. Она может быть исполнена величия и быть благом. Она может исходить из ничтожных целей и от того быть уже вовсе непереносимой. Самая жестокая диктатура установилась у нас теперь. Тихой сапой. Без выстрелов и знамён. Без видимых жертв. Сама собой установилась в России диктатура бездарности. Куда ни кинь – в кинозалах, в книжных магазинах, в чиновных кабинетах, в коридорах высшей власти, она везде. Вот от неё-то спасения теперь уже не будет. Талант в природе – большая редкость. Талант, даже в руках Господа Бога, изделие штучное. Бездарность же штампуется легионами. Силы тут не равные. Люди с божьим даром у нас самые не защищённые. Если взглянуть особым взглядом то окажется, что всякий прославленный переворот у нас, в основе, есть бунт бездарности, униженной комплексом собственной неполноценности. Бездарность, наделённая волей, бывает непобедимой и может наделать великих бед. Ленин, например, претендуя на роль всесветного гения в философии, первым делом изгнал из страны всех даровитых мыслителей. Этого ему показалось мало. В дальнейшем он всякого, смеющего мыслить человека, просто убивал. Первое наступление бездарности называлось у нас диктатурой пролетариата.
И ещё была причина. Эта уже взялась откуда-то из скрытых уголков сознания. То ли было так на самом деле, то ли сказано где, то ли придумалось мне – будто в городе Саратове, в загадочной лаборатории тайные велись когда-то давно, ещё в пору окаянной гражданской войны, работы. Советской власти надобны стали бесстрашные, с незамутнённым сознанием бойцы. И будто был в то время гениальный генетик, догадавшийся, что если крысе к семенной жидкости прибавить вытяжку из человеческих мозговых пирамидальных каких-то клеток, то такие бесстрашные незамутнённые сознанием бойцы всенепременно выйдут. И будут те крысы венцом новой цивилизации, цветом невиданного доселе эволюционного прорыва. Крысы станут людьми. И будут они лучше людей. Потому, что у них не будет человеческих слабостей. Не будет сомнений, не будет совести, не будет морали, не будет чести, не будет любви. Эксперимент советского генетика не завершился вот в какой части. Крысы, чреватые великой научной целью, не стали дождаться окончания опытов. За пятнадцать лет прогрызли в лабораторном бетоне дыру и все до единой сбежали. Но эксперимент уже был неостановим. Сбежавшие крысы, охваченные новым неслыханным генным пожаром, неостановимо шли в своём развитии. В кромешных подземных лабиринтах завелась новая неслыханная подпольная цивилизация, которая перепуталась с той, которая освещаема была божьим светом. Становились ли они людьми, никто и теперь сказать не может. Или люди, наоборот, от катастрофы такой перемешались с тварями, стали крысами, и того никто не ведает. Знают только, что всё должно было идти своим чередом, причём, с чёрт его знает какой скоростью.
Вот такая печальная история случилась на улицах Саратова и непременно дошла уже до Москвы. И чем это ещё обернётся в обозримом будущем?
И… всё смешалось в доме Облонских. Кто теперь поймёт, где экспериментально обернувшаяся крыса, а где человек? Я стараюсь не ходить в присутственные места, вдруг в местах этих освоились уже крысы. И то, что я узнаю о каждом столоначальнике, вплоть до самых верховных, укрепляет во мне эту мысль. Я даже в лицах их начинаю узнавать нечто острое и дремучее, так не похожее на то, что задумано было вселенской творческой силой в начале времён. Вглядитесь, и вы тоже это увидите – лик оборачивается харей. И это – венец эволюции? Фобия, скажете вы, и будете, конечно, правы. Я стал со страхом включать телевизор. Так мало там человеческого. И мне становится понятно почему. Говорят даже, что наступает такой заветный ночной час, когда чары пропадают, и тогда на экране можно отличить человека, не обернувшегося крысой. Но никто пока такого не видел. Говорят ещё, что для этого надо смотреть телевизор, не прерываясь, с утра до утра. Но кто же это выдержит, в самом деле… Правда, говорят, был один такой упорный человек, который решил узнать полную истину. Обложился закуской и прочими русскими средствами от скуки и прошёл скорбный путь истинного знания до конца. Он, в самом деле, увидел крыс, но они оказались зелёными и с рожками, и были не только в телевизоре, но обступили его со всех сторон. Так что этот эксперимент нельзя считать претендующим на научную чистоту и основательность. И вот я позорно бежал от действительности.
Вернее сказать, решил я себе организовать геройскую жизнь. Почему бы, думаю, мне на время, лет на шесть, пока не придёт в Россию достойная жизнь, не переселиться в век Петра Великого, например. Занавесить окно, обложиться книгами и документами, добыть всё, что говорили современники: среди которых – хитрые и прожорливые птенцы гнезда Петрова; перепуганные знамениями антихристова времени староверы; спесивые иностранные посланники и резиденты; святые бесы иезуитского пошиба; киевские и польские краснобаи монашеского чина; собственные наши умники и книгочеи; сочинители анекдотов и баек, наподобие Вольтера; апостолы кнута и застенка, наконец, прилежные составители пыточных листов, которые сохранили самую достоверную историю отечества.
Это была бы в некотором роде необременительная эмиграция во времени, духовная келья без поста и истязания плоти. Уход в пустыню, самая дальняя прогулка в которой – лягушачий пруд в академическом Ботаническом саду.
И всё было хорошо до той поры, пока я не понял, что всякое героическое время можно видеть только со стороны. Попавши непосредственно в него, можно нечаянно угодить на плаху. Или получить царственной дубиной по темени. Сквозь строки старой скорбной бумаги вышла и легла мне на плечи тяжесть времён. В петровом времени я опять оказался на кухне, которая у нас колыбель и отечество всякой оппозиции. Только кухня эта была ещё более неудобная и тем более располагающая к политическому злословию, чем та, в хрущёвской моей квартире, которую я мысленно оставил в будущем. И понял я, что всякое идеальное и героическое время существует только в воображении историков.
Зарубите себе это на носу. Не романтикой пахло от Петра, а грозой. Рядом с ним было не уютно. Недельным потом несло от него и перегаром. Пот – от трудов праведных, перегар – от неправедного веселья. Знайте же, лгут нам наши летописи, если нет в них печали.
Ну, а теперь всё по порядку.
Обретался у царя Алексея Михайловича в соседях интереснейший человек того времени Артамон Сергеевич Матвеев. Был он любопытен до невероятного, собирал книги и рукописи, стал первейшим книгочеем своего времени. В его библиотеке, кроме обычных книг духовного содержания, нужных всякому благонамеренному русскому грамотею того времени, было семь книг на латинском языке и семь же книг на польском. Некоторые из этих книг были вовсе не безопасны. Судя по дальнейшим событиям его не гладкой жизни, было в этой библиотеке даже то, что можно было отнести к чернокнижию.
Женат он был на англичанке, так говорят первые источники. Я же полагаю, что жена у него была шотландка. Шотландцев тогда в русской земле обреталось три тысячи. Царь Алексей Михайлович открыл границы для всех, кто бежал от кровавой диктатуры Кромвеля. Убийство короля Карла I произвело на него самое тяжкое впечатление, и он окружил беглых сторонников династии всяческим теплом и заботой. Может потому этот брак с басурманкой никак не отразился на положении и личном авторитете помянутого Артамона. Место его при царе было таким, что вовсе уж просвещённый сын его, ставший при Петре послом во Франции, по аналогии, считал значение своего отца равным значению маршалов при дворе Людовика XIV. Не знаю, первый ли из православных отважился Артамон на столь экзотические и даже кощунственные узы. Невероятное в этом браке было то, что, говорят, жена его не перешла в православие и оставила себе басурманскую же фамилию Гамильтон. Это же было тогда всё равно, что жениться на чертовке.
Вот к нему-то и захаживал царь без всяких церемоний, оставляя в прихожей вместе с шубой всю свою официальную державную стать. Он боялся причинить лишние хлопоты избранной семье и просил, первым делом, чтобы в доме не менялся обычный порядок и принятый чин застолья. Всё должно было идти своим чередом. Нечто сказочное было в том, как оборачивался он частным человеком, и это ему нравилось. Небожитель становился простым смертным мужем не лицемерно, как Иван Грозный, например, и это доставляло ему недоступное другим удовольствие. Вопреки всяким правилам, царь требовал, чтобы за дружеским застольем присутствовали все домочадцы. Необычайный оборотень, сбросивши шкуру небожителя и ставши человеком, был деликатен, он никому не хотел чинить никаких неудобств.
Тут-то всё и произошло. Царь как раз овдовел. Переживал это состояние тоже вполне человеческим манером. Томился одиночеством, которое ещё Господь Бог определил как отсутствие «помощника». Вот что и стоило бы запомнить. Жена, как в первых же строках поясняет библия, на божьем языке, прежде всего, означает «помощь».
Эта «помощь» вышла к царю в облике очаровательной Натальи Нарышкиной, приёмной дочери Артамона Матвеева и бывшей подданной английской короны леди Мэри Гамильтон. В руках она несла целиком жареного гуся, в клюве которого кокетливая качалась веточка сельдерея. Птица была не совсем та, которая указала Ною близкий берег, но символ был тот же. Берег царской вдовой жизни был где-то рядом.
Говорят ещё, что будущий канцлер Артамон Сергеевич Матвеев был не без хитрости. На красоту и породную стать Натальи рассчитывал, как на верный козырь. Но к такому повороту, который вышел, он не был готов. К концу застолья царь стал задумчив, часто взглядывал на Наталью и, незаметно для себя, вздыхал. Зато всё замечал великолепный Артамон и, надо думать, мысленно плевал через левое плечо, чтобы не спугнуть перемены, которые уже грезились ему.
И всё-таки побаивался Артамон грядущего счастья. Призвал в дом знаменитую в Стрелецкой слободе вдовую бабу-знахарку, чтоб очертила Наташу крепкой обороной от сглаза, а сам обдумывал слова, которые надо будет внушить царственному закадычному другу. Чтобы уберечь себя от дурной и злобной зависти, он должен уговорить царя от всякой поспешности. Всё должно идти заведённым порядком, как исстари, ещё от византийских правил пошло. Должен быть смотр первейшим красавицам, которые созревали и истекали живым горючим соком в высоких теремах. Впрочем, терема пониже, а то и избы побогаче, тоже бывали обследованы цепким тренированным оком царских неделикатных доглядчиков. Иностранные списыватели русских нравов тешили нерусскую читающую публику даже и скабрезными подробностями, докладывая о некоторых деталях обследования девственных живых сокровищ, наполнявших царский дворец. Их, этих прелестных перлов, бывало до двух тысяч и более. Как тут выбрать? Мука, да и только. Несмотря на вожделенную суть дела.
Надо думать, что, уговаривая царя повторить предшествующую державной женитьбе процедуру, он, Артамом, упирал, прежде всего, на то, что, мол, и так у него врагов не перечесть, а тут будут винить ещё и в том, что влез помимо обычая в тести к самому царю, стал ему облыжно наипервейшей роднёй. Неизвестно ещё, чем оборачивается избыток тайной ненависти. Может он болезнью или несчастьем оборачивается.
Между тем всё, конечно, уже было решено. Красавицы томились от сладких предчувствий зря. И картины будущего неслыханного счастья рисовались напрасно.
Удивительных деталей иногда касается роспись царской жизни. Вот, например, известно даже то, когда именно царь-батюшка отправился к царице-матушке с определённой целью положить, с божьей помощью, начало ожиданию наследника:
«И радость Его Государская была по Рождеству Христову 1671 года, Генваря в 22 день в нощь, в нюже благочестивый Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович совокупися с Великою Государынею, Царицею и Великою Княгинею, Наталиею Кириловною, и в утробе ея Величества, Великой Государыни, зачался оный Государь Великий…».
Это из официальной «Разрядной записки о лицах бывших на свадьбе Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича в 1671 году».
Заглянувши в церковный календарь, мы узнаем, что 22-ой день января выпадает на разгар послерождественскопостного мясоеда. И это замечательно, поскольку дети, опрометчиво зачатые в пост, бывают лишены крещения и в царство небесное не попадут. Петру эта участь не грозила. Прочитав ещё и известное сочинение Григория Котошихина, можно вполне представить себе, что происходило за стенами той таинственной «полаты», где происходила «царская радость», имевшая великую государственную цель продолжить династию:
«А как начнёт царь с царицею опочивать, и в то время конюшей ездит около той полаты на коне, вымя мечь наголо, и блиско к тому месту никто не приходит; и ездит конюшей во всю ночь до света. И испустя час боевой, отец и мать, и тысецкой, посылают к царю и царице спрашивати о здоровье. И как дружка приходя спрашивает о здоровье, и в то время царь отвещает что в добром здоровье, будет доброе меж ими совершилось; а ежели не совершилось, и царь приказывает приходить в другой ряд, или и в третьие; и дружка потомуж приходит и спрашивает. И будет доброе меж ими учинилось, скажет царь, что в добром здоровье, и велит к себе быти всему свадебному чину и отцем и матерем, а протопоп не бывает; а когда доброго ничего не учинится, тогда все бояре и свадебной чин розъедутца в печали, не быв у царя… А как царица пойдёт в мылню, и с нею мать и иныя ближния жёны и сваха, и осматривают её сорочки; а осмотря сорочки, покажут царской матере и иным сродственным жёнам немногим, для того, что её девство в целости совершилось, и те сорочки, царскую и царицыну, и простыни, собрав вместе, сохранят в тайное место, доколе веселие минется; и потом из мылни выходит в свои полаты…».
Надо думать, что все эти замечательные формальности закончились к общему удовольствию и только тогда началолсь главное для ближней царициной родни:
«А по всей его царской радости, жалует царь по царице своей отца её, а своего тестя, и род их: с ниские степени возведёт на высокую, и кто чем не достатен сподобляет своею царскою казною, а иных розсылает для покормления по воеводствам в городы, и на Москве в Приказы, и даёт поместья и вотчины; и они теми поместьями и вотчинами, и воеводствами, и приказным сиденьем побогатеют…».
Молодой царице к тому времени исполнилось двадцать лет, царю Алексею Михйловичу приближался сорок третий год – «…и тогда явися звезда пресветлая близ Марса и в той новоявившейся звезде доброе усмотрели».
Пресветлую звезду близ Марса усмотрел никто иной, как Симеон Полоцкий. Прелюбопытнейший это был персонаж в нашей истории. Усерднейший из лизоблюдов и основатель жанра откровенного и наглого парадного верноподданнического суесловия, поэзии похабного подхалимажа. Благодаря этому ловкому приживальцу в нашей культуре, слово поэтов было поставлено где-то между гусем, борзым щенком и пирогом из вязиги, подносимыми в торжественный день разного рода сиятельным лицам. Так что, с его лёгкой руки, русскую поэзию в начале славного её пути, дальше прихожей не пускали. И родилась-то она для прихожей. Утомившись зарабатывать на пустословии, он вздумал подработать и на звезде. Основательный петербургский астроном Лесссель, решивший самым серьёзным образом проверить небесные предвещания, такой звезды не обнаружил. Полоцкий, выходит, приврал знанием астрономии. Впрочем, у него есть и бесспорные заслуги. А своя звезда у будущего царя Петра, конечно, была.
В пору, когда эта звезда дала полный свет, и стала слепить глаза, некоторые стали догадываться, что Петра при рождении подменили. На самом деле родилась девочка, и её тайно заместили младенцем неведомого сатанинского племени из Немецкой Слободы. И сделал это никто иной как Франц Лефорт, не пожалевший для такого необычайного подлога собственного дитяти. Но, во-первых, единственный сын этого Лефорта к тому времени ещё не родился. Во-вторых, у Петра вполне обнаруживаются унаследованные им черты царя Алексея Михайловича. Например, в части абсолютного неумения сдерживать гнев, сопротивляться нервному возбуждению, пытаться соблюсти равновесие в ситуациях, требующих выдержки.
Вот одна из сцен, каких было немало в царствование тишайшего государя.
Обсуждался однажды в Думе серьёзнейший для государства вопрос. Кстати, русское слово «дума» никогда не происходило от слова «думать». Оно просто означало «быть наверху». Пожалуй, нынешние наши бояре так его и понимают до сей поры. Иначе откуда бы так много взялось желающих там оказаться. Тот давний эпизод как раз и говорит о том, что не всегда в Думе сидят те, кто умеют думать. Итак, царь решил обсудить с боярами сложную ситуацию. Литовцы побили русское войско, польский король собирался соединиться с победителями. Зашевелились другие неприятели России. Во время обсуждения престарелый бахвал Илья Милославский, царский тесть по его первой жене, вдруг заявил:
– Государь, поставь меня воеводой твоих полков, и я пленю и приведу к тебе польского короля.
Не в благой момент, как оказалось, вылез он с этим словом. Царь немедленно обозвал его «сучьим выменем» и «блудницыным сыном», оттаскал за бороду и пинками выпроводил с заседания.
В другой раз тоже какой-то старец из бояр отказался по примеру царя пустить себе кровь с оздоровительной целью. Сцена царского неистовства повторилась.
Осталось у Петра и нечто от родовых черт Нарышкиных. Например, умение ценить острое слово, а то и вовсе впадать в шутовство, часто вовсе не остроумное. При Екатерине, что ли, один из потомственных Нарышкиных пользовался славой великолепнейшего из шутов. Так что не немецкая нечистая сила породила Петра. У нас и своей достаточно.
Отечественные же следопыты дьявола и знатоки угадывать знамения антихристова пришествия просчитали, что Пётр зачат во грехе, поскольку Наталья была вторая жена помимо законной, и намешано крови было в Петре и от царей, и от рабов (тех же безродных Нарышкиных), а ещё и попов (московский Патриарх Филарет был его прадедушкой) и обязательно принесёт России несчастье.
Так что царь Алексей Михайлович был человек вовсе не лубочной доброты. Он оказался способен и на великое сопротивление. Перед ним встал однажды человек громадной воли и непомерного тщеславия патриарх Никон. О нём стоит тут рассказать подробнее. И это будет также рассказом о воле и несгибаемости самого царя Алексея Михайловича, передавшего едва ли ни на генном уровне эти качества сыну своему, Петру Алексеевичу.
История раскола, это ещё одна иллюстрация того, что многие великие беды в России происходят от того, что являются вдруг люди непомерных амбиций и неукротимого самолюбия. Встают против течения жизни. Душевная болезнь Никона заключалась в том, что он собственные желания и неудержимые вожделения перепутал с божьим промыслом. Христа он принимал и понимал только того, который пришёл в Храм с бичом и изгнал без пощады оскверняющих его. В сущности, Никон понимал во Христе ровно столько, сколько понял в нём Пилат. Тот был для него и Царём Иудейским и властелином мира. Так что и притязания самого Никона, несмотря на разницу в средствах, нисколько не отличались от целей, например, московских большевиков-ленинцев с их идеей мировой революции и прочих диктаторов, одержимых жаждой вселенской власти. Все его грандиозные и не всегда разборчивые действия были подчинены идее личного торжества на великом духовном пространстве. Он приложил немалые усилия, чтобы внушить мировому православию, по виду, благую мысль – объединиться в лоне русской церкви. И вот видит он себя уже во главе Третьего Рима, славою своей равным римскому папе, к туфле которого являются земные короли. Чем отличаются эти амбиции от притязаний того же основателя Третьего Рейха, видевшего в нём возрождение духа и смысла Священной римской империи? И Никона, и Гитлера питал один и тот же источник – откровение Иоанна Богослова, в котором есть строчка о тысячелетнем праведном царстве. В этом Никону усердно потакали утратившие волю и власть, но не авторитет в православном мире греческие патриархи, остатки византийской духовной знати, прозябающие под турецким игом. Они-то и наградили его знаком первенства в новом грядущем триумфе мирового православия – белым клобуком, символом победительного движения к духовной свободе. Они всячески поддерживали, а то и подзуживали вожделения Никона. За этим виделось им новое торжество освобождённого Цареграда и своего, конечно, тоже.



