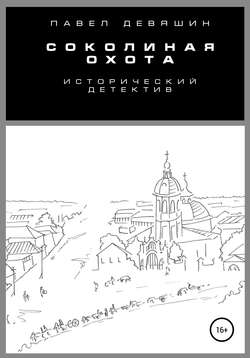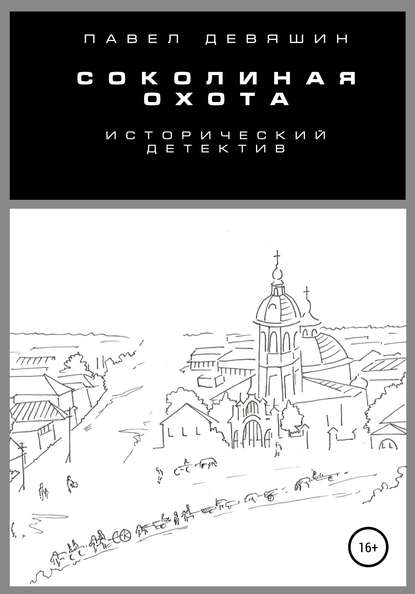Глава первая
Граф Киселев никогда не любил пышных выездов. Будучи человеком государственного масштаба, да притом самого что ни на есть высочайшего толку, он, министр государственных имуществ, держался самых простых правил и обыкновений. Потому никому из поздних прохожих и в голову бы не пришло предположить в мчащейся сквозь наледь и мокрый снег карете столь важной особы.
На пятьдесят втором году жизни Павел Дмитриевич знал наверняка, что покой и праздность – есть удел человека без цели и что истинная благодетель заключается преимущественно в движении и скорости. Уходящий 1839 год, который заканчивался сегодня, пролетел так стремительно, точно желал угодить графу, в полной мере соответствуя его представлениям и взглядам.
И даже теперь, в эту последнюю и праздничную дату, Киселев занял весь свой день почти до отказа всевозможными делами и службами. До полуночи оставалось всего несколько часов, но прежде чем отправиться, наконец, домой и выпить бокал-другой шампанского в кругу любезных сердцу друзей, министру оставалась еще одна встреча. Пожалуй, самая важная.
По дороге его захватила непогода, он долго кружил меж занесенных столичных улиц и прибыл к огромному итальянского вида палаццо со значительным опозданием. Не в присутственные часы, как хотел, а много позже, когда уже было совсем темно. Карета, снабженная отменно смазанными полозьями, имела самый обыкновенный облик и смотрелась в сравнении с другими упряжками, вытянувшимися ровной линией вдоль чугунной ограды, как уличный кот среди благородных гепардов.
Павел Дмитриевич отворил слепую от инея дверцу и, мелко перекрестившись, шагнул на мощенный черным булыжником тротуар. Ветер сей же миг кинул ему в лицо липкие хлопья и попытался сорвать с головы высокий цилиндр, однако не преуспел, чиновник придержал головной убор рукой, и хлопнул с досады открытой дверцей. Затянутое ледяным узором стекло жалобно задребезжало, но устояло.
Граф самым неприличным образом выразился по матери, покрепче запахнул на мундире бобровую шубу и поспешно отвернул голову назад, давая студеному порыву чуть приутихнуть. Взору открывался привычный ландшафт зимнего города. Казалось бы, что на него глядеть? Снег, вьюга и тяжелое декабрьское небо – ничего необычного. Однако был в этом пейзаже некий тревожный знак.
«Какой разительный контраст», – думал Павел Дмитриевич. – «С одной стороны улицы первостатейный сицилийского мрамора особняк, принадлежащий второму человеку в империи, графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу, а с противоположной: черные осколки жилых зданий, трущобы и самые какие только бывают злачные на свете места. Бедность, косность и мерзость».
Граф упрямо тряхнул головой. Велев слугам дожидаться у кареты, он торопливо зашагал к дому начальника тайной полиции.
Дом этот по праву мог считаться архитектурной достопримечательностью столицы. Выходя одной своей стороной на респектабельный бульвар, другой громоздился над улочкой убогой и грязной, откуда, заплутав в снежных заносах, пожаловал возок Павла Дмитриевича. Граф знал, что подобное расположение имело особенный смысл. Это была своего рода демонстрация беспристрастности государственной власти, закона, стоящего на страже интересов всех социальных слоев общества. Как чистой публики, так и простого люда.
Отворивший министру швейцар, даром, что при ливрее и пышных бакенбардах, статью и повадкой напоминал жандармского вахмистра. Для пущего сходства недоставало только эполет да сабли на ременной перевязи. Киселев совершенно не удивился сверхъестественной осведомленности привратника, с порога, заявившего, дескать, его высокопревосходительство об этот час обыкновенно изволят ухаживать за фикусом и просят их высокопревосходительство пожаловать к ним туда, прямиком в зимний сад.
Миновав анфиладу бесчисленных залов и пышно обставленных комнат, они оказались в маленькой передней, отделявшей приемные помещения от внушительного размера оранжереи, крытой толстым зеленоватым стеклом. Здесь швейцар сдал Павла Дмитриевича с рук на руки другому слуге, дежурившему по вечерам неотлучно при графе Бенкендорфе. Сей молодцеватый субъект, имел настолько свирепую наружность и идеальную выправку, что у министра рассеялись последние сомнения, перед ним – Его Императорского Величества Отдельного корпуса жандармов офицер. Притом, не из последних.
– Здесь обождите, – сказал он строго и важно, опустив светские церемонии и всякое положенное к обстоятельствам титулование. – Доложу-с.
Камердинер исчез за дверью. Граф, временно предоставленный самому себе, скинул с плеч тяжелую шубу, оставил цилиндр, трость и принялся с беспокойством прохаживаться взад-вперед, безотчетно подкручивая превосходный пшеничный ус. Антураж передней был очень простой, смотреть решительно не на что, потому Киселев глядел все больше под ноги и невольно как бы прилип взором к сияющему в черно-белую клетку полу.
«Точно шахматная доска», – подумалось ему с некоторой иронией, – «точно мы с графом в шахматы играем! Сравнение, пожалуй, пошлое, но суть подхвачена правильно. На кон поставлены жизни! Игра опасна, каждый ход может подвести к последней черте, потому и продумывается до мелочей. Теперь, когда оппоненту фактически поставлен шах, совершенно невозможно стало ни отступиться, ни, упаси Господь, оступиться. Как говорится, грудь в крестах, иль голова в кустах».
Минуту спустя дверь отворилась вновь. Изнутри помещения послышался зычный и ровный голос давешнего слуги:
– Пожалуйте, господин министр!
***
Александр Христофорович Бенкендорф стоял среди буйно цветущей зелени с серебряной лейкой в руках и с видимым расположением глядел на вошедшего Киселева. Он до того лучился приязнью, что даже шагнул посетителю на встречу шага три-четыре.
Руководитель политического сыска, невзирая на поздний час и приближающееся торжество, встретил нежданного гостя ласково. Не чинясь. Он обращался к Павлу Дмитриевичу с дружеской обходительностью, благостно улыбался и цитировал Евангелие. Однако визитер был с гостеприимным хозяином строг и, уклонившись от праздной беседы, поспешил поскорее разъяснить, в чем состоит цель его приезда.
– Александр Христофорович, вам отлично известна высочайшая воля и государственная линия в отношении крестьянского вопроса.
– Вы хотели сказать, дорогой Павел Дмитриевич, ваша линия и ваша воля?
Министр пожал плечами, не обратив внимания на ироничный тон графа.
– Хорошо. Пусть будет моя воля. И она такова: я считаю, ваше сиятельство, что бунташные настроения, столь популярные ныне в нашей отчизне, следует преодолевать, прибегая не к реакционным мерам, а к реформаторским. Насилием…
– Ах! – всплеснул руками Бенкендорф. – С места в карьер! И сразу о высоких материях.
– …Насилием, наверное, вообще нельзя ничего добиться, кроме ответного насилия. Куда более эффективным методом искоренения революционной заразы, на мой взгляд, является государственная поддержка самого бесправного и самого большого сословия – крестьянства. Дай мужику защиту и у государя не будет более преданного и надежного слуги. Господам революционерам не на кого станет опираться, раздувая свои крамольные теории и строя бесконечные козни. Они не станут поливать российские мостовые собственной кровью. Эти говоруны только и умеют, что пить кофе со сливками, философствуя где-нибудь на солнечной террасе в Берлине или Цюрихе.
– Весьма оригинальная мысль, друг мой, и даже похвальная! Но что же вы хотите от меня?
– Отдайте мне князя Арсентьева.
Шеф третьего отделения с наигранным удивлением вскинул брови.
– Дмитрия Афанасьевича?
– Да. Помещик заигрался. Слухи о его жестокости в обращении с крепостными вышли далеко за пределы губернии, в которой он имеет честь проживать.
– Наслышан, наслышан! – Бенкендорф покачал головой, стараясь не растрясти редкие напомаженные кудри. – Несусветное безобразие, Павел Дмитриевич! Этому немедленно должен быть положен конец.
– Только не вашими излюбленными методами! Знаю я, как третье отделение решает подобные проблемы. Концы в воду и все шито-крыто. Предоставьте дело мне, обещаю, изувер Арсентьев станет первой ласточкой в череде грандиозных судебных процессов в отношении лиц дворянского звания, порочащих честь России. Простой люд должен видеть и понимать заботу государства. Об этом нужно греметь, дабы все осознали, что в русском краю царит просвещение и вера в права человека. Это будет спасительно для отчизны, для государя и для нас с вами. Россия в глазах международной общественности выйдет из числа опальных и встанет в единый ряд с первейшими в истории державами. Заявляю прямо, я прибыл к вам всего прежде для того, чтобы нам в этой точке объясниться и впредь не толкаться локтями.
Александр Христофорович с мягкой улыбкой поманил графа за собой, куда-то вглубь тропического Эдема.
– Вот-с, – обвел он рукою свой сказочный сад, – более трехсот квадратных саженей деревьев, цветов и иных посадок. Здесь у меня собраны самые разнообразные плоды. Клубника, бананы, лимоны и даже гранат.
Киселев подумал, что ослышался и довольно невежливо поинтересовался:
– Причем здесь ваша оранжерея, граф?
– Ну как же! На ее примере я выскажу вам собственное мнение о предмете нашего разговора. Вы же простите старику любовь к аллегориям?
Павел Дмитриевич нетерпеливо повел плечом, но промолчал.
– Всякому лужку неприлично зарастать только полевыми травами, сколь полезными бы они не были. Скучно! Потому природа наградила нас яркими и пышными цветами. Однако, строя дом в дремучей куще, человек непременно подстраивает ее под себя. Отсекает лишнее, оставляя только то, что соответствует его представлению о пользе дела и красоте. Но не достаточно единожды обуздать стихию, за ней нужен неустанный контроль. Стоит на мгновение утратить бдительность и все… пиши пропало, кругом безраздельно воцарится сорняк и хаос. Только опытному садовнику по силам содержать свой зеленый остров в порядке и надлежащей чистоте. Не трогать лишнего, но безжалостно выдергивать каждый пустоцвет и после, обернувшись в конце утомительного дня на результат своих трудов, усладить, наконец, взор картиной сочных и геометрически выверенных клумб. Так устроена разумная жизнь. Ну, согласитесь, глупо садовнику в стремлении вырастить самый большой кабачок шептать ему комплименты и показывать картинки с гигантскими тыквами, а после, когда облагодетельствованный корнеплод вымахает, в лучшем случае, до стандартных размеров, пенять ему, что тот незаслуженно почил на лаврах. Нет, здесь поможет только прополка!
Тут терпение Киселева лопнуло как мыльный пузырь.
– Люди, по-вашему, Александр Христофорович, сплошь пустоцвет? Впрочем, соглашусь, Арсентьев самый настоящий сорняк! И да, сорняки, нужно выпалывать, но делать это следует цивилизовано – в перчатках и при помощи соответствующих инструментов, аккуратно. Не драть голой рукой, попутно затаптывая обеими ногами ни в чем не повинные цветы.
Бенкендорф нисколько не смутился и вдруг сделал Павлу Дмитриевичу вопрос:
– Признайтесь, господин министр, это вам барон Коршаков про князя-то Арсентьева проболтался? Откуда вы могли знать, что формуляр на этого, безусловно, несимпатичного сиятельства покоится на моем столе в текущих бумагах? Право, не отвечайте, я и сам теперь вижу, что Коршаков. Что ж, это он не нарочно, это только так-с… Милый старикашка, наш с вами барон. Знаете, граф, он нынче больше в грезах, да, пожалуй, в кураже, но все одно держится самого тузового общества и обществом этим ценим. К слову сказать, приходится мне дальним родственником по супруге. Хе-хе! Люблю его светло и невинно, а почему так – не могу понять и сам.
Киселев нахмурился.
К сему моменту он уже понял, что начальник третьего отделения, кажется, не желает воспринимать его всерьез и от затеи своей, касательно заигравшегося князя, нипочем не отступится. Никакого суда Бенкендорф, конечно, не потерпит, боится, что в ответ фраппированное дворянство затеет против помазанника какой-нибудь великосветский заговор. Арсентьев может быть сколько угодно мерзавцем, но публичная порка титулованной особы – настоящая пощечина русской элите. Нет, сорняк выдернут с корнем, и перед его императорским величеством ляжет доклад о приключившемся с опальным помещиком несчастье или о какой-нибудь выпавшей на его долю тяжелой болезни.
Сверкнув глазами, Павел Дмитриевич коротко поклонился, показывая, что разговор окончен.
– До свидания, ваше высокопревосходительство! Рад, что нам удалось, наконец, поговорить по душам и обменяться суждениями. Еще раз прошу, не вмешиваться в дело Арсентьева! Я сам отличным манером все обустрою, только не ставьте мне в колеса этих ваших полицейских палок.
Поклонился и граф Бенкендорф, коротко сказал с улыбкой:
– Благодарю за откровенную беседу, Павел Дмитриевич, и за доставленное удовольствие вас лицезреть!
Поздний посетитель с достоинством удалился и более своей персоной дом начальника тайной полиции не удостаивал. Вызов состоялся, перчатка была брошена.
***
До дома Павел Дмитриевич добрался всего за четверть часа до полуночи, в ту минуту, когда его уже перестали ждать. В малой зале, перед почти прогоревшим камином, неподвижно стояла Джаелл.
Киселев привез ее лет пять назад из Букарешта. К тому времени его брак перестал существовать. Природа позаботилась о том, чтобы всякий человек, кем бы он ни был, и какого бы положения ни занимал в свете, отчаянно нуждался в любви и в желании быть кому-то одновременно полезным и благодарным. Особенно, если этот человек разменял шестой десяток, и у него нет детей.
Девушка почти не имела изъяна. В переводе с румынского имя Джаелл означало «дикая козочка», что в полной мере соответствовало ее характеру и служило отражением натуры. Она могла с утра до ночи гулять по саду или дому, напевать что-то себе под нос и не интересовалась решительно ничем, кроме самого графа, к которому успела искренно привязаться и даже по-своему полюбить.
– Paul, vite, verser un peu de champagne, la fête sur la porte! (франц. «Поль, скорей налей шампанское, праздник у двери!»), – произнесла молодая румынка, с легким беспокойством заглядывая в глаза Павлу Дмитриевичу.
Министр выдавил из себя улыбку, вздохнув, откупорил протянутую слугою бутыль и наполнил стоящие на изящном столике фужеры. Киселев рассеяно слушал веселое щебетание подруги, изредка что-то отвечал и даже смеялся ее шуткам, но мысли его были далеко.
Затея с Арсентьевым крайне тонка и опасна, думал граф. Всего несколько часов назад государь, лично выслушав его доклад, ответил:
– Ну что, Павел Дмитриевич, попробуй!
Сам император доверился ему. Каково! Если сделать неверный шаг, можно раз и навсегда загубить карьеру. С другой стороны, победа сулит настоящий взлет, такой, что дух захватывает; под самые облака и даже выше.
При этом нельзя недооценивать Бенкендорфа. Спокойный сон государя-императора этот ловкий и осторожный во всех решительно отношениях господин ставит много выше интересов справедливости и даже репутации отечества. Потому скорее сбреет начисто свои знаменитые бакенбарды, нежели допустит огласку злоупотреблений русским дворянином властью над челядью. От одной только мысли о методах охранки волосы на голове встают дыбом!
Третье отделение – мощнейший полицейский механизм в Европе. Притом приспособленный не только для охранения правопорядка, но и не чурающийся грязной, а порой и откровенно преступной, работы. Скажем, даст с утра Александр Христофорович некие распоряжения относительно самодура-помещика и уже за ужином сможет небрежно обронить в беседе с Николаем-де нет и не было никогда никакого князя Арсентьева, а Киселев ваш – изрядный выдумщик и тщеславный мечтатель, если не хуже.
А если и мечтатель, что в этом плохого? Разве не здорово было бы поставить единственным судебным процессом Россию на одну полку с Европой? Еще как здорово! Триумф справедливости и равенство всех перед законом – вот истинный венец социальной политики государства. И пусть идут к черту все, кто смеет утверждать, будто эта мысль опережает свое время, по меньшей мере, лет на сто!
С такими вот мрачными думами Павел Дмитриевич явился домой, с ними встретил праздничную минуту, с ними же и удалился, черней тучи, в опочивальню.
Он пробудился ранним утром от глубокого чувства тревоги, но уже в совсем ином ключе. В комнате находился кто-то посторонний. Инстинктивно нащупав под подушкой рукоять пистолета, с некоторых пор появилась у графа привычка брать с собой в спальню заряженное оружие, Павел Дмитриевич открыл глаза.
– Господин Киселев, – тронули его за рукав ночной рубахи чьи-то настойчивые пальцы, – прошу извинить меня за вторжение, но дело не терпит отлагательств! Срочная депеша.
Чиновник молча приподнялся на локте и, похлопав ресницами, вгляделся в лицо разбудившего его человека.
– А, это вы? Что случилось? Кто вас впустил?
– Ваша… сожительница. Она здесь, за дверью, Джаелл! Бога ради, время не ждет, граф! Проснитесь же, наконец! Джаелл!
Немедленно скрипнула дверь. Девушка приблизилась к министру вплотную, заглянула ему в лицо и дрожащим от сдерживаемых слез голосом произнесла:
– Поль, мы танцевали с ним всего только третьего дня, помните? Бедный, бедный дедушка…
Киселев нахмурился, силясь разобраться в происходящем.
– Известно ли вам, что барон Коршаков сегодня ночью покончил с собой? – глаза раннего посетителя лихорадочно блестели, но не от слез, как у чувствительной Джаелл, а от едва скрываемого азарта.
Киселев отнял руку от кавалерийского пистоля и энергично потер лицо, как бы сгоняя остатки сна.
– Как?
– Найден повесившимся в собственном кабинете. На шнурке от фрамуги, где шторы.
– Это не самоубийство, – проговорил граф с видимым удовлетворением и даже с некоторой уверенностью.
– Вне всяких сомнений.
Павел Дмитриевич испытал абсурдное облегчение. Значит, после разговора с ним Бенкендорф поспешил заткнуть дыру, через которую произошла утечка информации. Столь решительные и грубые действия могли означать только одно – Арсентьев действительно представляет для третьего отделения большой интерес. Александр Христофорович оценил потенциал задуманного судебного процесса.
Граф троекратно перекрестился и невпопад заметил:
– Всякого ожидал, но что бы так… Лихо. Экого паука уморил, родственник.
– Перестань ради Всевышнего, Поль! – возмутилась вдруг девушка. – Ни в какие ворота!
– Ну, не бранись, лапушка! Сказано, не человек – кремень. Первый сорт.
Павел Дмитриевич с хитрецой поглядел на своего ночного визитера.
– Кого бы мне послать к князю?
– А мне уж, ваше высокопревосходительство, грешным делом, помнилось, что вы о том и не заговорите. Стало быть, едем к Арсентьеву?
Глава вторая
Ах, знали бы вы, какие чудесные яблоки нарождаются в здешних местах этой порой! Ах, какие стоят золотые погоды! Палящие жары, еще две недели тому назад нещадно иссушавшие многочисленные речушки и озерца, обильно затянутые камышом, обыкновенно к этому времени прекращаются. Сменив гнев на милость, летний зной уступает место теплому бархату ранней осени. Стройные могучие леса в причудливом хороводе пушистых елок, сосен да красавиц берез еще величественно переливаются в солнечных лучах густой темной зеленью. И лишь кое-где уже искрится в ветвях веселая желтизна и яркий игривый багрянец. Еще слышится нестройное пение пичуг и гудение деловитых пчел над пашнями и лугами, раскинувшимися по обе стороны ухабистого столбового тракта. Темной извилистой лентой вьется он от станции до станции, петляя средь лесов и полей, и завершает свой бег у городской заставы.
Дорогой этой, мерно поскрипывая колесными спицами и потешно качая рессорой на частых кочках, поросших высокой и уже изрядно бледнеющей крапивой, катила легкая карета, запряженная двумя низкорослыми лошадьми. Черногривой гнедой да светло-рыжей игреневой. Несмотря на свой невеликий рост, лошадки резво трусили по основательно наезженной колее и производили впечатление чрезвычайной выносливости. Карета была сплошь покрыта въедливой дорожной пылью и, казалось, вот-вот развалится.
На стареньком, скрипучем, но весьма еще уютном сидении расположился русоволосый молодой человек, с живым любопытством изучающий дорожные пейзажи. Правильные черты лица, большие зеленые глаза и добродушная улыбка – располагали к себе каждого, кому доводилось хоть на кратчайший срок свести с ним знакомство. На глаз молодому человеку можно было бы дать приблизительно лет двадцать пять или даже немногим более. Одет он был в строгом соответствии с модой современных россиян. Длинные светлой шерсти панталоны в клетку, пюсовый фрак и зеленый бархатный жилет. На шее изящным черным цветком красовался платок, концы которого прятались под жилет, а рядом, на сидении, покоился снятый за ненадобностью черный же цилиндр при шелковой ленте. Трости молодой человек не имел вовсе, компенсируя себе ее отсутствие наличием продолговатого атласного свертка, который ни на минуту не выпускал из рук, нетерпеливо поигрывая натуго перетянутым шнурком.
Нетерпение молодого человека, ненавязчиво сквозившее в беспокойном движении пальцев, самым что ни на есть простительным образом, объяснялось длительностью путешествия. Он выехал из Петербурга примерно месяц тому назад, аккурат на Петров день, и с тех пор, по собственному его выражению, наблюдал жизнь как бы со стороны.
Дорожные будни пронеслись перед глазами яркими мозаичными картинками, будто в калейдоскопе, новомодном изобретении господина Брюстера. Леса и поля, озера и реки, почтовые станции, вечно нетрезвые смотрители, постоялые дворы с покосившимися крышами и грязные трактиры, часто напоминающие хлев, с такими, впрочем, ценами, какие не найдешь и в самых респектабельных ресторациях.
В пути он встретил начавшийся и успевший закончиться полный сочными травами сенокос, а за ним и необременительные по своей строгости Госпожинки. И вот уже в осенний мясоед, сытую пору частых свадеб и веселья, наконец, приблизился к конечной точке своего непростого маршрута. Лошади, далеко разнося по округе пение звонкоголосых колокольчиков, с каждой минутой приближали его к уездному городу с неизвестным всякому столичному жителю названием Курган, что в Тобольской губернии.
– Скажи-ка, братец, далеко ль еще до заставы? – окликнул молодой человек восседавшего на козлах кучера, чуть приоткрыв невеликое оконце, расположенное в передней части кареты.
– Да куды там! Таперичка, почитай, уж недалече. До темноты оно непременно-с, барин, уж как положено, до темноты-то, – с охотою откликнулся кучер, облаченный в видавший виды кафтан, и, завидев впереди очередную кочку, слегка натянул поводья, желая чуть замедлить бег лошадей. – Тпрууу!
Вздохнув, узник кареты откинулся назад и извлек из-под мягкой отороченной кистями подушки, вот уже который день служившей ему единственным предметом комфорта, аккуратно сложенную газету. Сквозь страницы ее вдруг с легким шелестом выпорхнул бумажный листок, испещренный мелким, совершенно не каллиграфическим почерком, и едва качнувшись в воздухе, скользнул под пружинное сиденье. Это была подорожная, выписанная на имя отставного штаб-ротмистра Ивана Карловича Фалька.
Водрузив упавший документ рядом с собой, молодой человек решительно развернул газету и, в который раз, пробежал глазами первую страницу. Он приобрел ее близ Александро-Невской лавры в самый день отъезда и за время, проведенное в дороге, изучил буквально вдоль и поперек. Однако более развлечь себя было нечем. Чтение – единственное из доступных в условиях каретного заточения занятий, способное хоть как-то развеять скуку.
Сверху по центру, прямо под монограммой с изображением пчелы в окружении дубовых листьев, помещалась крупная надпись «Северная пчела». Чуть ниже и шрифтом помельче было выведено: «№ 49, вторник, июля двадцать восьмого 1840 года». А затем уже и вовсе едва заметно: «выходит по вторникам, четвергам и субботам, годовая цена за 156 нумеров: в С.П. Бурге 40 рублей, с пресылкою 50 рублей».
Петербуржец поводил пальцем по строчкам.
Карету ощутимо потряхивало на колдобинах и капризные буквы все норовили разбежаться в разные стороны. Наконец, он остановился на нужной статье и углубился в чтение. Статья, озаглавленная как «Виктория русского оружия», была выдержана в бравурно-патриотическом тоне и старательно предрекала непременную победу этого самого оружия на Кавказе, причем в самых скорейших перспективах. Автор, смакуя мельчайшие детали, которые он сам же, весьма вероятно, и сочинил, строчка за строчкой повествовал о недавнем сражении на реке Валерик, завершившемся разгромом северокавказских горцев.
На взгляд Ивана Карловича, делалось это очень уж прямолинейно и незатейливо. Несмотря на безусловное сочувствие оказавшимся в тяжелом положении войскам и любовь к отчизне, Фальк никак не мог отделаться от ощущения некоторой гадливости и полагал, что статью изрядно «пересиропили». Если кто-то громко и неутомимо твердит о своей правоте и избранности, значит, есть сомневающиеся!
Штаб-ротмистр давно уже пришел к выводу, что подобного рода неоднозначность теперь правит бал во всем. Это касается не только дел армии и Кавказа, но и статского общества.
Все больше головы захлестывает хмель либерализма. Вслед за безумцами, вышедшими в двадцать пятом на сенатскую площадь, появляются новые веяния и кружки. Похлеще старых. Все больше проникается чувством собственного достоинства простой мужик, не умеющий зачастую прочесть свое собственное имя. Да что там, многие из доморощенных «робеспьеров» затруднились бы даже с уверенностью назвать сегодняшнее число. А все туда же, свободу им подавай! Равенство. Братство.
Пресса оставаясь, пожалуй, единственным глашатаем и источником публичной мысли, всеми силами стремилась сгладить общественное напряжение. Завершалась статья вполне закономерно, плавно переходя от восхищений к увещеваниям, призывая «усмирять в сей тяжелый час для русской отчизны бурные порывы к чужеземному, к неизвестному, к отвлеченному в туманной области политики и философии и умножать, где только можно, число умственных плотин».
Иван Карлович снова вздохнул и задернул штору, растянулся на скрипучем сиденье и миг спустя погрузился в глубокий, болезненный сон.
Из тревожной дремоты юношу вывел голос кучера.
– Просыпайся, ваш бродь! Никак прибыли, уж вон и застава.
***
Не обманул умудренный опытом и сединами ямщик, к городу подкатили до темноты. Впрочем, когда миновали заставу, дневное светило уже основательно клонилось к горизонту, прячась за кромкой леса. Лес этот почти вплотную подступался к самой городской окраине, точно имея твердое намерение ежеминутно видом своим выказывать, мол, не задавайтесь, не обманывайтесь люди, что держитесь теперь цивилизованного общества, да носу своего не дерите, потому все одно в глуши живете.
Застава представляла собой громоздкий, сработанный из долгой лесины шлагбаум, не отличающийся особым изяществом и бонтоном, полосатую будку, с кое-где облупившейся краской, да крохотную сторожку-кордегардию, изрядно потемневшую от частых непогод.
– Спишь, Курган! – грозно насупив брови, прикрикнул возчик на нерасторопного инвалида (инвалид – категория военнослужащих Российской Императорской армии; в данном случае не имеется в виду физическое увечье). – А ну, подымай свою палку! Не вишь, барина везу?!
– Не шуми, не шуми, ну чаго расходился! Слышу я, Степан, тебя как не слышать! – отозвался пожилой служака, спеша к подъемной цепи. На полпути он посторонился, уступая дорогу вылетевшему на шум унтеру.
Иван Карлович, больше привыкший к столицам, мимолетно подивился девственной пустоте городских улиц. Въезд в город не был перекрыт вереницами многочисленных карет и колясок, ожидающих всякая свой черед в строжайшем соответствии чину и званию. Не слышалось ни зычных команд вахтенных, ни ропота измученных ожиданием путников, ни ржания взмыленных коней. Вообще ничего. Только где-то поблизости неохотно ворчали псы.
– Как у вас тихо здесь, хорошо-с, – чуть слышно проговорил Фальк и с заспанным видом протянул дежурному документ.
Унтер, придерживая болтающуюся в ножнах саблю, принял бумагу и стал читать ее с обстоятельностью человека, привыкшего полагать себя изрядной величиной. Он долго шевелил губами, щурился и моргал, и наконец, проговорил:
– Да-с, тут у нас не Бог весть, какой Вавилон, ваше степенство! – затем вытянулся в струнку и, обращаясь уже к одному только своему подчиненному, гаркнул, что есть мочи. – Подвысь!
Едва шлагбаум медленно и со скрипом пополз вверх, едва унтер пропустил упряжку и взял под козырек, как русоволосый франт приник к узкому занавешенному окну и принялся с интересом рассматривать городок. Неширокие улочки были залиты мягким вечерним солнцем. По ним со звонким смехом носилась ребятня. Спешащие куда-то прохожие, по виду в основном из мещан, купцов да разночинцев, с неприличным любопытством провожали карету долгими, пытливыми взглядами.
Повсюду виднелись утопающие в зелени садов деревянные дома с резными наличниками, да строгие присутственные учреждения, кое-где даже воздвигнутые из камня. Ярким золотом отливали купола и кресты ладненькой церквушки, откуда благостным пеньем разносился по всей округе колокольный звон. Чуть дальше можно было разглядеть невысокую, хотя и громоздкую в отношении прочих строений, башенку пожарной каланчи.
Как и в прочих невеликих селениях, думал Фальк, всего только две вертикали – одна служит религиозной цели, другая воздвигнута из видов противопожарного обустройства. Обе – исторический результат древнерусского градостроительства.
Идиллическую картину завершали запахи. Воздух здесь полнился ароматом цветов, усеивавших бесчисленные дворы и палисадники. Близкая река добавляла ощущение приятной свежести.
Все это вдруг наполнило душу отставного штаб-ротмистра каким-то необъяснимым умиротворением, с юных лет крепко позабытым чувством домашнего уюта. Состояние было непривычным, и оттого тревожным. Позже об этом определенно следовало поразмыслить.
Пообещав себе как-нибудь на досуге вернуться к теме незнакомых мироощущений, Иван Карлович сам того не заметил, как очутился у крыльца длинного приземистого строения, свежевыкрашенного в желтый цвет. Карета слегка качнулась и тотчас остановилась, издав протяжный и, как вообразилось молодому человеку, полный ликования скрип, знаменующий окончание дальнего странствия.
Фальк открыл дверцу, спрыгнул с подножки и с видимым удовольствием потянулся.
– Что, Степан Андреич, никак почта? – прокряхтел он, завершая немудреный моцион и принимаясь вынимать с багажной полки объемистый дорожный саквояж.