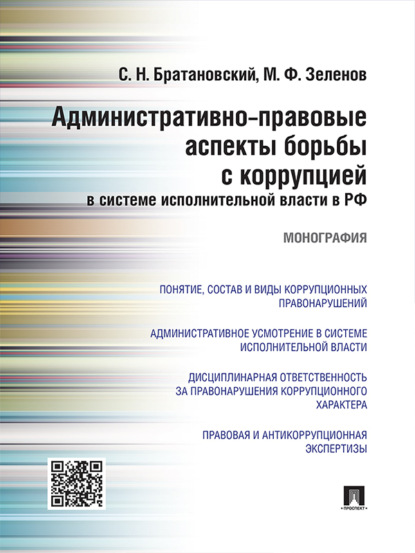Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ. Монография

000
ОтложитьЧитал
1.4. Организационно-правовые факторы, способствующие проявлению коррупции в системе исполнительной власти
Коррупция, как и всякое социальное явление, имеет свои корни и свои причины. В первом параграфе исследования мы отмечали связь уровня коррупции со стоимостью бюрократической процедуры: если бюрократическая процедура предполагает большие ресурсные затраты (время, финансовые ресурсы, усилия и т. п.), то становится востребованной коррупционная модель социальных отношений. В то же время совершенно очевидно, что только сложность и стоимость (в различных смыслах) бюрократических процедур не может порождать коррупцию. В обществе, где мздоимство является нормой, а контроль и ответственность отсутствуют, коррупционная модель поведения может возникнуть даже там, где сложность законных бюрократических процедур не так высока; однако даже при высокой сложности последних, многочисленные причины (наличие жестких административных процедур, строгой юридической ответственности и т. п.) могут препятствовать коррупционным проявлением.
В связи с этим, учитывая, что целью данного исследования является выявление механизмов противодействия коррупции в системе исполнительной власти в Российской Федерации на всех ее уровнях, представляется абсолютно необходимым остановиться на причинах (факторах), порождающих коррупцию в этой системе, чтобы определить возможные способы их если не устранения, то минимизации.
В целом вопрос о том, что порождает коррупцию и во властных структурах и в обществе, является достаточно хорошо освещенным в литературе. При этом нельзя не отметить, что специалисты применительно к рассматриваемому вопросу используют разную терминологию для обозначения детерминант коррупции: «причины коррупции», «предпосылки коррупции», «факторы коррупции». Идет ли в данном случае речь о явлениях одного порядка или их все же следует различать?
Как нам представляется, верным все же является второй подход. Предпосылка – это предварительное условие, исходный пункт чего-нибудь120. Причины коррупции следует отличать от их предпосылок, так как причины порождают коррупцию непосредственно, в то время как предпосылки влекут появление коррупции через одно или несколько промежуточных действий. Фактор (нем. Faktor от лат. factor – «делающий, производящий») определяется как причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты121. В словаре Брокгауза и Ефрона фактор определяется как: 1) деятельная сила какого-либо явления; 2) математический множитель, член алгебраического выражения; 3) комиссионер; в типографии: надсмотрщик за работой, посредник по поставке материалов122. Таким образом, фактор также порождает какое-либо явление (в рассматриваемом нами случае – коррупцию), а некоторые источники его прямо отождествляют с причиной.
Представляется, однако, что применительно к коррупции между причинами и факторами не следует ставить знак равенства. Здесь следует использовать опыт криминологической науки, которая оперирует категориями: «причины преступности» и «факторы преступности». При этом второе традиционно рассматривается более широко, чем первое, так как ««фактор» означает явление, представляющее криминологический интерес, имеющее определенное значение, влияющее на ход и результаты какого-то процесса»123. При дальнейшем анализе какие-то «факторы, обладающие причинной связью с преступностью, рассматриваются в качестве ее причин, другие выступают условиями, ей способствующими»124.
Таким образом, категории «факторы преступности» и «причины преступности» рассматриваются как общее и частное (поскольку факторами преступности могут выступать не только ее причины, причины же всегда являются факторами). Представляется, что такой же подход применим и к вопросам возникновения коррупции. В научных целях, разумеется, можно использовать обе категории, приоритетность той или иной определяется целями, которые стоят перед исследователем. Если имеется необходимость проанализировать коррупционные явления как можно более детально, речь должна вестись о причинах, их порождающих. Если же ставится цель охватить как можно более широкий круг явлений, порождающих коррупцию, предметом анализа должны являться факторы коррупции.
Поскольку перед нами в рамках данного исследования стоит задача сформировать в конечном счете механизмы противодействия коррупции в системе исполнительной власти, ее решение должно опираться на выявление коррупционных факторов. Вместе с тем предметом нашего анализа в дальнейшем будут и факторы, и причины коррупции, во-первых, в силу того, что причины всегда выступают одновременно факторами, во-вторых, в силу того, что, как уже отмечалось выше, многие исследователи вообще не различают эти явления и пишут и о факторах, и о причинах, и о предпосылках коррупции.
Приступая к рассмотрению этого вопроса, прежде всего отметим, что термины «коррупционные факторы», «коррупциогенные факторы» достаточно активно используются в современном отечественном законодательстве. Так, ч. 2 ст. 1 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»125 определяет, что коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. Термин «коррупциогенный фактор» используется и в постановлении Правительства РФ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»126, а также в ряде иных документов. В то же время в федеральном законодательстве применительно к той же антикоррупционной экспертизе используется и термин «коррупционный фактор»127. Как справедливо отмечает О. Г. Дьяконова, «термины, несмотря на схожесть, являются различными: «коррупционный фактор» – источник, причина преступного использования предоставленных полномочий, а «коррупциогенность» – свойство предмета, позволяющее утверждать, что данный предмет включает в себя один или несколько коррупционных элементов, которые могут впоследствии при определенных обстоятельствах проявиться в качестве коррупционных, поэтому наиболее приемлемым следует признать термин «коррупционные факторы», а коррупциогенность можно определить как потенциальную возможность совершения коррупционных деяний (действий/бездействия)»128. Действительно, коррупциогенными могут быть нормы, но не факторы. Тем не менее, поскольку Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и сама методика проведения этой экспертизы используют термин «коррупциогенные факторы», далее в работе применительно к антикоррупционной экспертизе будет использоваться именно этот термин.
В то же время ставить знак равенства между коррупциогенными факторами, содержащимися в актах и проектах актов, являющихся предметом антикоррупционной экспертизы, и факторами коррупции в целом не следует. Как верно пишет В. А. Едлин, указанные «факторы довольно точно определяют основные причины коррупции, связанные с технической стороной исполнения законов. В действительности коррупциогенных факторов намного больше»129. Поэтому, хотя далее мы еще вернемся к коррупциогенным факторам, предметом анализа в рамках настоящей главы будет иной круг факторов.
Как уже отмечалось выше, круг факторов (причин) коррупции, выделяемых различными исследователями, достаточно широк. Так, к общим и основным причинам коррупции Л. Я. Драпкин и Я. М. Злоченко относят:
• отсутствие оптимальной системы антикоррупционных законов и подзаконных актов;
• существенные недостатки и грубые ошибки в проведении экономических и социальных реформ;
• слабость, нерешительность, а иногда и полное политическое безволие государственной власти;
• кадровую, техническую и оперативно-тактическую неподготовленность правоохранительных органов к противодействию организованной преступности, в том числе и коррумпированным структурам всех уровней;
• криминализацию значительной части политической элиты;
• моральную деградацию определенных слоев общества;
• минимальный риск разоблачения коррупционеров и отсутствие жесткой по отношению к ним репрессии;
• привилегии на распоряжение собственностью и услугами, которые находятся в руках бюрократов130.
По мнению О. И. Коротковой, основными причинами высокой коррупции является двусмысленные законы; незнание или непонимание законов населением, что позволяет должностным лицам произвольно препятствовать осуществлению бюрократических процедур или завышать надлежащие выплаты; зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы бюрократического аппарата, от политики правящей элиты; профессиональная некомпетентность бюрократии; кумовство и политическое покровительство, которые приводят к формированию тайных соглашений, ослабляющих механизмы контроля над коррупцией; отсутствие единства в системе исполнительной власти, т. е. регулирование одной и той же деятельности различными инстанциями; низкий уровень участия граждан в контроле над государством; низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с частным сектором; государственное регулирование экономики; зависимость граждан от чиновников, монополия государства на определенные услуги; оторванность бюрократической элиты от народа; экономическая нестабильность, инфляция; этническая неоднородность населения; низкий уровень экономического развития (ВВП на душу населения); неанглосаксонская система права; религиозная традиция; культура страны в целом131. В. А. Едлин к таковым относит «нестабильность во власти; отсутствие надлежащего механизма контроля, исключающего применение принципа круговой поруки органов власти и ряда недобросовестных должностных лиц; уровень оплаты труда; менталитет граждан, стремящихся решить свои вопросы «быстро и без бумажек», и пр.»132. В. Г. Клочков, применительно к рассматриваемому вопросу пишет: «основные причины разгула преступности и коррупции находятся в тесной взаимосвязи с такими явлениями, как кризис и несбалансированность в экономических отношениях, высокие налоги, падение производительности труда, рост безработицы, бюджетный дефицит. Такому криминогенному состоянию способствует правовой нигилизм, который охватил некоторые органы трех ветвей государственной власти разного уровня, ухудшение исполнительской дисциплины, подбор, расстановка и воспитание кадров, несовершенная нормативно-правовая база, серьезные недостатки и просчеты в правоприменительной практике правоохранительных органов»133.
Схожие причины коррупции в Российской Федерации отмечаются и зарубежными специалистами: низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с частным сектором; государственное регулирование экономики; зависимость граждан от чиновников, монополия государства на определенные услуги; оторванность бюрократической элиты от народа; экономическая нестабильность, инфляция; этническая неоднородность населения; низкий уровень экономического развития (ВВП на душу населения); религиозная традиция; культура страны в целом134.
Как видим, большинство исследователей называют причин (факторов) коррупции достаточно много, относя к ним чуть ли не все пороки аппарата управления, да и общества в целом. При этом какой-либо систематизации причин (факторов) коррупции обычно не приводится. Научная ценность таких исследований вряд ли велика, да и сами они по своему качеству скорее напоминают взгляды на коррупцию обычного обывателя, чем серьезные научные исследования.
Показательно, что и в опросах граждан в качестве причин коррупции называются примерно те же: жадность и аморальность российских чиновников и бизнесменов – 70,1 %; неэффективность государства, несовершенство законов – 63,1 %; низкий уровень правовой культуры и законопослушания подавляющего большинства населения – 37,2 %; широкое распространение клановости и семейственности в среде российских чиновников – 33,9 %; правовая неграмотность самих чиновников – 13,7 %135; низкий уровень борьбы – 45,6 %; рост бюрократических барьеров – 17,1 %; возможность ускорения решения вопросов – 16,3 %136.
Большего внимания, на наш взгляд, заслуживают исследования, в которых при всем многообразии причин (факторов) коррупции делаются попытки их каким-либо образом систематизировать. Так, рядом исследователей все факторы коррупции подразделяются на:
• фундаментальные (несовершенство экономических институтов и экономической политики; несовершенство системы принятия политических решений, неразвитость конкуренции, чрезмерное государственное вмешательство в экономику, монополизация отдельных секторов экономики, контроль государства над ресурсной базой, низкий уровень развития гражданского общества, неэффективность судебной системы);
• правовые (слабость закона, отсутствие ясной законодательной базы и слишком частое изменение экономического законодательства, несоблюдение норм международного права, отсутствие необходимого контроля, неадекватные меры наказания за коррупционные действия, возможность влияния на судебные решения, наличие норм, позволяющих субъективную трактовку нормативных актов);
• организационно-экономические (трудности управления большой территорией, относительно низкая оплата труда служащих, дискриминация в доступе к инфраструктурным сетям, жесткий торговый протекционизм, прочие формы дискриминации);
• информационные (непрозрачность государственного механизма, информационная асимметрия, отсутствие реальной свободы слова и печати, наличие оффшорных зон, отсутствие исследований проблемы коррупции);
• социальные (клановые структуры, традиции непотизма, эксплуатация «дружеских связей», блат, традиция «дарения» подарков-взяток, низкий уровень грамотности и образования);
• культурно-исторические (сложившаяся система норм бюрократического поведения; массовая культура, формирующая снисходительное отношение к коррупции; особенности исторического развития; придание малого значения понятиям честности и чести)137.
Несмотря на то что к данной классификации тоже могут, на наш взгляд, быть предъявлены определенные претензии (прежде всего с точки зрения ее оснований), она все же в большей степени позволяет ориентироваться в факторах коррупции и определить пути и средства их устранения. При этом несложно заметить, что приведенные подходы к классификации факторов коррупции имеют несомненное сходство с утвердившимися в отечественной криминологии подходами к факторам (причинам) преступности вообще138. И это вполне логично, так как, являясь видом социально негативного явления, коррупция имеет в целом те же корни, что и любое противоправное поведение, в том числе и преступное.
Разумеется, в настоящем исследовании нас интересуют не все факторы коррупции, а только те, которые непосредственно связаны с организацией и функционированием исполнительной власти. Исследование, например, вопросов ментальности российских чиновников (и всего населения в целом) или несовершенства системы принятия политических решений, безусловно, очень интересно, но выходит за рамки работы.
В силу этого речь далее будет идти только о правовых (или точнее – организационно-правовых) факторах. Под организационно-правовыми факторами коррупции в системе исполнительной власти здесь и далее в работе будут пониматься факторы, представляющие собой обусловленные самой организацией управленческой деятельности и юридически закрепленные возможности совершения должностными лицами коррупционных действий. Организационно-правовыми факторами коррупции прежде всего являются:
• неопределенность законодательства;
• отсутствие четко закрепленных процедур совершения управленческих действий;
• отсутствие необходимого контроля;
• неадекватные меры наказания за коррупционные действия;
• наличие норм, позволяющих субъективную трактовку нормативных актов;
• и др.
Несложно заметить, что в таком контексте организационно-правовые факторы коррупции в целом описываются широко известной формулой коррупции, предложенной Робертом Клитгаардом:
К = M + С – П,
где К – коррупция, М – монополия; С – свобода действий; П – подконтрольность139.
Применительно к системе исполнительной власти эта формула может быть несколько модифицирована и уточнена.
Элемент монополии в рамках системы государственного и муниципального управления означает монополию государственных и муниципальных чиновников на принятие решений. Иными словами, здесь можно вести речь о существовании исключительного управленческого ресурса.
Свобода действий – это юридически закрепленные полномочия должностных лиц дискреционного характера, т. е. полномочия действовать по усмотрению. Сами по себе дискреционные полномочия – объективно необходимый элемент исполнительно-распорядительной деятельности, однако их избыток в отсутствие должного контроля и ответственности действительно является важнейшим организационно-правовым фактором коррупции. В силу этого вопросы о критериях и пределах управленческого усмотрения будут рассмотрены нами далее.
Отдельно следует остановиться на подконтрольности. Контроль является одним из основных способов обеспечения законности в системе исполнительной власти140. Государственный контроль, обладая определенными признаками, рассматривается как особая функция государства, выражающаяся в деятельности государственных органов, направленной на получение и анализ информации о процессах и явлениях, происходящих в обществе, на установление нарушений и отклонений от нормативных и индивидуальных предписаний, а также выдвижение требований об устранении выявленных нарушений в целях охраны прав и свобод человека и гражданина, конституционного строя, обеспечения режима законности141.
Вместе с тем, как показывает практика, из-за высокой латентности коррупционных правонарушений традиционные формы контроля (проверки, ревизии, отчеты и т. п.) для противодействия ей не всегда являются эффективными. В связи с этим в законодательстве большинства стран мира в дополнение к системе контроля собственно за законностью принимаемых государственными и муниципальными служащими управленческих решений формируется дополнительная система контроля за самими служащими (точнее – за их доходами, расходами, их нахождением в потенциально коррупциогенных ситуациях и т. п.). В данном случае контроль направлен на предотвращение коррупции, но не напрямую, а путем выявления фактов, ей способствующих или о ней свидетельствующих. Следовательно, в данном случае речь идет о специальном антикоррупционном контроле. Такой контроль уместно также назвать замещающим.
Элементом обратной связи с системе противодействия коррупции выступает ответственность, которую можно рассматривать также как определенный итог контроля за коррупционными проявлениями в случае их выявления. Формы такой ответственности также разнообразны, но в силу административно-правовой специфики данной работы далее нами будет рассмотрена только административная и дисциплинарная ответственность в анализируемой сфере.
ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ ЭЛИМИНАЦИИ КОРРУПЦИОННО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
2.1. Дискреционные полномочия как фактор коррупции в системе исполнительной власти
В постановлении Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»142 в качестве коррупциогенных факторов, помимо прочего, называются широта дискреционных полномочий определение компетенции по формуле «вправе», выборочное изменение объема прав и другие факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения. А. Ф. Ноздрачев отмечает, что правовые нормы, содержащие такого рода коррупциогенные дефекты «потенциально опасны, поскольку создают «законные» условия и предпосылки для коррупционных действий государственных служащих»143. А. В. Кудашкин и Т. Л. Козлов указывают, что «коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной властью – властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач, воинское должностное лицо и т. д.), имеющий полномочия и использующий их вопреки законным интересам общества и государства в своих личных интересах или в интересах иных лиц»144. По мнению А. А. Чистова, к основным условиям проявления коррупции в федеральных органах исполнительной власти относится «широта свободы административного усмотрения в действиях должностных лиц, позволяющая создавать административные барьеры»145.
Действительно, предоставленное субъекту право решать какие-либо вопросы организационно-управленческого или административно-хозяйственного характера по своему усмотрению создает саму возможность коррупционного поведения. «Чувствительные и коррупционноемкие решения принимаются чиновником, когда его деятельность не зарегламентирована, в режиме «по усмотрению»»146. К. И. Головщинский полагает, что коррупцию провоцируют два основных фактора: завышенные требования закона и дискреционные полномочия. При этом «если завышенные требования закона прямо способствуют вступлению в коррупционные отношения, то дискреционные полномочия создают питательную среду для того, чтобы проявилось коррупционное действие завышенных требований. Другими словами, различие между этими факторами коррупциогенности состоит в том, что, завышенные требования закона сами непосредственно вызывают коррупцию, а дискреционные полномочия представляют собой коррупциогенный фактор лишь тогда, когда они состоят в возможности выбора между применением завышенных требований закона и отказа от их применения»147. А. А. Малиновский рассматривает усмотрение как интеллектуально-волевую деятельность управомоченного лица по выбору субъективного права и способа его осуществления, совершаемую в целях удовлетворения своих потребностей (интересов). По его мнению, чем шире предоставленное субъекту усмотрение, тем многообразнее могут быть и различные злоупотребления правом148.
В этой связи многие авторы отмечают, что «необходимо постепенно избавляться от дискреционных полномочий должностных лиц, закрепленных в законодательстве. Данные полномочия дают возможность должностному лицу выбирать произвольно свое поведение, не ограничиваясь какими-либо критериями, прописанными в законе и при этом формально не нарушающими закон»149. А. В. Куракин также полагает, что для совершенствования реализации административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции необходимо сужать рамки необоснованного административного усмотрения150. В Большом юридическом словаре отмечается: «Особенно часто дискреционная власть осуществляется административными органами и судами, что означает на практике отказ от таких демократических принципов, как неприкосновенность личности, презумпция невиновности, влечет за собой нарушение установленной процедуры и т. п.»151.
Вместе с тем необходимо согласиться с тем, что «исполнительно-распорядительная деятельность, как и всякая иная публично-властная деятельность, невозможна без определенного пространства свободного усмотрения должностных лиц (административное усмотрение). Именно поэтому органы государственной власти обладают некоторыми дискреционными полномочиями, позволяющими действовать по усмотрению в зависимости от обстоятельств»152. Действительно, многие административные процедуры и решения невозможно автоматизировать таким образом, чтобы исключить возможность усмотрения исполнителя. Более того, наличие дискреционных полномочий в ряде случаев выступает необходимым условием принятия обоснованного и справедливого решения.
Под дискреционными полномочиями принято понимать законные полномочия, позволяющие должностному лицу действовать по собственному усмотрению в пределах определенных законом полномочий153. В словарях дискреционная власть (от фр. discrétionnaire – «зависящий от личного усмотрения») рассматривается как особые полномочия, предоставленные главе государства, правительства или иному высшему должностному лицу, дающие ему право действовать по собственному усмотрению, в частности в чрезвычайных обстоятельствах154. Согласно Энциклопедии юриста, дискреционная власть предполагает право должностного лица государства действовать по собственному усмотрению в определенных условиях и в рамках закона без предварительного решения иных государственных органов и должностных лиц (например, в условиях чрезвычайного положения). Правовая система любой страны предоставляет органам власти (в первую очередь исполнительной) некоторую свободу действий при принятии решений155.
Таким образом, наличие дискреционных полномочий предполагает свободу усмотрения уполномоченного лица в рамках определенных законом. При этом в качестве дефекта законодательного регулирования называются «необоснованно широкое усмотрение», «произвольное усмотрение», «усмотрение за рамками правовых норм». Иными словами, дискреционные полномочия становятся фактором, провоцирующим ненадлежащее (в том числе и коррупционное) поведение уполномоченного лица в том случае, когда нечетко определены его границы или отсутствуют критерии его применения.
Вопрос о допустимости и рамках правоприменительного усмотрения, достаточно широко обсуждается в юридической литературе. Некоторые авторы полагают, что усмотрение – следствие несовершенства законодательной техники, которое вступает в противоречие с принципом законности156. Другие отмечают, что полное устранение усмотрения и оценочных понятий не только невозможно, но в ряде случаев и нецелесообразно157.
Л. Н. Берг, анализируя различные подходы к пониманию усмотрения в правоприменительном процессе, выделяет три основные позиции158.
Согласно первому подходу (Д. Б. Абушенко, К. И. Комиссаров, А. П. Корнеев, О. А. Папкова), правоприменительное усмотрение представляет собой субъективное право выбора из возможных (законных) альтернатив.
Другая точка зрения основана на понимании усмотрения как выбора решения, основанного на субъективном восприятии обстоятельств дела и субъективном толковании правовых норм (Я. Зейкан, В. П. Казимирчук, В. Н. Кудрявцев).
Наконец, некоторые исследователи исходят из понимания усмотрения как специфического вида правоприменительной деятельности, который характеризуется интеллектуально-волевой направленностью на поиск оптимального решения по конкретному юридическому делу (В. Г. Антропов, А. Т. Боннер, Ю. П. Соловей).
Как нам представляется, понимание дискреционных полномочий как субъективного права лица (пусть даже права выбора из законных вариантов решения) не вполне соответствует сути данного явления. Должностное лицо, наделенное определенными полномочиями дискреционного характера не свободно в выборе того или иного решения, поскольку помимо рамок усмотрения оно должно руководствоваться определенными критериями принятия решения. Например, уголовным законодательством устанавливаются «вилки» наказаний за совершенное преступление, однако это предполагает не «субъективное право» судьи, а его обязанность назначить наказание с учетом всех обстоятельств дела (вины, личности подсудимого и т. п.). Собственно, любое властное полномочие не может интерпретироваться как право уполномоченного лица. Как справедливо отмечает Ю. А. Тихомиров, в публично-правовой сфере полномочие представляет собой неразрывное единство прав и обязанностей, своего рода «правообязанность», которую нельзя не реализовывать в публичных интересах (в случае отказа от реализации или неэффективного исполнения полномочий наступает ответственность)159. «Права и обязанности в данном случае – это единая категория, права одновременно являются и обязанностями»160. Собственно, по этим же причинам нам представляется неверным и подход к правоприменительному усмотрению как «выбору решения, основанного на субъективном восприятии обстоятельств дела и субъективном толковании правовых норм».
На наш взгляд, дискреционные полномочия должны рассматриваться как специфический вид правоприменительной деятельности. Еще в советской юридической литературе В. В. Лазарев отмечал, что закон всеобщ, а применение закона – творческая деятельность161. По мнению Ю. А. Тихомирова, усмотрение есть мотивированный выбор для принятия правомерных решений и совершения действий управомоченным субъектом в рамках его компетенции для выполнения поставленных задач162. О. А. Папкова определила усмотрение как урегулированный правовыми нормами, осуществляемый в процессуальной форме специфический вид правоприменительной деятельности, сущность которого заключается в предоставлении в соответствующих случаях полномочия самостоятельно разрешать спорный правовой вопрос на основе норм права, исходя из целей, преследуемых законодателем, принципов права и других общих положений закона, конкретных обстоятельств дела, а также начал разумности, добросовестности, справедливости и основ морали163.
30 сентября 2009 г. на факультете права Высшей школы экономики состоялся круглый стол «Властное усмотрение и право», организованный Институтом правовых исследований ГУ ВШЭ и факультетом права. В своем докладе Ю. Г. Арзамасов отметил, что проблема властного усмотрения заключается прежде всего в том, что, с одной стороны, без него нельзя обойтись, когда нужно оперативно принимать управленческое решение, связанное с подготовкой правоприменительного акта. С другой стороны, властное усмотрение может привести и к отрицательным для граждан (а в результате и для социума) негативным последствиям (коррупции, злоупотреблениям правом и т. п.)164. При этом автор полагает, что для лиц, занимающих высшие государственные должности, а также государственных и муниципальных служащих должен действовать принцип правового государства: «Дозволено только то, что разрешено законом!» Например, Ю. Г. Арзамасов предлагает в целях предотвращения коррупции внести изменения в Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, заменив, где это возможно, относительно определенные санкции на абсолютно определенные, чтобы у судей не было соблазна брать взятки, назначая преступникам и иным правонарушителям минимальное наказание. Данное предложение представляется нам спорным, поскольку такая «формальная определенность» фактически лишает суд возможности дифференцировать наказание в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В частности, на недопустимость такого правового регулирования неоднократно указывал и Конституционный Суд Российской Федерации.