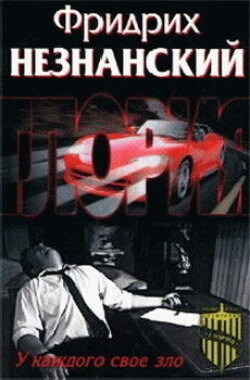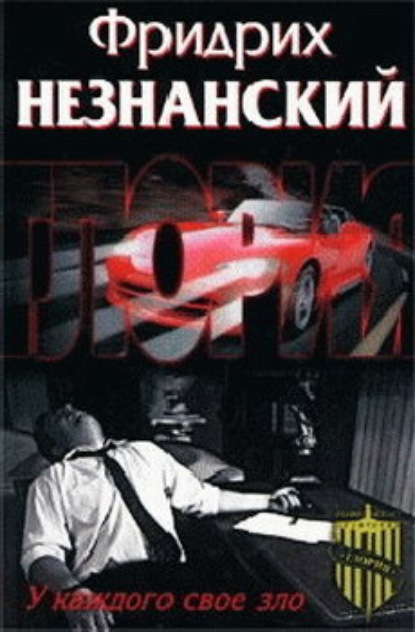Глава 1
Она позвонила в хорошо уже знакомую дверь, постояла немного в нервном ожидании. Все предыдущие разы на звонок выходила ухаживающая за больным стариком соседка по лестничной клетке – дневала и ночевала здесь, видно, боялась свой кусок наследства упустить, когда дед будет сандалии отбрасывать. Но дверь против обычного не открылась сразу – Алла успела даже подумать, не один ли сегодня старик вообще. Небось провалился в сон – после ее уколов ему только и остается, что дремать с утра до вечера, – а тут она. Алла живо представила, как сейчас старик, кляня визитера, с трудом поворачивается на правый бок, как, скрипя всеми ревматическими суставами, спускает ноги с постели, со своей роскошной екатерининской кровати под балдахином (сдуреть можно, какая кровать у старого маразматика!), и сует их в растоптанные тапочки, – одинокий старик, он и есть одинокий старик, хоть и живет среди антикварной роскоши, как в музее. И комнатка-то небольшая, а картин в ней! Особенно поражала ее воображение одна – она почему-то казалась ей самой дорогой – огромная, под стать кровати, в тяжеленной золотой раме. Какие-то солдаты, наполеоновские, что ли, вышли строем из-за бугра, за которым видна какая-то не наша речушка, черепичная деревня, мельница, коровы на далеком лугу. Солдаты в синих с красным мундирах, у всех белые кожаные перевязи через грудь, большие ружья со штыками, стоят плотно, плечом к плечу, а сбоку – генерал в эполетах, рука со стиснутой в ней белой перчаткой сейчас пойдет вверх. Все в ожидании врага, может быть, даже нашего Кутузова. Сейчас генерал отдаст команду – и вперед, в атаку! Другие картины у старика поменьше, есть просто рисуночки – карандашиком, перышком, она такие рядом с солдатами и вешать бы не стала. Хотя, странное дело, одну из этих маленьких картинок она даже как будто видела где-то: какой-то молодой человек с усиками, из дворян, наверное, в горской папахе и бурке… Но главное в этой квартирке у старика – книги. Как можно жить среди такого количества книг? От них здесь воздух сухой, пахнущий бумажной пылью… Мог бы, между прочим, половину продать, а на эти деньги приличной мебелью обзавестись. А то кровать под балдахином, с резными столбиками, а рядом, в смежной комнатушке – полки из чуть тронутых морилкой досок, только в середке между ними один путный со стеклянными дверцами шкаф. Да какой – красного дерева, старинный, как кровать. Вот там, в этом шкафу, книги – это да! Тут даже она понимает: в кожаных переплетах, с золотыми обрезами, с застежками, некоторые – сама видела – с шелковыми закладными лентами, свисающими через край…
Услышав наконец за дверью какие-то звуки, она прильнула ухом к ее окрашенной казенной коричневой краской холодной поверхности. «Ни в коем случае не вставайте, Антон Григорьевич!» – неожиданно расслышала она молодой женский голос. – Я сама! И тут же заскребло по металлу, звякнула упавшая цепочка – дверь открывали.
«Это не как ее… не Мария Олеговна, – подумала Алла, машинально поправляя под плащом ворот белого медицинского халата, – это кто-то еще объявился. Видать, кто-то сегодня подменяет…»
На пороге стояла стройная блондинка лет тридцати, и по каким-то неуловимым признакам Алла сразу догадалась, что это – дочка той самой Марии Олеговны, серьезной чистенькой бабки с поджатыми губами. Только та совсем простая, а эта, видать, штучка с фокусом. Мало того, что у нее была ухоженная кожа, а на голове очень недурственная укладочка, на ней еще было великолепное платье от Жана Бенатти («Не слабо, – подумала хорошо разбирающаяся в этой чепухе Алла. – Напялить среди бела дня такую дорогущую шмотку, и для чего – чтобы горшки за старичком выносить!») да плюс ко всему от нее исходил тонкий аромат диоровских духов… Интересно, где эта жучка вкалывает, что может себе такое позволить? По вечерам на Тверской? Да вроде нет, не похоже… Нет, не похоже, уже уверенно подумала Алла, встретившись с блондинкой глазами. И подумала также, что, пожалуй, ошиблась, дав ей тридцатник – по глазам дамочке как минимум лет на пять побольше…
– Вы медсестра, к Антону Григорьевичу, да? – спросила тем временем «жучка». – Вас, кажется, Алла зовут? Раздевайтесь. – Она показала на вешалку и, дождавшись, когда Алла повесит свой плащ, добавила, пропуская ее в комнату больного: – Проходите, пожалуйста.
– Кто там, Мариша? – слабо спросил больной, не открывая глаз – видно, и впрямь еще не проснулся. – Это не Ярик пришел? Ярик грозился сегодня приехать, я с ним разговаривал утром…
«Ярик – это дедов племянник Ярослав, – догадалась Алла. Раскрывая сумочку, где у нее лежало все необходимое, она еще раз исподволь бросила взгляд на блондинку. – Бухгалтерша, что ли, какая-нибудь? – подумала она мимолетно. – А может, эта… журналистка – ишь, расфуфырилась-то…»
Та, видно, почувствовала ее взгляд, спросила, с видимым сожалением отрываясь от своего блокнота:
– Вам что-нибудь нужно? Может, помочь чем-нибудь?
– Ой, да что вы! – Алла была сама вежливость, хотя про себя подумала: «Только твоей помощи мне и не хватало!» И еще подумала: «Это небось бабка велела ей проследить за мной, не иначе!»
И тут же убедилась, что ошиблась, потому что блондинка Марина вдруг решительно встала со своего диванчика и сказала, не отрывая глаз от бумажек:
– Если я вам не нужна – я лучше пойду на кухню, не буду мешать. А вы, если что – сразу зовите. Хорошо?
– Хорошо, хорошо, – заверила ее Алла, решительно подходя к роскошному лежбищу Антона Григорьевича уже со шприцем в руках.
– Ну, здравствуйте, здравствуйте, Аллочка! – радостно сказал старик, приподнимаясь ей навстречу на локтях; весь сон разом слетел с него – Алла видела, что он действительно рад ей.
– Мне даже неудобно: вы меня вон как встречаете, а я такая на самом деле бяка! – Аллочка делала свое дело и привычно чирикала, как принято у медсестер, когда они не покрикивают на больных. – Видите, опять я вас разбудила, Антон Григорьевич! Я бы и рада приезжать к вам попозже, но у меня столько вызовов! И туда надо съездить, и сюда, и все на своих ногах – машин-то нам никто, сами понимаете, не дает…
– Да что вы такое говорите, Аллочка! – Чувствовалось, он рад и ее словам, и ее кокетству, и что он, воспринимая это кокетство как некую необходимую для дела игру, готов ее и понять, и поддержать. – Что значит – вы меня разбудили, если я вам, честное слово, так рад! Вы фея, ей-богу, фея, мой ангел-избавитель, а вы говорите – бяка! Фу, слово-то какое нашла! – Он на мгновение замолчал, прислушиваясь к себе – не рано ли обрадовался, не заломило ли все же где-нибудь.
Да, эта Алла была молодец, честное слово – он даже не почувствовал укола…
– Ну, вот и все, – весело сообщила она, снова пряча шприц и все остальное в специальный несессерчик. – Ждите меня, Антон Григорьевич, завтра, в это же время. Хорошо? Вы уж правда простите меня, что пришлось не вовремя вас сегодня потревожить.
– Да ну что вы, Аллочка, господь с вами! Какая там тревога, какое беспокойство! Вы лучше скажите, только честно, как мои дела, а? – Он даже опять сделал такое движение, словно собирался приподняться ей навстречу.
– Это что вы такое придумали, Антон Григорьевич! – строго остановила больного Алла. – Вам сейчас ни в коем случае двигаться нельзя, пока укольчик не рассосется. Ни вставать нельзя, ни беспокоиться, – добавила она многозначительно. – А вообще-то зря вы так волнуетесь. Ничего у вас страшного, обычные для вашего возраста ревматические явления. Курс лечения назначен вам вполне своевременно, так что… – Она на секунду задумалась, а потом вдруг предложила: – А давайте-ка я вас послушаю, а? Хотя я, как говорится, всего лишь простая медсестра, тем не менее опыт у меня уже ого-го какой! Со мной иногда даже лечащие врачи советуются…
Она запустила руки в свою вроде и небольшую, но, кажется, совершенно бездонную сумочку и извлекла из нее на этот раз новенький стетоскоп.
– Ну вот, ну вот, – говорила она через полминуты, прикладывая блестящую мембранку к худой старческой груди, – что и требовалось доказать. Шумов лишних никаких нет, сердце работает как часы, Антон Григорьевич, так что вы еще побегаете, побегаете! И запомните: у вас самый тривиальный ревматизм, что в вашем возрасте дело обычное. Конечно, ревматизм штука такая… От него даже митральный клапан может пострадать, но тут уж все от вас зависит. Ну, от вина, женщин и прочих… легкомысленных возбудителей придется, увы, отказаться. – Она рассмеялась, а взгляд ее при этом прокурорски задержался на журнальном столике возле постели. Она взяла стоящую на нем фаянсовую кружку, заглянула внутрь, понюхала. – Шутки шутками, Антон Григорьевич, а вот кофе обязательно следует исключить.
– Кофе – это да… Виноват, Аллочка…Понимаю, что вредно, но, знаете, привык. Другой раз в последнее время так трудно просыпаться… Сегодня, например, открыл глаза, а голова – как не моя. Все в тумане. Да и с памятью не то что-то… А как кофейку крепкого выпью – так вроде и получше… Да я и всего-то чашечку, Алла, неужели мне хотя бы этого нельзя иногда себе позволить?
– Чашечку? – переспросила Алла, тыча пальцем с массивным золотым колечком в сторону поллитровой фаянсовой кружки. – Вот эту бадейку вы называете чашечкой?! Знаете, Антон Григорьевич, я просто обязана буду доложить обо всем вашему лечащему врачу. Думаю, он отменит мои визиты. Какой смысл в наших уколах, если вы так себя ведете? Нам до завершения курса всего ничего, а вы… Или, может, вы хотите в больницу?
– Не приведи господь! – замахал на нее руками больной.
– Ну вот, видите, – мягко сказала Алла, – не хотите. Значит, слушайтесь меня, и все будет хорошо. Курс завершите – станете как огурчик, хоть жени вас. И ревматизм ваш пройдет – если, конечно, будете слушаться, – снова повторила она, строго сводя брови.
– А вы сами-то замужем, Алла? – как-то не совсем по делу спросил вдруг больной. – Небось учитесь сейчас, врачом хотите стать? Послушайте меня, старика. Выходите вы замуж, пока молодая, свежая, пока охота есть. А опоздаете… Потом, знаете, как-то все это меняется, становится совсем все иначе – на себе проверил… А хотите, я вас познакомлю с одним… кавалером? Сейчас вот придет мой племянник Ярослав… Красивое имя – Ярослав, правда? Думаю, он вам вполне может понравиться…
– Что вы такое опять говорите, Антон Григорьевич! – Алла даже руками всплеснула укоризненно, хотя он видел по ее глазам, что это неожиданное предложение вызвало в ней какой-то интерес – тут его старый наметанный глаз ошибиться не мог: возник, возник интерес. Но она завершила все так же строго: – Давайте не будем говорить о посторонних вещах!
Старик словно не слышал ее.
– Какая же вы красивая, Аллочка… особенно когда сердитесь. – Краснов невинно улыбнулся и словно бы ненароком погладил ее по обнаженному запястью. – Ей-богу, ваша красота лечит меня лучше всяких уколов!
– Ну да, ну да, – засмеялась Алла. – Это вы, наверно, телевизора насмотрелись – там только и слышишь: красота спасет мир, красота спасет мир… Эх, если бы это было так, мы бы и хворей не знали, Антон Григорьевич! – Она деликатно, но твердо отстранилась от его прикосновения. – Вон у вас сколько тут красоты всякой, – повела она освободившейся рукой, – а вы все равно болеете… У вас тут прямо как в музее. Кровать эта… Картины… На кровати-то, поди, какая-нибудь Екатерина спала?
Антону Григорьевичу, похоже, этот ее интерес к вещам, которые его окружали, был словно елей по сердцу.
– Да нет, – лукаво ответил он, – Екатерина не спала. Вернее, спала Екатерина, да не та. Эта кровать – из городской усадьбы Дашковых, что ли… Да и картины эти… По большей части все это так, бутафория… А вот картинки – маленькие, как моя соседка Марья Олеговна говорит, – это да, это ценность. Вон, видите рисунки? Это Пикассо. Если верить первому владельцу – был, знаете, во время оно один писатель, от которого даже книжек не осталось, – так эти картинки перепали ему за сущие гроши. Дороже всего из того, что висит на этой вот стенке – вы не поверите, – вон та акварелька. Вон, видите, офицер в бурке и папахе. Это, знаете ли, рисунок самого Михаила Юрьевича…
– Какого Михаила Юрьевича? – глупо спросила Алла, глядя на ту самую картинку, которая давеча почему-то показалась ей такой знакомой.
– А Лермонтов, Аллочка. Который «Белеет парус одинокий…» Проходили в школе? «Герой нашего времени», «Мцыри», «Бородино»… Я охотился за одной из первых публикаций «Героя» – по слухам, с пометками аж Николая Первого, а получил вот эту замечательную акварель… Жизнь нашего брата, коллекционера, сложная штука, милая барышня. А вообще-то, чтобы вам было хоть немного понятно, для меня вся эта красота на стенах не стоит и сотой части книжек, что стоят вот здесь, в красном шкафу… Вон, видите, огромная, кожаная? Это Библия Гутенберга – был такой самый-самый первый первопечатник на земном шаре… Ее нашли на развалинах разбомбленного Дрездена – чудом уцелела. Горела во время налета англо-американской авиации, многие страницы в ней сохранились лишь наполовину, на одной из крышек расписался чем-то острым наш солдат – зафиксировал тот факт, что дошел до логова зверя… А все равно этой книге цены нет. И вообще, каждая книга в моей коллекции – целый роман. За каждой – судьбы, трагедии, жизни…
– А мне показалось, – заметила внимательно слушавшая его все это время Алла, – что у вас там, в шкафу, только книжки о птицах…
Старик пытливо посмотрел на нее. Надо же, вроде и ходила-то к нему всего ничего: сделала укол – да и пошла, а вот надо же – сумела что-то и в шкафу разглядеть. Когда? Неужели успела порыться, пока он был в беспамятстве? Вряд ли, конечно же, просто по тиснению на корешках догадалась. Только слепой не сообразил бы… Он успокоился. Нет-нет, он не может вот так, по-стариковски, давать волю подозрительности. Как скупой рыцарь какой-нибудь, честное слово…
– Нет, это не так, хотя, вообще-то, есть в этом заветном шкафу целая полка книг о птицах и о животных. Их еще отец мой, царствие ему небесное, собирал, а я лишь по мере сил дополнил.
– Ой, это, наверное, так интересно – коллекционировать, да? – спросила Алла, глаза ее светились жадным любопытством.
– Это не то слово, – вздохнул Антон Григорьевич. – Для меня книги – вся моя жизнь. Я даже не думал никогда, что это может оказаться такой сильной страстью, которая заменит все: и личную жизнь, да-да, и карьеру, и всякое иное счастье. Видно, во мне эта зараза уже сидела, передалась от отца. Я и всего-то хотел немного продолжить его дело – он, как я уже сказал, всю жизнь собирал редкие книги о птицах и животных… Он, знаете, был из торговой семьи, хоть и инженер, раньше такое бывало, и всю жизнь подражал кому-то – в хорошем, я считаю, смысле. Морозову, например, Мамонтову. Мечтал быть, так сказать, благородным собирателем. А потом, когда все перевернулось, он сделался как бы хранителем их заветов, хотя и время было уже не то, да и средства, сами понимаете. Да и вообще – кому они, казалось бы, нужны, эти книги, когда люди гибнут миллионами… Такой, знаете, был век – сплошные катаклизмы… Сначала массовая высылка интеллигенции из столиц, потом вообще – тридцать седьмой, потом война, особенно блокада Ленинграда – ах, какие ценности можно было приобретать – вы не поверите! – за краюшку хлеба. За хлеб, за пачку папирос… А вообще, все эти годы знаете кому лучше всего было бы коллекционировать антиквариат – всякий, любой? Следователям НКВД, КГБ. Одна беда: народ это был по большей части дикий, полуграмотный, в искусстве мало что понимающий. Вот читали, наверно, в газетах про папку рисунков знаменитого художника Дюрера, изъятую из какого-то там немецкого Кунстхалле? Про папку, которую запросто привез в качестве трофея не то бывший капитан, не то лейтенант, не помню уж. Вы что думаете, это был армейский капитан? Да ничего подобного! Тот не всегда и привезти что-нибудь мог, хотя тогда трофеи растаскивали эшелонами. Ну, платьишко жене, аккордеон. А! – Антон Григорьевич махнул рукой. – Это был, конечно, доблестный чекист, особист – холодное сердце, горячие руки… Но вообще-то вы правы, Аллочка, – прервал он вдруг свой затянувшийся монолог, – коллекционировать замечательно интересно. – Было заметно, что он уже устал от разговоров. – Вот я просто вам рассказываю об этом, а сам чувствую, что выздоравливаю.
– Мне бы тоже, наверно, надо было заняться каким-нибудь коллекционированием, – кокетливо сказала Алла. – Да только вот у меня ни времени, ни, конечно же, денег…
– Не надо, Аллочка! Лучше просто живите, наслаждайтесь жизнью, пока молоды, здоровы! Знаете, молодой красивой женщине, как вы, многое дается просто так, за то, что она красивая. – И рассмеялся сам этому выводу: – Надо же, с чего начал и чем кончил.
Алла засмеялась следом за ним. Потом, почему-то вздохнув, сунула в сумочку стетоскоп, решительно шагнула к двери.
– Ужас как я у вас засиделась! И все-таки до свидания, Антон Григорьевич. До завтра.
– До завтра, – все еще продолжая улыбаться, сказал он и снова крикнул на кухню: – Мариночка, проводи, пожалуйста, нашу гостью!
«Ишь ты, гостью!» – подумала Алла, когда дверь за ней захлопнулась и снова послышался скрежет – теперь уже закрываемых замков.
Марина сидела на кухне, как на иголках: она пыталась работать, но работа не шла – она ждала звонка Николая, человека, от которого зависела теперь вся ее жизнь, все ее надежды на будущее. Она дала ему на всякий случай и телефон дяди Антона, но что, если он не сообразит и будет звонить ей в их с матерью квартиру – такие недоразумения чаще всего и случаются, когда у тебя, кажется, все начинает идти на лад. И мать что-то, как на грех, задерживалась.
Неправильно было бы сказать, что, сидя на кухне, Марина совсем не слышала, что происходит в комнате. До нее доносились и кокетливые вздохи Антона Григорьевича, и русалочьи смешки Аллочки, которая сразу ей не понравилась быстрым, оценивающим, все замечающим, каким-то всезнающим взглядом. Трудно определять, чем именно не понравился тебе человек, которого ты видишь впервые в жизни. Вернее всего, и она этой стерве в белом халате не понравилась – уж ей ли, женщине, этого не почувствовать. Но еще больше создали ей дискомфорт слова Антона Григорьевича о том, что должен подойти Ярослав. Словно какая-то ревность кольнула ее. Давно ли все носились с этим мальчиком – как же, будущее математическое светило, компьютерщик. Теперь этот милый мальчик стал наркоманом, и мало того – редкой сволочью, считающей, что все ему что-то задолжали. Хотя, впрочем, что ей-то с того? Ярослав дяде Антону родной племянник, а кто дяде Антону она? Так, соседская девочка, прислугина дочка… Господи, да с какой стати она в ней заговорила – эта ревность? Какое ей дело до какого-то оболтуса, с его то сонными, то неестественно блестящими глазами! Конечно, дядя Антон ей совсем не чужой человек, хоть и не родной, однако это вовсе не значит, что эти ее чувства к дяде Антону должны распространяться и на Ярослава, Ярика, чтобы ему неладно было.
Марина вернулась в комнату больного, быстрым, но внимательным взглядом окинула ее – словно раздражение против Ярослава распространилось и на только что отбывшую медсестру; Марина будто бессознательно проверяла, все ли на месте. Все было на месте, и Марина заботливо поправила на Антоне Григорьевиче одеяло, упакованное в цветастый веселенький пододеяльник.
Старик лежал, устало прикрыв глаза, и что он не спит, она поняла только по тому, как он легонько пожал ее заботливо поправляющую одеяло руку.
– Ничего, дядя Антон, если я вас одного оставляю? – спросила она. – А то мне материал готовить в завтрашний номер, а я не могу сосредоточиться. И мама все никак не вернется… Я на кухне буду, слышите, дядя Антон? Если что – сразу кричите, ладно? Я тут же и прибегу, как Сивка-бурка.
– Да что ты, Манечка, что ты, – назвал он ее вдруг так, как звал в детстве, когда она ходила в первые классы школы. – И без того тебе огромное спасибо, что побеспокоилась о старике… Да и зачем мне нянька-то? Ты же слышала, что эта сестричка сказала, – нет у меня ничего страшного, так – возрастной ревматизм…
– Слышала, слышала! – охотно отозвалась Марина. – Я только не согласна с ней, что это такая уж безопасная вещь – ревматизм. Я читала, что это все равно сердечное заболевание, так что вы уж поаккуратнее здесь, ладно?
Хотя Марина оставила его одного, Антон Григорьевич вовсе не чувствовал себя одиноким – его окружали любимые вещи: тарелка Пикассо с голубем мира, акварель Лермонтова… даже небольшой набросок маслом Брака, мрачно-символичного немца, которого он, вообще-то, не любил, и тот был сейчас дорог его сердцу, как были дороги и любимые им и совершенно ему недоступные Модильяни и Эль-Греко… А ведь у него были еще книги, и хотя не ему принадлежала та самая папка с листами Дюрера, о которой он вспомнил, был Дюрер и у него, были авторские оттиски гравюр Доре, которые так приятно рассматривать в мелких деталях, дивясь жизнелюбию и сочному юмору этого своеобразного художника – так можно было разглядывать часами разве что одного Босха… И было не меньшее его сокровище -книги. Конечно, он не мог читать мысли и не знал, что Алла изумлялась тому, как можно в столь крохотной квартире существовать в окружении такого огромного количества книг. О, это может понять только настоящий фанатик – как прекрасен аромат книжной бумаги, книжной пыли, этот ни с чем не сравнимый аромат мудрости человечества.
Книги давали ему возможность жить необыкновенно насыщенной внутренней жизнью. Взять хотя бы, к примеру, одно то, что, глядя на свою библиотеку, он всякий раз испытывал какое-то… щемящее чувство вины. Оно было странное, это чувство, похожее на внезапное воспоминание о каком-нибудь неправильном поступке, совершенном в далеком прошлом, в молодости. Сделал тогда что-то не так – из осторожности, из трусости, бог знает почему еще, и никогда уже ничего не исправишь, так и будешь жить с вечно сидящим в тебе чувством вины. И не то чтобы она постоянно мучит тебя, а так вдруг – пронзит внезапно, как боль, как симптом какой-то беды, от которой нет никакого спасения… Не зря, не зря он сегодня говорил Алле про следователей НКВД – КГБ. Проблема вся была в том, что добрую половину своей коллекции он приобрел… – как бы это помягче сказать – не совсем нравственным, что ли, путем. Были то главным образом предметы, доставшиеся ему по прежней его работе в органах – что-то можно было законно приобрести из конфискованного имущества, что-то приходило к нему в качестве подношений – кто заискивал, кто откупался. Пылающая в Антоне Григорьевиче страсть не позволяла считать эти подношения взятками. Были у него – стыдно сказать – даже книги, украденные из библиотек, были картины, да вот хоть тот же Лермонтов, попавшие к нему после первой чеченской кампании – безумная страсть коллекционера заставляла не думать о том, какой след тянется за этим его приобретением, какой грязью и какой кровью он сдобрен, этот след. Один он знает историю каждой книги, каждой вещи в своей коллекции, и один он носит в себе стыд точно такой же жгучий, как и стыд за то, к чему причастен он был по молодости. Только, если честно – а кому, как не ему, старику на последнем пороге, не быть честным с собой, – только если честно, он давно уже не стыдился, а лишь спокойно прислушивался к прожигающим иногда душу позывам совести. И так же, как про те, теперь уже далекие времена, когда он, молодой и глупый следак, встречал в коридорах Лубянки то изуродованных бывших наркомов, то врачей-убийц, – он говорил себе: э, да что я мог тогда исправить? Как я мог поступить по-другому? В самом деле, если бы он тогда не изъял у глупого пехотного лейтенантика Гутенберга – где бы он сейчас был, этот знаменитый фолиант? Где был бы Доре? Висел бы в магистрате того маленького городка, откуда и был изъят – и тем спасен от уничтожения? Лежал бы в каком-нибудь бундесхранилище? Вряд ли! В той заварухе, если бы он не взял – взял бы кто-то еще, не взял бы кто-то еще – все сгорело бы, пропало под гусеницами танков, пошло на растопку – видел же он, молодой особист, роскошный беккеровский рояль с нацарапанным на крышке самым знаменитым российским словом из трех букв – хорошо вспорол штык победителя полированное дерево… Велик был российский воин-освободитель, но и дик до ужаса, не зря немцы воспринимали нас точно так же, как некогда киевские русичи воспринимали диких ордынцев. А впрочем, не ему на эту тему рассуждать – он сам русский, он сам такой же, только вот у него не страсть уничтожать, а страсть собирать – для себя. А все эти не совсем красивые истории, тревожащие иногда совесть – они ведь практически такие же, как у каждого, почитай, второго коллекционера. Зато когда он брал свои сокровища в руки, раскрывал, ощупывал скользящие между пальцами закладные ленточки или нежные листы папиросной бумаги, прикрывающие гравюры в старинных книгах и папках с рисунками, любовался своими картинами… О-о, когда он любовался своими картинами, – пусть даже какой-нибудь, на чей-то взгляд, формальной ерундой: как, например, блестит меч у браковского вестника смерти или пучится из-под первого снега зеленая еще трава на писанной гуашью крохотной картонке Серова (едва не самое большое его сокровище!) – его охватывало ни с каким опьянением на свете не сравнимое удовольствие, счастье, ощущение вечности своего бытия, небоязни смерти, ощущение кровной связи с теми, кто был до тебя и будет после (ведь будет же и после его смерти кто-то смотреть на все это!)… И какое уж в эти мгновения имело значение – как именно попали к нему все эти вещи! Как не пахнут деньги, так не прилипает мерзость жизни к настоящим произведениям искусства. И почему, скажем, книги, приносящие ему такую ни с чем не сравнимую радость, должны быть не у него дома, где он может хоть каждый день брать их в руки, разглядывать, бережно заботиться о них, а в какой-нибудь публичной… Ух, даже и слово-то какое!
Назовите это гордыней, манией, шизофренией – как угодно! Но все эти книги, все эти вещи, доставшиеся ему с таким трудом – даже отцова «птичья» коллекция, которую он в меру сил расширил и умножил, – будут пребывать у него, в его владении до тех пор, пока он находится в памяти и здравом рассудке! Точно так же считал в свое время и его покойный отец, уже тогда не обращавший никакого внимания на досужие разговоры о том, что все коллекционеры – психи и наполовину жулики…
Но что– то сегодняшний день уже утомил его. И снова, несмотря на Аллины обещания, ломило суставы. Когда же они начнут ему помогать, эти проклятые уколы! Бросив последний взгляд на плотно увешанную картинами стену, на стеллажи, на шкаф красного дерева, он нашел в себе силы еще раз счастливо улыбнуться своим сокровищам и спустя минуту-другую, когда в дверь позвонили, спал крепким, крепче не бывает, сном…
Марина подняла голову на этот звонок и, ни минуты не раздумывая, кто бы это мог быть, сразу догадалась: накаркала, призвала племянника Ярика. И впрямь это был он, тот самый Ярослав, о котором она совсем недавно думала с такой не очень ей самой понятной неприязнью. И, глядя на него сейчас, она лишний раз убеждалась, что совсем не на пустом месте выросла ее неприязнь к этому малому, хотя, в сущности, какое ей вроде бы до него дело! Кто-то, возможно, и назвал бы его симпатичным, но ей он был отвратителен. Лживость, безволие, захребетная сущность его натуры – вот что виделось ей во всей повадке этого племянничка, в неестественности, разболтанности всех его движений – словно вместо суставов у него везде были шарниры. И глаза… Неестественно темные, с огромными зрачками – то ли больные, то ли распаленные скрытым вожделением… Вообще-то странно – в прошлый раз он был какой-то сонный, словно заторможенный, словно в его мире время шло по крайней мере раза в два медленнее. А сегодня – совсем другой: суетливый, разговорчивый, хихикающий.
– О, привет, старуха, – нисколько не удивившись тому, что открывает именно она, сказал Ярик, с ходу беря такой тон, словно они были если не близкими родственниками, то уж ровесниками точно. Сопляк! – Слушай, – продолжил он свой ни с чем не сообразный текст, – а что дядьку мой? – Это он с некоторых пор так, почему-то на украинский манер, начал именовать Антона Григорьевича. – Дома? Никуда не сбежал? В больницу не лег еще, старый черт? А то он мне позвонил вдруг – проведай старика, племянничек, то да се… С какого, думаю, огурца? То сто лет про меня думать не думал, а тут – нате вам. – Неся всю эту околесицу, Ярослав снял куртку, повесил ее на вешалку, разулся, поискал глазами тапки, не нашел – тапки стояли в галошнице, обулся снова.
Словом, нельзя было смотреть на это без слез и раздражения. Почему, с какой стати она должна всем этим любоваться? У нее и своих проблем хватает. Вот она торчит здесь, с этим полоумным, а Николай там никак не может ей прозвониться… И Марина не выдержала.
– Антон Григорьевич! – крикнула она в комнату. – Тут Ярик пришел, так что я вас покину, хорошо?… А ты, – строго сказала она Ярославу, – дождись мою маму, не оставляй его одного, он только на уколах и держится, понял? Или, если не дождешься, позвони в нашу дверь – я выйду! Только не уходи просто так – замок не всегда снаружи защелкивается, мы его обычно ключом закрываем. Вообще-то мама вот-вот появится, ты понял или нет?
– Слушаюсь, товарищ командир! – кривясь в нелепой ухмылке, дурашливо расшаркался перед ней Ярослав и, не дожидаясь, когда она уйдет, ввалился в комнату больного. – Здорово, дядьку! – гаркнул он с ходу – точно так же глупо и громко, как гаркнул давеча ей.
Покачав головой, Марина шагнула за порог соседской квартиры, мимолетно подумав, что, наверно, не очень хорошо поступает, оставляя старика одного. Но в конце-то концов – племянник он деду или не племянник? И вообще, что уж такого там может случиться?
Дядька лежал на спине, как в гробу, желтый, кости лица выперли.
– Ну ты, дядьку, даешь! – сказал Ярослав, приближаясь к изголовью вплотную. И вздохнул с облегчением: вот здесь, впритык, было видно, что дядька таки жив, только пребывает в глубоком, каком-то бессознательном, по всему судя, сне.
Вообще– то у Ярослава было намерение попросить у дядьки взаймы -а иначе с чего бы он к нему поперся?! Ну, конечно, отдавать бы он ему не стал – с каких, собственно, шишей? Что он, работает, что ли? Магазин держит? А и не отдаст – ничего зазорного не будет: дядька и сам бы должен понимать, что раз его единственный племянник – человек еще молодой, значит, ему деньги нужны, много денег. Тем более что у племянника такая большая проблема – героиновая зависимость. Была б анаша какая или там «экстази» – он бы и слова не сказал, ну а «гера»… тут человек и сам бы должен понимать, не маленький. И вообще, хрен ли дядьке сидеть на этих своих сокровищах? Жизнь – она придумана для молодых, а дядька Антон – он старый уже, зачем ему коллекция? А ему, Ярославу, очень бы сгодилась, ему деньги нужны, много денег! И, главное, у него уже есть один урод, который предлагает за дедовы книжки хорошие бабки… Ну, не за все, конечно, за некоторые… Все – это дураком надо быть, чтобы все сразу продать. А вот так, понемногу – почему бы и нет? Очень даже замечательно!
- Мертвый сезон в агентстве «Глория»
- Меткий стрелок
- Репетиция убийства
- У каждого свое зло
- Конец фильма
- Кровавый чернозем
- Профессионалы
- Комфорт гарантируется
- Хочу увидеть океан
- Вкус денег
- Братва для полковника
- Гении исчезают по пятницам
- Имя заказчика неизвестно
- Ледяные страсти
- Незримая паутина
- Падший ангел
- Славянский кокаин
- Тройная игра
- Штрафной удар