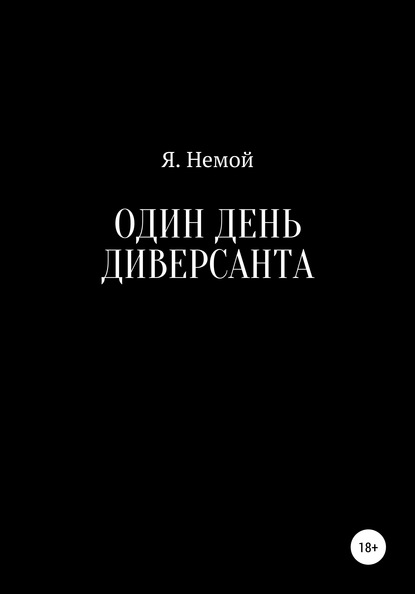Глава 1. 06 часов 00 минут
В шесть часов утра, как и всегда, зазвенел подъём в исправительном центре – громкая сирена у штаба администрации и напротив каждой трёхэтажки. Громкий звон наверно проходил сквозь стены и стёкла, чтобы разбудить каждого исправленца. Спустя минуту сирена замолкла. За окном была темень, только белые фонари освещения периметра и локального сектора проникали через окна в отряд.
Гозберг быстро сбегал в туалет и вернулся на свою кровать. Местные петухи, конечно, молодцы, так как к шести утра отрядный туалет уже был чистый и прибранный. Это, естественно, происходит не без участия ночного дневального, который гонял их всю ночь, чтобы к утру в отряде была чистота. В нашем отряде всегда порядок, завхоз отряда Тимошенко за этим хорошо смотрит, иногда за разведённый срач, он может и рукоприкладством заняться.
Гозберг никогда просто так не просыпал подъём и всегда вставал вовремя. До развода на работу есть время, когда можно было послушать и поглядеть, чем занимаются исправленцы. С самого раннего утра исправленческая жизнь кипит – кто-то пришивает двойные карманы, кто-то ищет бумагу для левых писем, кто-то, если нет администрации, продолжает спать. Шестёрки прислуживают богатым, подавая одежду и обувь из сушилки, чтобы те в носках не ходили, или собирают посуду у тех же богатых и относят её в столовую.
Шестёрки отличаются от петухов только тем, что по жизни у них всё ровно, не замарались, поэтому им разрешено немного больше, чем петухам. Они заправляют спальные места богатых, подметают и моют пол возле их спальных мест. Особенно преданные людишки бегают в каптёрку за личными вещами богатеев и доедают то, что они не доели. Таких охотников много и от них отбоя нет, они «вылизывают чашки, кружки и ложки», что порой самому трудно удержаться, глядя на это.
Гозберг давно помнил слова одного старого исправленца, отсидевшего десять лет, о том, что закон здесь – это внутренняя природа каждого человека, рано или поздно сдохнут те, кто из чашек богатых доедает, кто в медсанчасти отлёживается и кто в оперативный отдел исправительного центра бегает. Ну на счёт оперов это он лишнего сказал конечно, Гозберг точно знал, что там шкуру не портят, а за счёт чужой крови ты там будешь, как за каменной стеной.
Сегодня Гозберг не торопился вставать с кровати. Во-первых, он не хотел идти на работу, делая вид, что заболел, а во-вторых, сегодня у него должна быть встреча с одним человеком, который периодически ему помогает в решении всевозможных проблем.
Гозберг лежал на кровати и делал вид, что его знобит и ломает. Он даже вошёл в роль, что точно заболел и укрылся полностью одеялом, периодически кашляя, причём как можно громче. Иногда он высовывался из-под одеяла и смотрел в окно, на котором был иней и немного наледи, и убеждал себя в том, что точно заболел, всё-таки в Декабрьске зима.
Гозберг лежал, накрывшись с головой одеялом и слушал, что происходит в отряде, иногда незаметно выглядывая из-под одеяла. Ага, кто-то петухов обвиняет, что сломался бачок на унитазе и не смогли дерьмо смыть. Кто-то в сушилке материться, что не может найти свои ботинки. Бригадир ругается на нарядчиков, которые до сих-пор не определились, где сегодня будет работать 58-я бригада. А-а, точно, сегодня же решается вопрос, где мы будем работать, или на уже привычных очистных сооружениях, или нас отправят на строительство нового завода по переработке и утилизации отходов.
Бригадир не зря ругается на нарядчиков, они всегда всё в последний момент говорят, а он так не любит. Ему надо с вечера знать где его люди будут работать, он только после подписи директора на разнарядке успокаивается, а вчера он её не видел. Он к ним каждый день ходит, сало и курево носит, чтобы не попасть на строительство завода по переработке отходов. Бригадир наш молодец – всегда пытается решить этот вопрос и лохов каких-нибудь туда отправить, естественно не бесплатно, но не всегда получается так, как хочется.
Честно говоря, основной массе исправленцев, родившейся и выросшей берегу тёплого моря, здесь очень холодно, для них минус десять – это сущий ад, ад во всех смыслах этого слова. На стройке мусорного завода даже греться негде, хоть костёр разводи, да нечем, завод в чистом поле, зима и город Декабрьск. Там одно спасение – работай с утра до ночи и не замёрзнешь, а исправленцы с юга к этому не привычные.
Бригадир бригадиром, а у Гозберга сегодня по плану закосить через медсанчасть, заболеть и минимум неделю не работать, ну не любит он работать, даже сейчас у него всё тело ломит. Где же эти режимники, когда они уже пойдут нас смотреть, что мы выполнили команду «подъём»?
Так, а кто у нас сегодня на смене? Точно, режимник Великанов. Толстый голубоглазый прапорщик, на которого страшно глядеть, но он и самый добрый из всех, кто там есть. Великанов нас в изолятор не садит, в отдел режима не таскает и не бьёт, в общем как режимник, он слабый. Короче, пока ещё можно валяться на кровати.
Кровать Гозберга затряслась, так как начали вставать его соседи – Гришка, который буддист и Шаманский. О, а чего петухи там начали орать? А-а, опять спорят, чья теперь очередь туалеты мыть, их послушаешь, так как будто бабы на базаре разговаривают. Кто-то не выдержал их петушиного базара и запустил в них ботинок, попал. О, второй полетел, попал, ну сейчас точно помирятся, а то по шее получат от мужиков за свои визги. Всё как обычно, теперь оба туалет чистят и не ссорятся, ничего в исправительном центре не меняется. Гозберг всё лежал и лежал на кровати, тщательно имитируя озноб и ломоту во всём теле.
– Ну что исправленцы, на улице минус двадцать! – на весь отряд крикнул Шаманский, который ходил курить в локальный сектор трёхэтажки.
Услышав эту новость, Гришка буддист даже прекратил молиться своему Богу, а Гозберг твёрдо решил сегодня идти в медсанчасть. Через минуту кто-то сдёрнул с Гозберга одеяло, и он увидел прапорщика Алексеева. Ёлки палки, значит не Великанов сегодня на смене, значит подменились, вот чёрт, прокрался тихо в отряд и даже Шаманский его не заметил, а может и видел, но промолчал скотина.
Алексеев самый противный в отделе режима, худой как смерть, надо признать и незаметный, как всегда. Народ, увидев Алексеева, сразу начал суетиться, одеваться, все слезли с кроватей и пошли кто куда, в туалет, в коридор, в локальный сектор.
– Гозберг, почему ещё спишь? Команда «подъём» для всех вроде была? Неделя изолятора тебе светит за нарушение правил внутреннего распорядка.
– Гражданин начальник, заболел я, ломит всего и морозит. – ответил Гозберг хриплым и жалостливым голосом.
– Ничего не знаю, команду «подъём» не выполнил, значит идём в штаб разбираться, факт нарушения на лицо, а это изолятор. – строго и громко сказал Алексеев, чтобы все услышали в отряде.
Прапорщик Алексеев начал внимательно смотреть по сторонам в поисках ещё нескольких нарушителей, но все уже свалили от возможных проблем, чтобы лишний раз не связываться с режимным отделом. Гозберг для вида пытался избежать наказания, но знал, что это бесполезно, да это и не нужно было. Он специально ждал этого момента, чтобы под благовидным предлогом оказаться в штабе. Гозберг быстро оделся и пошёл вслед за Алексеевым в отдел режима. Исправленцы молча проводили Гозберга и Алексеева и естественно среди них «адвокатов» не нашлось, чтобы идти поперёк администрации.
Гозберг шёл вслед за Алексеевым, скрипя своими новыми зимними ботинками по снегу. Гозберг не любил зиму в принципе, так как до исправительного центра он её попросту не видел. Центр уже ожил как муравейник, исправленцы бегали туда и сюда, кто в штаб, кто из штаба, кто на работу, кто в столовую. Если бы не фонари периметра и отрядов, а также везде снующие исправленцы, можно было бы подумать, что ещё ночь.
Глядя на то, как одеты зимой исправленцы, Гозберг давно уже научился распознавать местных от южан, таких как он. Южане полностью закутываются в шарфы, поднимают воротники и всегда в рукавичках, а местные в такую погоду вообще не мёрзнут. Местные всегда в одних штанах, руки голые, воротник расстёгнут, им становится холодно только ниже минус сорока.
Прапорщик Алексеев тоже местный, ему дай волю, он бы в фуражке ходил и в осенней куртке, но по уставу зимой положено носить зимнюю форму одежды. Гозберг каждую зиму думал о том, как местные вообще привыкли здесь жить, где полгода морозы, а полгода местами оттепель. Если и есть на земле ад, то это явно не сковороды с маслом на кострах, это однозначно местная русская зима.
– Потеплело. – сказал на ходу Алексеев.
Гозберг посмотрел на большой электронный градусник, находящийся над окнами дежурной части штаба, который показывал красной бегущей строкой минус девятнадцать. Ну-ну, подумал Гозберг, потеплело, да как же потеплело, если всё вокруг обледенело и в инее, по мне так вообще все минус тридцать на улице. Лучше бы, конечно, минус сорок пять, тогда на работу хоть никого не выводят, думал Гозберг, подходя к крыльцу штаба.
Алексеев и Гозберг зашли в штаб.
– Тебе прямо по коридору. – не оборачиваясь сказал Алексеев и свернул на право в дежурную часть.
Гозберг оглянулся назад и быстро пошёл по коридору к самой последней двери с табличкой «Оперативный отдел. Ковалёв А. С.». Гозберг был здесь как у себя дома и без стука зашёл в кабинет, так как знал, что его уже ждут.
– Здравствуйте Антон Сергеевич, рад видеть. – Гозберг поприветствовал старшего оперуполномоченного оперативного отдела капитана Ковалёва.
– Привет, привет Солохон Абрамович, как дела, что нового? – сказал Ковалёв, встал и закрыл дверь кабинета на замок.
– Много чего нового, много, исправленцы же как дети, постоянно что-то шкодят, что-то мутят, всё хотят мимо администрации проскочить, но тёмные силы оперативного отдела всегда на стороже.
– За что и ценим тебя Солохон Абрамович. – сказал Ковалёв, потом включил свой планшет и начал запись агентурного сообщения в электронном деле агента № 001562 под псевдонимом «Ветров».
Ковалёв и Гозберг по своей сути были два сапога пара, поэтому для приличия, как обычно, обменялись любезностями и прощупали настроение друг друга. Гозберг был единственным агентом Ковалёва, которого он называл по имени и отчеству, причём заслуженно. Солохон Абрамович порой выдавал такую информацию по исправительному центру и исправленцам, что один раз в три месяца его лично вызывал сам начальник центра, естественно тоже под легендой, чтобы лично знать оперативную обстановку на объектах.
Ещё одной причиной вежливого общения было то, что электронный браслет на ноге постоянно записывал все разговоры и по зашифрованным каналам связи отправлял всю информацию в Управление «Ъ», которое находится в Москве. Гозберг знал про это, так как это было прописано в пункте № 9 контракта о сотрудничестве с оперативным отделом информационного центра.
С одной стороны, это было хорошо, так как у агента-исправленца есть гарантии, страховка и государственная программа защиты негласного сотрудника. С другой стороны, это было плохо, так как это ограничивало в возможностях заниматься преступной деятельностью в исправительном центре, для своих личных и корыстных нужд.
О том, что электронные браслеты записывают разговоры, знают все исправленцы, но со временем бдительность и осторожность ослабевают. Рыбий язык уходит на второй план, когда ты общаешься со своим другом, которым для многих является Солохон Абрамович. Прогресс шагнул вперёд, но принципы оперативной работы остались прежние, так как язык жестов глухонемых стали изучать все наповал, а бумага, карандаши, ручки и самоучители жестов глухонемых приравнивались к оружию и наркотикам.
Единственная официально разрешённая бумага была только у сигарет и для самокруток. От табака не уйти не при каких законах. Но не за горами времена, когда агентуру исправительных центров снабдят видеонаблюдением, встроенным в глаза, по крайней мере в искусственные, а в сигаретах вместо бумаги будет пластик. А пока всё по-старому – оперативник, агент, информация, реализация. Хотя, откровенно говоря, и с видео-глазами вряд ли что поменяется в оперативной работе исправительных центров.
– Ладно Солохон Абрамович, давай ближе к делу, что нового на оперативных просторах?
– Ну что нового, бригадир Хлебников носит дачки нарядчикам, чтобы лёгкие объекты давали, хочет на очистных постоянно работать, кстати вчера тоже относил, и бригада сегодня не пойдёт на строительство завода по переработке мусора.
– Кому конкретно, старшему?
– Нет, его помощнику по фамилии Доренко, тот за килограмм сала и сигареты на всё готов, хоть на луну наряд выпишет.
– Понятно, дальше что?
– Адамов сегодня будет за забор почту выносить, там у него около тридцати конвертов накопилось, так что можете его прямо перед выводом брать.
– Откуда бумаги столько?
– Корягин на неделе разжился школьными тетрадями и цветными карандашами, ему однозначно кто-то из администрации помогает, я думаю на сотрудниц комнаты выдачи посылок и передач, больно у него с ними тёплые отношения.
– Понятно, дальше.
– У Рыбакова появилась книга по жестам глухонемых, пока сам не понял откуда, но он её никому не даёт читать, наверно сначала сам изучит, а потом продаст.
– Размер книги какой?
– Чуть больше спичечного коробка, где-то пять на семь, в полиэтиленовом чехле её хранит, где конкретно прячет я не знаю.
– Интересно, интересно Солохон Абрамович.
– Терновский изучает узелковое письмо, нитки вытаскивает из одежды и тренируется, с чего читает я не знаю, но каждый день между ужином и отбоем постоянно лежит на кровати и вяжет эти узелки.
– Значит опять за своё взялся, значит мало ему двух изоляторов, понятно, что ещё интересного?
– Ну и самое главное, Шведов начал малолеток учить азбуке Морзе, они ему чай и курево несут, а он им в уши вкручивает по полной программе за ценности свободы и светлого будущего.
– Много народу к нему ходит учиться?
– Нет, пять или шесть человек, но если Шведова не изолировать, то количество желающих поучиться азбуке Морзе увеличится.
– Да-а, вот времена настали Солохон Абрамович, теперь в цене знания, давно ушедшие в историю.
– Ну а чего вы хотели Антон Сергеевич? В центре наверно видеокамер больше, чем исправленцев, дроны по периметру и в локалках летают, на работу сопровождают, на работе за всеми смотрят, а это помимо отдела режима, конвоя, ну и Вас соответственно.
– Время высоких технологий идёт неизбежно вперёд.
– Это верно, современная цензура работает на сто процентов, поэтому исправленцам и приходится возвращаться к старым методам общения между собой и с волей. Тут ваши прослушки, глушилки и прочие электронные средства контроля Антон Сергеевич бессильны. В цене теперь листок бумаги, карандаш и «ноги», кстати, что на счёт моей зарплаты, то есть премии?
– Всё нормально, ты же знаешь, что за успехи в оперативной работе премия один раз в квартал начисляется, так что не переживай, мы тебя не забыли. А что у нас с Павловым, ты смотришь за ним?
– Павлов не дурак, старается никуда не лезть, работает хорошо, не переживайте, он у меня на особом контроле.
– Ну и отлично, ещё есть информация?
– На сегодня это всё.
Гозберг чихнул и два раза подмигнул правым глазом Ковалёву, который, зная этот их секретный знак, достал ручку и листок бумаги. Гозберг написал: «Антон Сергеевич, мне бы откосить от работы, замолви словечко у нарядчиков». Ковалёв ответил: «Ты же знаешь, что от работы закосить нельзя, начальник за такие поблажки тут с любого шкуру снимет, если успеешь до развода, то в медсанчасть сходи, это если температура будет».
После этого Ковалёв быстро поджёг листок зажигалкой и сжёг его в пепельнице. Гозберг знал, что это было бесполезно, так как сейчас конец года и нужно было перевыполнить план, но попытка не пытка, а за спрос не бьют в нос.
– Антон Сергеевич, легенда сегодня какая?
– Скажешь, что просто избили, прапорщик Алексеев в курсе, там, где надо, слух запустит, отпустили тебя только по одной причине, так как к концу года нужно выполнить план строительства объектов, каждый исправленец на счету, а так как нарушение у тебя несерьёзное, то тебя и отпустили, понял?
– Понял. – сказал Гозберг и прихрамывая, держась за спину, вышел из кабинета с измученным лицом, естественно, как того требовала легенда.
Глава 2. 07 часов 00 минут
Гозберг торопился в столовую, так как нужно было успеть приложить руку к сканеру и пикнуть браслетом, чтобы не было нарушения правил внутреннего распорядка. Как опоздавший, он прошмыгнул через толпу и недовольное бурчание исправленцев, отметился ладонью на сканере при входе, пиликнул браслетом и зашёл в столовую.
Его отряд уже сидел за столами и неторопливо ел. Дневальные столовой разносили на разносах чашки с едой и аккуратно расставляли их на столы. Гозберг снял верхнюю одежду в гардеробе и не торопясь пошёл к своему отряду, поглядывая по сторонам на исправленцев и видеокамеры на потолке.
Он очень любил жаренные колбаски, которыми сегодня кормили. Проходя мимо уже накрытых столов, он незаметно, по одной, быстро «брал» колбаски из чашек и складывал их в карман куртки, в котором был, уже заранее приготовленный, полиэтиленовый пакетик. В общем, пока он шёл к своему столу, в кармане оказалось восемь колбасок. Неплохо, значит руки ещё всё помнят, значит не деградирую. Гозберг сел за стол и начал завтракать.
В столовой, как обычно, была жара, многие снимают куртки и сидят в футболках, администрация это разрешает, так как народ в исправительном центре разный и многонациональный, от субтропиков до крайнего севера. А кто-то, наоборот, принимает пищу в верхней одежде и таких администрация наказывает, так как это всё-таки не культурно.
Соответственно все едят по-разному, манеры завтракать разняться примерно от людоедов из Новой Зеландии до лордов из Лондона. В общем за одним столом кушают «какие вкусные мозги» и «ваша овсянка, сэр». Одни сплёвывают на пол, другие пользуются салфетками. Гозберг к этому давно привык и на такое разнообразие не обращал уже никакого внимания.
– О, а я думал тебя в изолятор посадили, хотел твой завтрак съесть. – удивлённо сказал Черноволин.
– Отпустили, сначала избили, а потом сказали, что если бы не годовой план строительства, то точно бы посадили в изолятор, но сейчас на счету каждый исправленец, каждая пара рук в дефиците, да и нарушение у меня несерьёзное было.
– Я так и подумал, поэтому стерёг твой завтрак, а то охотников на чужое в столовой много, мужики говорят, что опять крыса завелась, садятся за стол, а их кто-то уже опередил, то сосиски одной не хватает, то булочки нет.
– Ловить надо это козла да «тёмную» ему в отряде делать, чтобы неповадно было на чужой паёк зариться. – серьёзно сказал Гозберг, хотя знал, что Черноволин может за полминуты, до окончания приёма пищи, сожрать три таких порции случайно опоздавших исправленцев.
Сегодня кормили гороховым супом с копчёным мясом, гречневой кашей с двумя жареными колбасками, винегретом, клюквенным морсом и тремя кусочками хлеба. Гозберг посмотрел на часы, убедился, что времени ещё достаточно, и начал неторопливо есть. После такого мороза он смаковал горячую пищу, ел её медленно и с наслаждением.
Он незаметно косился по сторонам, выискивая ещё куски хлеба для своих карманных колбасок, а заодно смотрел на их недовольных владельцев. Гозберг любил эти полчаса во время приёма пищи, можно было подумать о чём-то своём, помечтать, расслабиться, никто тебя не торопит.
За столом все поели и пошли на выход. Гозберг посмотрел по сторонам и достал из кармана растворимый кофе в плёнке из-под пачки сигарет. Он его насыпал прямо себе в рот, примерно около трёх столовых ложек, и запил морсом. Потом достал из другого кармана ампулу с йодом, накапал несколько капель на кусок хлеба, съел и опять запил морсом.
Гозберг был намерен сегодня заболеть, и температуру необходимо было поднять любым, доступным, способом. Можно конечно было съесть грифель карандаша, но для исправительного центра он имел очень дорогую цену, и в эквиваленте денег, и в эквиваленте продолжительности суток в изоляторе.
Гозберг предпочитал только йод и кофе, в отличии от наркоманов, которые капают обычный канцелярский клей себе в нос и таким образом пытаются закосить от работы. Но Гозберг хорошо знал местных врачей, у которых на такие детские наркоманские уловки отличный нюх, а вот йод и кофе в желудке уже не унюхать. Гозберг встал, оделся и пошёл в медсанчасть.
На улице всё также было ещё темно, только прожектора направо и налево разрезали исправительный центр. Гозберг, даже не глядя на часы, знал, что скоро начнётся развод на работу. В исправительном центре много примет по которым можно определять который сейчас час, вплоть до минуты.
Третий отряд, который не работает за пределами исправительного центра, идёт навстречу в столовую. Старый библиотекарь идёт в свою электронную библиотеку центра, он, как всегда, радеет за проведение культурно-массовых мероприятий и каждый месяц устраивает день книги, естественно электронной. Шнырь заведующего столовой Сахаровича бежит с пакетом в дежурную часть, жратву младшим инспекторам отдела режима опять потащил, чтобы не крепили исправленцев, работающих в столовой.
Прапорщик Алексеев опять идёт по обходу, о, надо от него спрятаться, а то оформит за передвижение вне строя. Как Гозберг, второй раз за день, от него под оперативной легендой уйдёт? Исправленцы вокруг, сольют, как пить дать, что отпустил. Гозберг забежал за угол трёхэтажки и стал ждать, когда Алексеев пройдёт мимо.
Гозберг знал, что Алексеев принципиальный, он хоть и с операми вместе работает на одно дело, но свою режимную работу чётко знает. Он нарушителя никогда не пропустит и при возможности любого в изолятор посадит. Некоторые даже не обращают внимания на исправленцев, как будто слепые, но не Алексеев, от того его все и боятся. Для него правила внутреннего распорядка исправительного центра – это святое.
Гозберг подошёл к медсанчасти и вспомнил, что Эстонец из третьей локалки обещал ему триста граммов кубинского табака. Он вчера посылку получил, вот и начал продавать табак своим близким. Так, сейчас к нему пойти или потом? Дадут больничный или нет? Если дадут, то сразу пойду к Эстонцу, а если не дадут, то тогда я не успею к нему по-тихому сбегать, так как надо будет ещё и на развод успеть.
Эх, табак у Эстонца очень хороший, крепкий, чёрный, со вкусом чернослива. Гозберг закрутился на крыльце медсанчасти, но решил оставить Эстонца на вечер, так как за прилюдное опоздание на работу, его уже точно никто не отмажет от изолятора.
В медсанчасти, как всегда, чистота и порядок, всё что здесь может быть, всё абсолютно белое. Гозберг, как мог, вытер свои ботинки, сдал верхнюю одежду в гардероб, одел бахилы, чтобы не замарать пол и не получить лишнее замечание от медицинского персонала, и пошёл к дежурному врачу. Народу в медсанчасти мало, пара исправленцев сидят ждут, судя по их лицам наверно такие же «больные», как и Гозберг. Он присел на диванчик и стал ждать своей очереди.
В медсанчасти была тишина. Гозберг рассматривал стены, потолок, большие настенные часы со стрелками, ослепляющие длинные лампы дневного света и плакаты про охрану своего здоровья. Потом он начал изучать свою одежду, суточную небритость и одну зазубрину на ногте. Эх, хорошо, сидишь и ничего не делаешь, завтра выходной и баня по графику. Кстати, надо сразу к парикмахеру зайти, а то за две недели оброс уже, хоть тут красоваться и не перед кем, но чистоплотность никто не отменял.
Потом Гозберг вспомнил референдум на Украине и того дебильного врача, который у него вытащил из задницы осколок от фугаса и отправил дальше воевать с Россией. Вот тварь, а мог бы дать отлежаться неделю, а только потом в бой отправить, козёл он в общем. Да-а, дела, он тогда вообще всех раненых воевать отправлял, перебинтует, обезболивающее вколет и в окопы. А куда им? Конечно, половина оппозиционеров в плен сдались. Медицинской помощи нет, патронов нет, поддержки западной нет. А может этот врач вообще на Москву работал?
Эх, сейчас бы две, три недели просто бы полежать в больнице и от работы отдохнуть, от которой кони дохнут. Три раза в день куриный бульон хлебать да кашу молочную есть, блин, как я забыл, у меня же в кармане ещё восемь жареных колбасок…
– Следующий. – громко сказали из кабинета.
Гозберг оглянулся и понял, что эти двое исправленцев уже ушли и наступила его очередь. Он зашёл в кабинет, где находился дежурный врач Колистратов Александр Александрович. Он сидел за белым столом в новом чистеньком белом халате, шарлотке и что-то печатал на компьютере.
– Здравствуйте гражданин начальник, исправленец Гозберг.
– На что жалуетесь Гозберг?
– Александр Александрович я наверно заболел, ломит во всём теле, голова кружится и как-то в груди болит, второй день себя неважно чувствую.
– Ну что же, посмотрим, на кушетку присаживайтесь. – сказал Колистратов, достал из шкафчика ватную салфетку и медицинский пирометр. – Лоб протрите и не двигайтесь.
Гозберг сел на кушетку, протёр лоб салфеткой и неподвижно замер. Колистратов включил пирометр, поднёс его на расстояние около пяти сантиметров ко лбу Гозберга и стал ждать. Через минуту пирометр запищал.
– Тридцать шесть и восемь. – сказал Колистратов, глядя на пирометр. – Рот откройте.
Гозберг открыл рот и высунул язык, эх, подумал он, надо было на подъёме съесть кофе и выпить йод, мало времени прошло, не успела ещё обманка сработать.
– Тут тоже всё нормально, раздевайтесь до пояса.
Гозберг разделся, Колистратов его послушал, но тревожащих симптомов не обнаружил. Потом он померил давление, но оно Гозберга тоже подвело, так как было оно как у космонавта.
– Гозберг, Вы приходите вечером после работы, сейчас я освобождение дать не могу, так как Вы совершенно здоровы, а почему вчера вечером не пришли?
– Так, это, Александр Александрович, я же думал, что пройдёт, мне же на работу надо ходить, сами знаете, что план годовой на носу, а оно не прошло.
– Гозберг, Вы абсолютно здоровы, ещё жалобы есть?
– Никак нет, разрешите идти гражданин начальник?
– Идите и не болейте. – ответил Колистратов, так как очень хорошо знал таких любителей упасть на крест.
Гозберг вышел от Колистратова и прямиком направился в туалет медсанчасти. Он закрылся в кабинке и начал есть колбаски, которые ему теперь некуда было девать, да и восемь штук он скрысил не от жадности, а потому что с детства клептоман. Гозберг кое как доел седьмую, а восьмую разломал и выкинул в унитаз, потому что обожрался. Сквозь окна в туалете он услышал сирену – до вывода на работу оставалось десять минут. Он глубоко и тяжко вздохнул, а потом вышел из медсанчасти. Откосить от работы не получилось, тут северянин южанина не поймёт.