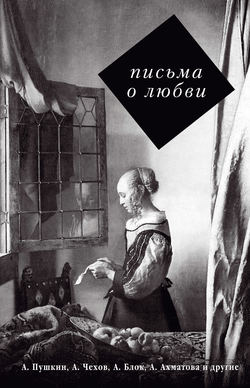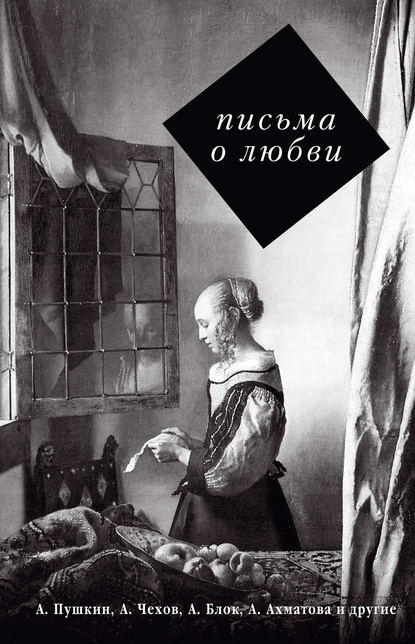Серия «Письма и дневники»
© А. Ахматова, наследники, 2018
© С. Нечаев, автор-составитель, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
* * *
Когда недавней старины
Мы переписку разбираем,
И удивления полны —
Так много страсти в ней читаем,
Так много чувства и тоски
В разлуке, столько слез страданья,
Молитв и просьб о дне свиданья, —
Мы в изумленьи: далеки
Те дни, те чувства!.. Холод света
Отравою дохнул на них!..
Его насмешек и навета,
Речей завистливых и злых
Рассудок подкрепил влиянье;
Разочаровано одно
Из двух сердец… Ему смешно
Любви недавней излиянье!..
Евдокия Ростопчина
Василий Жуковский
Летом 1805 года Василий Андреевич Жуковский, будущий известный поэт, работавший пока бухгалтером в Главной соляной конторе, но уже имевший за плечами несколько собственных произведений и переводов Коцебу и Сервантеса, стал наставником своих племянниц – дочерей тульского губернского предводителя дворянства Андрея Ивановича Протасова и его супруги Екатерины Афанасьевны (урожденной Буниной).
Андрей Иванович умер незадолго до этого, оставив после себя большие карточные долги. Екатерина Афанасьевна, будучи стесненной в средствах, не могла нанять учителей и попросила об услуге Жуковского, только что окончившего Московский университетский пансион.
В те времена образованием девочек занимались весьма поверхностно, однако Жуковский очень серьезно подходил к роли учителя. По утрам они занимались историей, читали Геродота и Тацита, вечером были философия, литература и эстетика. И очень скоро Василий Андреевич стал задаваться вопросом: а можно ли быть влюбленным в ребенка? Речь шла о романтическом влечении к старшей из девочек – 12-летней Марии.
Мария, в отличие от своей сестры, считалась некрасивой. По характеру она была замкнутой, тогда как Александра была девочкой живой и веселой. Мать с Машей была излишне строга, и та чувствовала себя одинокой.
Любовь Жуковского нашла понимание в окружавшем поэта родственно-дружеском кружке, исключая только саму Екатерину Афанасьевну, женщину твердую и решительную. Когда летом 1807 года 24-летний Жуковский попытался открыто заговорить с ней о чувствах к Марии, Екатерина Афанасьевна ответила ему резким отказом, так как считала дочь племянницей Василия Андреевича, а следовательно, брак между ними – противным церковному закону. Кроме того, по мнению матери, дочь ее была еще слишком молода. И для Жуковского начались долгие годы борьбы за свое счастье.
От отца, Афанасия Ивановича Бунина, Екатерине Афанасьевне остались два села в Орловской губернии – фамильное Бунино и Муратово, куда летом 1810 года Протасова решила переехать.
Жуковский отправился вместе с Протасовыми. Он даже принял участие в строительстве усадебного дома: провел съемку местности, составил и рассчитал планы строительства.
В мае 1811 года ушла из жизни приемная мать Жуковского – Мария Григорьевна Бунина. Похоронив ее, Василий Андреевич, чтобы быть ближе к Марии Протасовой, купил дом в деревне Холх, в полуверсте от усадьбы Екатерины Афанасьевны. Теперь он мог каждодневно видеться с 18-летней Марией. Василий Андреевич решился на еще одно объяснение с Е. А. Протасовой, но та вновь заявила, что «по родству эта женитьба невозможна». Удивительно то, что Екатерина Афанасьевна не считала Жуковского (приемного сына родителей) братом, но при этом была твердо уверена: Маша – его племянница.
Сложившуюся ситуацию Жуковский переживал очень тяжело, и это стало причиной его печального настроения, сетований на судьбу, одиночество, послужило темой для целого ряда грустных романсов и элегий, в которых горькая доля поэта занимала главное место. Но нападение на Россию Наполеона и Отечественная война 1812 года заставили Жуковского на время забыть о личном несчастье. Он записался в Московское ополчение поручиком, а с войны вернулся штабс-капитаном и кавалером ордена Святой Анны 2-й степени. После возвращения в Муратово Василий Андреевич снова посватался к Марии, тогда уже и она изъявила согласие выйти за него замуж, и… снова получил отказ: Екатерина Афанасьевна упрямо настаивала – браки между близкими родственниками недопустимы.
Жуковский же был уверен, что жизнь дана человеку для счастья, и он старался убедить в этом и свою любимую.
25–26 февраля 1813 г. Муратово
Василий Жуковский. Из «Дневника»
Сам бросить своего счастия не могу: пускай его у меня вырвут, пускай его мне запретят; тогда по крайней мере не я буду причиной своей утраты. Жертвовать собой не значит еще соглашаться, что жертва необходима и угодна Богу, которому ее насильно приносят. Он дал мне совесть. Отчего же эта совесть спокойна, когда я рассматриваю желания своего сердца, и рассматриваю их в уверении, что у меня есть строгий свидетель; отчего, представляя исполненными свои намерения, чувствую в себе самую чистую радость, вижу себя лучшим? Неужели это доказательство, что мои намерения дурные? А какое другое правило вернее в суждении о самом себе. Я же не один: прекрасные люди, истинные христиане, одобряют меня; а мнение, противящееся мне, само по себе сомнительно, и для тех, которые его имеют. Если бы человеку, совершенно равнодушному, надлежало произнести приговор, что бы он сказал? Одно мнение поддерживает истинный христианин, но оно разрушает счастие; другое, ему противное мнение, также истинный христианин защищает, и оно дает счастие – которое справедливо?.. Без сомнения то, на которой стороне счастие, ибо оно оправдывается. Так бы должен был решить беспристрастный, но наш судья – мать. Мои намерения достойны моего Творца, и моя молитва к нему: чтобы он исполнением их дал мне единственный способ его удостоиться в жизни или чтобы скорее взял от меня обратно жизнь, совершенно бесплодную. Вот вся моя исповедь.
Очередной решительный отказ матери привел к ухудшению здоровья юной Марии Протасовой. А в ноябре 1813 года в деревню Холх, по приглашению Жуковского, приехал его друг Александр Федорович Воейков. Несмотря на внешнюю непривлекательность, Воейков произвел впечатление на Екатерину Афанасьевну, но особенно – на Александру. Короче говоря, он очень понравился Протасовым, и Жуковский решил, что Воейков поможет ему сломить сопротивление Екатерины Афанасьевны.
23 марта 1814 года было объявлено о браке Александра Федоровича с младшей из сестер Протасовых – Александрой. Но, несмотря на обещание, Воейков ничего не сделал для решения «ситуации с Марией».
Однако Жуковский принял живейшее участие в судьбе Воейкова и устроил его профессором в Дерптский университет, и все семейство Протасовых решило перебраться в Дерпт – нынешний город Тарту. Жуковский добился разрешения ехать вместе с ними – на положении «брата».
Протасовы с Воейковым прибыли в Дерпт 15 февраля 1815 года, а Жуковский – 16 марта.
Живя в Дерпте, среди «немцев», вращаясь в кругу профессоров, углубляясь исключительно в немецкую поэзию, Жуковский даже стал находить какую-то особую прелесть в замкнутой жизни маленького университетскаго городка. Он был горячо привязан к семейству своей сестры, и многочисленные попытки друзей переманить его из Дерпта в Санкт-Петербург, чтобы подумать о будущем и о карьере, были напрасны.
Конечно, вероломство Воейкова стало ударом для Жуковского. Перед свадьбой Александры поэт продал Холх и передал ей в подарок 11 000 рублей. Так как жить ему теперь было негде, Екатерина Афанасьевна пригласила его в Муратово.
В очередной раз поэт сватался в апреле 1814 года, и снова Протасова-старшая отказала ему. По этому поводу Жуковский жаловался своей племяннице А. П. Елагиной (урожденной Юшковой, по первому браку Киреевской). Авдотья Петровна знала о привязанности Жуковского к Маше и была его союзницей в хлопотах о получении согласия на брак от Екатерины Афанасьевны.
16 апреля 1814 г. Муратово
Василий Жуковский – Авдотье Елагиной
Здравствуйте, милая моя сестра, новая знакомка и старый друг! Вы мне дали на дорогу добрый запас размышлений и чувств. Месяца за два я бы не вообразил, что мне будет можно поехать с грустью из Долбина в Муратово, – бедные мы люди! Думаем о бессмертии, о горнем <…> отдаленном счастии, а под носом не видим того, что может нас утешать и делать довольнее. Наше путешествие сделало и моему сердцу большое добро; оно помогло ему найти находку – доверенность к дружбе, прежде смешанную с сомнением, потом почти совсем разрушенную, – обратить в веру, не есть ли это находка? И не везде ли видно доброе Провидение? Отымая с одной стороны, оно всегда заменяет с другой. С полною доверенностию я сунулся было просить дружбы там, где было одно притворство, и меня встретило предательство со всем своим отвратительным безобразием – от вас не думал ничего требовать, и все само сделалось. Эта мена ничуть не убыточная; а вместе с нею и добрый урок.
Вот вам моя реляция. Поехав от вас, я думал ночевать в Черни[1]. Но в Болхове узнал, что Плещеев, мой добрый негр, который белых книг не страшится, приехал один из Ельца. Я скорее в Чернь; но его не застал – он уехал в Муратово. Переменив лошадей, скачу за ним. Ночь и страшная грязь не выпустили меня из Козловки, и я ночевал у Марии Николаевны. Она сказала мне официальную новость: свадьба назначена 2 июля, а после свадьбы едут в Дерпт[2]. Я поглядел на своего спутника – вы его знаете. Больная, одержимая подагрою надежда, которая скрепя сердце тащится за мною на костылях и часто отстает. – Что скажешь, товарищ! – Что сказать? Нам недолго таскаться вместе по белу свету. После второго июля – что бы ни было – мы расстанемся! Или покину тебя одного и бреди как хочешь! Или оставлю тебе свою сестрицу, которая лучше меня и гораздо лучшее (но только для добрых) исполнение. С нею дурной человек становится хуже, а добрый гораздо добрее. Она приготовит тебя к тому обетованному краю,
Где вера не нужна, где места нет надежде,
Где царство вечное одной любви святой!
– А если останусь один! – Тогда! Готовься, как умеешь сам, к переселению в этот край! Но едва ли удастся получить пропускной билет!
Разве чудо путь укажет
В сей прелестный край чудес!
– Но ждать чуда? Кто его дождется! – И я тоже думаю! – Что же делать! – Не знаю! А для меня верно только то, что мы расстанемся! – вот вам слово в слово весь наш разговор.
Поутру рано приезжаю. Плещеев здесь по делам <…>
А мой подагрик[3] шепнул мне на ухо: терпи! Тебя будут любить, когда получишь свободу быть тем, каким быть хочешь и можешь. И сердце скрепилось. Но было ли оно довольно так, как бывает довольным у человека, возвратившегося в тот круг, где его счастие, где его настоящая жизнь?.. Нет! Нет! Сиротство и одиночество ужасно ввиду счастия и счастливых! Гораздо легче быть одиноким в лесу со зверями, в тюрьме с цепями, нежели подле той милой семьи, в которую хотел бы броситься, из которой тебя выбрасывают. Благодаря моему подагрику это все для меня пока сносно. Но когда он от меня отковыляет в дальнюю, неизвестную сторону – тогда быть совсем выброшенным будет даже утешительно – можно разбиться вдребезги. Плещеев уехал во втором часу. У Воейкова заболела голова – его положили в кабинете; сами подкладывали ему под ноги, под голову подушки; я сидел спичкою, и на меня поглядывали с торжествующим, радостным видом – в самом деле торжество и радость. Я посматривал исподлобья, не найду ли где в углу христианской любви, внушающей сожаление, пощаду, кротость. Нет! Одно холодное жестокосердие в монашеской рясе с кровавою надписью на лбу должность (выправленною весьма неискусно из слова суеверие) сидело против меня и страшно сверкало на меня глазами. И мне стало страшно, и я ушел к себе отведать ничтожества, то есть как-нибудь заснуть…
Но Протасова-старшая никого не хотела слушать и запретила Жуковскому появляться в Муратове. Со своей Машей он вынужден был только переписываться.
Март 1815 г. Муратово
Василий Жуковский – Марии Протасовой
Милая Маша, нам надобно объясниться. Как прежде от тебя одной я требовал и утешения, и твердости, так и теперь требую твердости в добре. Нам надобно знать и исполнить то, на что мы решились, дело идет не о том только, чтобы быть вместе, но и о том, чтобы этого стоить. Следовательно, не по одной наружности исполнять данное слово, а в сердце быть ему верными. Иначе не будет покоя, иначе никакого согласия в чувствах между мною и маменькой быть не может. Сказав ей решительно, что я ей брат, мне до́лжно быть им не на одних словах, не для того единственно, чтобы получить этим именем право быть вместе. Если я ей говорил искренно о моей к тебе привязанности, если об этом и писал, то для того, чтобы не носить маски, – я хотел только свободы и доверенности. Это нас рознило с нею. Теперь, когда все, и самое чувство, пожертвовано, когда оно переменилось в другое, лучшее и нежнейшее, нас с нею ничто не будет рознить. Но, милой друг, я хочу, чтобы и ты была совершенно со мною согласна, чтобы была в этом мне и примером и подпорою, хочу знать и слышать твои мысли. Как прежде ты давала мне одним словом и бодрость, и подпору, так и теперь ты же мне дашь и всю нужную мне добродетель. Чего я желал? Быть счастливым с тобою! Из этого теперь должен выбросить только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив тобою! Право, для меня все равно, твое счастье или наше счастье. Поставь себе за правило все ограничить одной собою, поверь, что будешь тогда все делать и для меня. Моя привязанность к тебе теперь точно без примеси собственного и от этого она живее и лучше. Уж я это испытал на деле – смотря на тебя, я уже не то думаю, что прежде, если же на минуту и завернется старая мысль, то всегда с своим дурным старым товарищем, грустью, стоит уйти к себе, чтобы опять себя отыскать таким, каким надобно, а это еще теперь, когда я от маменьки ничего не имею, когда я еще ей не брат, – что ж тогда, когда и она со своей стороны все для меня сделает. Я уверен, что грустные минуты пропадут и место их заступят ясные, тихие, полные чистою к тебе привязанностью.
Вчера за ужином прежнее немножко что-то зацепило меня за сердце – но воротясь к себе, я начал думать о твоем счастье, как о моей теперешней заботе. Боже мой, как это меня утешило! Как еще много мне осталось! Не лиши же меня этого счастья! Переделай себя совершенно и будь этим мне обязана! Думай беззаботно о себе, все делай для себя – чего для меня боле? Я буду знать, что я участник в этом милом счастье! Как жизнь будет для меня дорога! Между тем я имею собственную цель – работа для пользы и славы! Не легко ли будет работать? Все пойдет из сердца, и все будет понятно для добрых! Напиши об этом твои мысли – я уверен, что они и возвысят, и утвердят все мои чувства и намерения.
Я сейчас отдал письмо маменьке. Не знаю, что будет. В обоих случаях, perseverence[4]! Меня зовут! чудо – сердце не очень бьется. Это значит, что я решился твердо»…
Март 1815 года (Муратово)
Василий Жуковский – Марии Протасовой
…Мы говорили – этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет. Она мне сказала, чтоб я до июля остался в Петербурге, – потом увидит. Одним словом, той сестры нет для меня, которой я желаю и которая бы сделала мое счастье. Еще она сказала: дай время мне опять сблизиться с Машею, ты нас совсем разлучил. Признаюсь, против этого нет возражения, и если это так, то мне нет оправдания; и я поступаю, как эгоист, желая с вами остаться!
В самом деле! Чего я хочу? Опять только своего счастья? Надобно совсем забыть о нем! Словами и объяснениями его не сделаешь! Маша, чтобы иметь полное спокойствие, не должно ли тебе возвратить мне всех писем моих? Ты знаешь теперь нашу общую цель. Твое счастье! Быть довольным собою! У тебя есть Фенелон[5] и твое сердце.
Довольно! Твердость и спокойствие, а все прочее Промыслу.
Март 1815 г. Дерпт
Василий Жуковский – Марии Протасовой
Расположение, в каком к тебе пишу, уверяет меня, что я не нарушаю своего слова тем, что к тебе пишу. Надобно сказать все своему другу. Я должен непременно тебе открыть настоящий образ своих мыслей. Маша моя (теперь моя более, нежели когда-нибудь), поняла ли ты то, что заставило меня решительно от тебя отказаться? Ангел мой, совсем не мысль, что я желаю беззаконного, – нет! Я никогда не переменю на этот счет своего мнения и верю, что я был бы счастлив и что Бог благословил бы нашу жизнь! Совсем другое и гораздо лучшее побуждение произвело во мне эту перемену! Твое собственное счастье и спокойствие! Решившись на эту жертву, я входил во все права твоего отца. Другая, нежнейшая связь! Право, эта минута была для меня божественная; если можно слышать на земле голос Божий, то конечно, в эту минуту он мне послышался! С этим чувством все для меня переменилось, все отношения к тебе сделались другие, я почувствовал в душе необыкновенную ясность; то, чего я никогда не имел в жизни, вдруг сделалось моим; я увидел подле себя сестру и сделался другом, покровителем, товарищем ее детей; я готов был глядеть на маменьку другими глазами и, право, восхищался тем чувством, с каким бы называл ее сестрою, – ничего еще подобного не бывало у меня в жизни! Имя сестры в первый раз в жизни меня тронуло до глубины сердца! Я готов был ее обожать; ни в ком, ни в ком (даже и в вас) не имела бы она такого неизменного друга, как во мне; до сих пор имя сестры меня только пугало, оно казалось мне разрушителем моего счастья; после совершенного пожертвования собою оно показалось мне самым лучшим утешением, совершенною всего заменою; боже мой, какая прекрасная жизнь мне представилась! Самое деятельное, самое ясное усовершенствование себя во всем добром! Можно ли, милый друг, изменить великому чувству, которое нас вознесло выше самих себя! Жизнь, освященная этим великим чувством, казалась мне прелестною! Если прежде, когда моя привязанность к тебе была непозволенною, я имел в иные минуты счастье; что же теперь, когда душа от всякого бремени облегчилась и когда я имею право быть довольным собою! Раз испытав прелесть пожертвования, можно ли разрушить самому эту прелесть! С этим великим чувством – как бы счастливо шли мои минуты! Вместо своего частного счастья иметь в виду общее, жить для него и находить все оправдание в своем сердце и в вашем уважении; быть вашим отцом (брат вашей матери имеет на это имя право), называть вас своими и заботиться о вашем счастье – чем для этого не пожертвуешь! И для этого я всем пожертвовал! Так, что и следу бы не осталось скоро в душе моей! Даже в первую минуту я почувствовал, что над собою работать нечего, – стоило только понять меня; подать мне руку сестры! Стоило ей только вообразить, что брат ее встал из гроба и просится опять в ее дом, или лучше вообразить, что ваш отец жив и что он с полною к вам любовью хочет с вами быть опять на свете. С этими счастливыми, скажу смело – добродетельными чувствами, соединялась и надежда вести самый прекрасный образ жизни. Осмотревшись в Дерпте, я уверен, что здесь работал бы я так, как нигде нельзя работать, – никакого рассеяния, тьма пособий и ни малейшей заботы о том, чем бы прожить день, и при всем этом первое, единственное мое счастье – семья. С таким чувством пошел я к ней, к моей сестре. Что же в ответ? Расстаться! Она уверяет меня, что не от недоверчивости, а для сохранения твоей и ее репутации! Милая, эта последняя причина должна бы удержать ее еще в Муратове. Там можно было того же бояться, чего и здесь. Но в Муратове она решилась возвратить меня, несмотря на то, что в своих письмах я говорил совсем противное тому, что теперь говорю и чувствую, нет! эта причина несправедливая! Или должно было меня еще остановить в Москве! И теперь в ту самую минуту, когда я только думал начать жить прекраснейшим образом, все для меня разрушено! Я не раскаиваюсь в своем пожертвовании – можно ли раскаяться когда-нибудь в том, что возвышает душу! Но я надеялся им заплатить за счастье, и я был бы истинно счастлив, если бы она только этого захотела! Если бы она прямо мне поверила; если бы поняла, как чисто и свято то чувство, которым я был наполнен. Что же дают мне за то счастье, которого я требовал? Самую печальную жизнь без цели и прелести! Служить – спрашиваю, для каких выгод? Отказаться от всякого занятия? В Петербурге я не мог бы заниматься, если бы и имел состояние! Убийственное рассеяние утомило бы душу! <…>
Голос брата не дошел до ее сердца! Чтобы тронуть его, я, видно, не имею никакого языка! Я сделаюсь дорог тогда разве, когда меня не будет на свете! Этот страх расстроить репутацию есть только придирка! Почему же он теперь именно, когда все причины к недоверчивости совершенно разрушились, пришел в голову! Для чего вырвать меня из Долбина? Само по себе разумеется, что против этой причины я не мог ничего сказать! Я готов во всяком случае быть за тебя жертвою, но надобно, чтобы жертва была необходима! Здесь – каких толков бояться? Кто подаст к ним повод? А прежние толки пропадут сами собою! Да я первый все усилия употреблю, чтобы все привести в порядок! Между тем мы были бы счастливы, счастливы в своей семье, и свидетель был бы у нас Бог! О, как бы весело было помогать друг другу вести жизнь добродетельную! Я чувствую, я уверен, что было бы легко и что мне даже и усилий никаких не было бы нужно делать над собою! Теперь что мне осталось? Начинать новую жизнь без цели, без бодрости, и за каким счастьем гнаться? Так и быть! Все в жизни к прекрасному средство! Но сердце ноет, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили.
29 марта 1815 г. Дерпт
Василий Жуковский – Марии Протасовой
Милый друг, надобно сказать тебе что-нибудь в последний раз. У тебя много останется утешения; у тебя есть добрый товарищ: твоя смирная покорность Провидению. Она у тебя не на словах, а в сердце и на деле. Что могу сказать тебе утешительнее того, что скажет тебе лучшая душа, какая только была на свете, твой Фенелон, которого ты понимать можешь. Я благодарю тебя за то, что ты его мне вчера присылала. Теперь знаю, что у тебя есть неразлучный товарищ, и такой, который всегда умеет дать твердость, надежду и ясность. Я знаю теперь, что каждый день доставит тебе прекрасную минуту. Стоит только войти в себя, поговорить с добрым, нельстивым другом, и все, что вокруг тебя, примет другой вид. Читай же эту книгу беспрестанно. В дополнение к Фенелону пришлю тебе Массильона[6]. Теперь чтение для тебя не занятие, а жизнь и усовершенствование сердца и мыслей. Пусть это чтение напоминает тебе обо мне, о человеке, который желал быть твоим товарищем во всем добром. Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе, что ты мне давала лучшие намерения, что все лучшее во мне было соединено с привязанностью к тебе, что, наконец, тебе же я был обязан самым прекрасным движением сердца, которое решилось на пожертвование тобою, – опыт, самый благодетельный на всю жизнь; он уверяет меня, что лучшие минуты в жизни те, в которые человек забывает себя для добра и забывает не на одну минуту. Сама можешь судить, что в этом воспоминании о тебе заключены будут все мои должности. Пропади оно – я все потеряю. Я сохраню его как свою лучшую драгоценность. Я вверяю себя этому воспоминанию и, право, – не боюсь будущего. Что может теперь в жизни сделаться ужасного для меня, собственно? Во всех обстоятельствах я буду стараться быть таким же, каков теперь. Обстоятельства – дело Провидения. Мысли и чувства в этих обстоятельствах – вот все, что мы можем. И в этом-то постараюсь быть тебя достойным. Впрочем, останемся беззаботны. Все в жизни к прекрасному средство! Я прошу от тебя только одного – не позволяй тобою жертвовать и заботься о своем счастье. Этим ты мне обязана. Я желал бы, чтобы ты боле имела свободы заниматься собственным. Выпроси у маменьки несколько часов в дни для чтения – в этом чтении прямая твоя жизнь. Но не читай ничего, что бы было только для пустого развлечения. Малое, но питательное для такого сердца, как твое. Меня утешает теперь мысль, что маменька будет должна теперь к тебе более прежнего привязаться. Против остального – терпение и твердость. Мои тетрадки сбереги. В них нечего переменять, кроме разве одного – везде сестра. Помни же своего брата, своего истинного друга. Но помни так, как он того требует, то есть знай, что он, во все минуты жизни, если не живет, то, по крайней мере, желает жить так, как велит ему его привязанность к тебе, теперь вечная и более, нежели когда-нибудь, чистая и сильная.
Об Воейкове скажу только одно слово. Мне ему прощать нечего. Слепому человеку нужно ли прощать его слепоту? Но каким же убеждением можно заставить себя верить, что он зрячий. Человек, который имеет полную власть осчастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между им и мною нет ничего общего. Я…
<Две строчки зачеркнуты.> …Ты мне напомнишь: все к жизни к великому средство! Дай мне способ сделать ему добро: я его сделаю. Но называть белое черным и черное белым и уважать и показывать уважение к тому, что… <Несколько слов зачеркнуто.> в этом нет величия; это притворство перед собою и другими.
В этом письме мне не должно бы было говорить о Воейкове. Но должно было отвечать на твое письмо. Я никак не ожидал, чтобы мое пожертвование было так принято. Нет! Меня хотят лишить всякого счастья! Но ты не бойся! Жизнь моя будет тебя стоить! Выключая наперед из нее минуты унылости и сомнения, все прочее будет так, как тебе надобно. Тургенев зовет меня к себе, мы будем жить вместе. У меня есть семья друзей и твое уважение. Я богат. Остальное – Провидению. Дурного быть не может, если сам не будешь дурен. А у меня есть верная защита от всего: воспоминание и perseverence.
Я бы желал, чтобы ты написала мне поболее.
Это было написано вчера поутру. Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Ради бога, открой мне глаза. Мне кажется, что я все потерял.
К сожалению, с течением времени в позиции Екатерины Афанасьевны ничего не менялось. Она подчеркнуто холодно общалась с поэтом.
А что же сама Мария Протасова? Любила ли она Жуковского? Да. Но она любила и «свою маменьку», понимая при этом, что маменька ей «много сделала несчастливых минут». К тому же Воейков вдруг принялся устраивать дикие сцены ревности. Он даже обещал Екатерине Афанасьевне убить Жуковского, а потом зарезать себя. После ужина он обычно бывал пьян. Единственным избавлением от «тирании Воейкова» могло стать замужество, и выбор Маши, не посмевшей пойти против воли матери, пал на человека достойного во всех отношениях. Но то был не Жуковский…
«Выбор» Марии пал на дерптского хирурга и профессора университета Ивана Филипповича Мойера (Иоганна Мойера). Организовавшая все Екатерина Афанасьевна находила в Мойере лишь один недостаток – он не был дворянином. Брак был объявлен делом решенным, и Жуковский, как внутренне ни был готов к такому исходу, пережил сильнейшее потрясение.
27 ноября 1815 г. Санкт-Петербург
Василий Жуковский – Марии Протасовой
Ты хочешь говорить с мною как с отцом. Если это имя не пустое слово, написанное без всякого особенного смысла, то это значит, что мое мнение для тебя так же важно, как мнение отца. Милый друг, ты мне поверишь, когда скажу тебе, что могу без всякого эгоизма думать о твоем счастии и желать его. Итак, я буду говорить как отец, которому все то известно, что делается в сердце у дочери, который на этот счет не хочет обманывать ни себя, ни других, который желает счастия своей дочери для нее, который, думая об ее счастии, не разумеет под ним одного собственного спокойствия. Послушай, мой милый друг, если бы твое письмо написано было хотя полгодом позже, я бы подумал, что время что-нибудь сделало над твоим сердцем и что привязанность к Мойеру, произведенная свычкою, помогла времени; я бы поверил тебе и подумал бы, что ты действуешь по собственному, свободному побуждению; я бы поверил твоему счастию. Но давно ли мы расстались? Нет трех недель, как мое последнее письмо было написано к маменьке! Ты знаешь то, что я чувствовал к тебе, а я знаю, что ты ко мне чувствовала, – могла ли, скажи мне, произойти в тебе та перемена, которая необходимо нужна для того, чтобы ты имела право перед собою решиться на такой важный шаг? Мойеру уже было один раз отказано! Он, вероятно, не делал новых предложений! С чего же пришла тебе самой мысль за него идти? Тебе, которая говорила, что для тебя никакого другого счастия не надобно, кроме свободы, неразлучности с маменькой и спокойствия в семье твоей? Нет, милый друг, не ты сама на это решилась! Тебя решили, с одной стороны, требования и упреки, с другой – грубости и жестокое притеснение! Не давши времени твоей душе придти в себя, от тебя требуют последнего пожертвования на целую жизнь, называя это пожертвование твоим же счастием и даже не принимая его за пожертвование! <…> Основываясь на письме твоем, скажут, что ты всего сама желала, что сделали тебе угодное, и до того, что у тебя в сердце, нет дела. Это видит один Бог, а не люди! Одним словом, ты бросаешься в руки Мойеру потому, что тебе другого нечего делать! Тебя тащут туда насильно, и еще ты же должна говорить, что ты счастлива! А я вслед за тобою, как твой отец, говорить то же! Нет! Как твой отец, я не могу на это теперь согласиться. Если бы я был твой отец не на словах, а на деле, если бы это имя не было мне дано как самое оскорбительное доказательство совершенного бессилия сделать что-нибудь для твоего счастия, я бы поступил иначе; зная твое состояние, я бы прежде всего старался дать тебе время успокоить свое сердце, я бы не стал, как самовластный деспот, располагать всею судьбою твоей жизни; не пожертвовал бы ею своему спокойствию, своей прихоти. Зная в своей совести, что я сам причиною всего, что с тобою было, я не вздумал бы к твоему несчастию, мною самим сделанному, прибавить другого, совершенно неизгладимого; я бы заменил для тебя то, что у тебя отнял, произвольно или принужденно, до того нет дела; подле меня нашла бы ты все вознаграждения за потерянное; я не дал бы в семье своей делать тебе жестоких неприятностей, принуждающих тебя все забыть, на все решиться, чтобы после во всем раскаиваться: одним словом, я был бы твой отец, утешитель, товарищ! Не думал бы об одном себе! Ты была бы свободна, спокойна; время все бы исправило! Тогда без принуждения, без всякого упрека совести, ты выбрала бы для себя счастие верное, то есть хорошее променяла бы на лучшее и не была бы жертвою моей прихоти, моего эгоизма; и я был бы счастлив, потому что был бы тогда уверен в твоем счастии! Так бы я поступил, если бы был твой отец или твоя мать. Но теперь кто уверит меня, что ты поступаешь свободно?
28 ноября 1815 года (Санкт-Петербург)
Василий Жуковский – Марии Протасовой
Ты хочешь дать мне свое место в семье твоей матери. Нет, Маша! Я просил тебя тысячу раз: не думай обо мне, заботясь о своем счастии! Будь счастлива для себя, тогда и все мое желание исполнится. Мне занять твое место! Прошу на этот счет не обманываться! <…> Я совершенно отказался от невозможного. И твоей матери нечего бояться! Если она думает, что я жду смерти ее, чтобы возобновить все, – этот страх напрасен! Для ее успокоения ты можешь дать ей какую хочешь клятву, а я не захочу никогда взять руки твоей на гробе твоей матери. Она сделала из меня какое-то чудовище, которого боится, и этот страх даже ее самое приводит к преступлению. Если замужеством своим ты надеешься дать мне семейное счастие и возвратить меня в свою семью – эта надежда совершенно пустая. Я был бы истинным другом, истинным братом твоей матери и еще остался бы ей благодарен, когда бы видел, что она, разделив и твое и мое горе, облегчила бы его всем, что от нее зависит, – думая единственно, как бы утешить тебя и тебе дать совершенное спокойствие. Твое счастие было бы величайшим ее благодеянием и мне. Мы были бы розно <…> но это розно не разорвало бы дружбы; у нас было бы одно – твое счастие! И как легко его сделать – быть просто матерью, другом и утешителем, а не притеснителем, который всем готов жертвовать своему эгоизму. Пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга – этим не заманишь меня в ее семью! Скорей соглашусь двадцать раз себе разбить голову, нежели искать места в этой семье! Какими глазами буду смотреть на нее! Какое чувство буду иметь к ней в своем сердце! Я не постигаю, как могла придти тебе в голову такая мысль и за кого ты меня считаешь! Но скажи мне, чего она боится? За что хочет убить тебя? Неужели надеется найти в аптеках лекарство от твоих болезней, которые сама производит?
Одним словом, чтобы все кончить, я могу только согласиться на твое счастие – в этом пожертвовании я не вижу его; я не вижу его для тебя в замужестве, по крайней мере теперь его для тебя в замужестве быть не может. Разве забыла она своих двух сестер и своего брата? Разве забыла, что ты в начале этого месяца была при смерти? А что смерть пред тою жизнью, которую она тебе готовит! Она могла бы тебя осчастливить, а она тебя гонит от себя! Я не могу согласиться на замужество твое, теперь не могу!
И все же 14 января 1817 года Маша Протасова обвенчалась с Мойером.