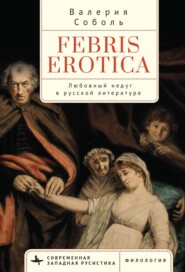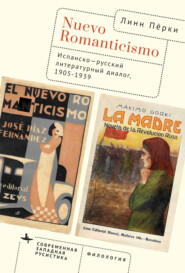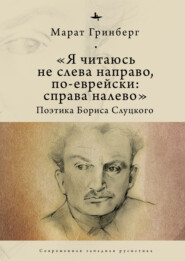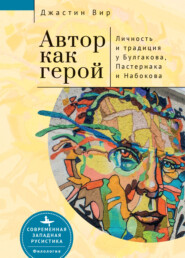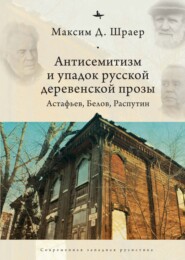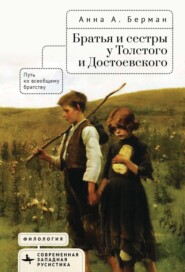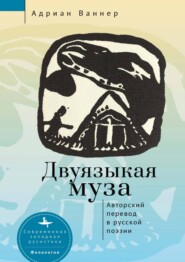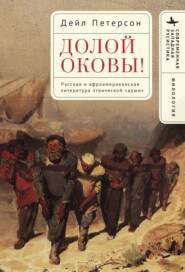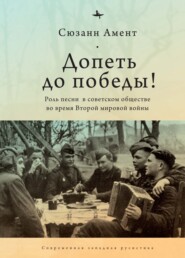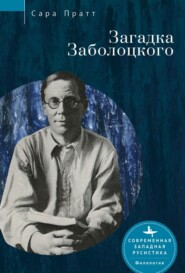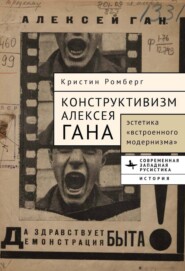Название серии:
«Современная западная русистика / Contemporary Western Rusistika»Книги серии:
- 1. Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе
- 2. Nuevo Romanticismo. Испанско-русский литературный диалог, 1905–1939
- 3. SPAсибо партии. Отдых, путешествия и советская мечта
- 4. «Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево». Поэтика Бориса Слуцкого
- 5. Автор как герой: личность и литературная традиция у Булгакова, Пастернака и Набокова
- 6. Англичанин из Лебедяни. Жизнь Евгения Замятина (1884–1937)
- 7. Андрей Синявский: герой своего времени?
- 8. Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы. Астафьев, Белов, Распутин
- 9. Апокалиптический реализм. Научная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких
- 10. Архетипы и история
- 11. Братья и сестры у Толстого и Достоевского. Путь ко всеобщему братству
- 12. В поисках истинной России. Провинция в современном националистическом дискурсе
- 13. Велижское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе
- 14. Великая война и деколонизация Российской империи
- 15. Войны за становление Российского государства. 1460–1730
- 16. Вокруг Николая Рериха. Искусство, эзотерика, востоковедение и политика
- 17. Высшая легкость созидания. Следующие сто лет русско-израильской литературы
- 18. Выцветание красного. Бывший враг времен холодной войны в русском и американском кино 1990-2005 годов
- 19. Голос техники. Переход советского кино к звуку. 1928–1935
- 20. Горбачев и Ельцин как лидеры
- 21. Двуязыкая муза. Авторский перевод в русской поэзии
- 22. Долой оковы! Русская и афроамериканская литература этнической «души»
- 23. Допеть до победы! Роль песни в советском обществе во время Второй мировой войны
- 24. Достоевский и динамика религиозного опыта
- 25. Женское лицо советской и российской анимации
- 26. Женщины в России. 1700–2000
- 27. Загадка Заболоцкого
- 28. Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века
- 29. Знание и окраины империи. Казахские посредники и российское управление в степи, 1731–1917
- 30. И в пути народ мой. «Гилель» и возрождение еврейской жизни в бывшем СССР
- 31. И все содрогнулось… Стихийные бедствия и катастрофы в Советском Союзе
- 32. Идея Софии в философской мысли Владимира Соловьева
- 33. Из Священной Римской империи в страну царей. Одиссея одной семьи, 1768–1870
- 34. Изобретение Михаила Ломоносова. Русский национальный миф
- 35. Икона и квадрат. Русский модернизм и русско-византийское возрождение
- 36. Инкарнационный реализм Достоевского. В поисках Христа в Карамазовых
- 37. Искусство на повестке дня. Рождение русской культуры из духа газетных споров
- 38. Как Петербург научился себя изучать
- 39. Как сделан «Нос». Стилистический и критический комментарий к повести Н. В. Гоголя
- 40. Кинематограф оттепели. Пространство, материальность, движение
- 41. Конструктивизм Алексея Гана. Эстетика вовлеченного модернизма