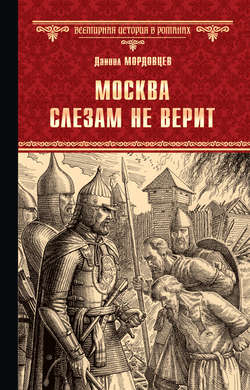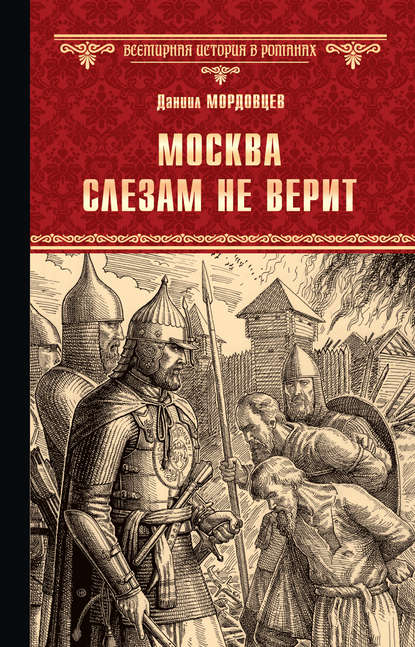Об авторе

Даниил Лукич Мордовцев
(1830 – 1905)
Известный русский и украинский писатель и историк Даниил Лукич Мордовцев родился 7 (19) декабря 1830 г. в слободе Даниловка быв. Ростовской губернии. Его отец был управляющим помещичьей слободой, мать – дочерью местного священника. Даниил был младшим ребенком в семье. Отец умер, когда малышу еще не исполнилось и года. Мальчик учился сначала у слободского дьячка, потом окончил окружное училище и саратовскую гимназию. В 1850 г. юноша поступает на физико-математический факультет Казанского университета, но его уговаривают перейти на историко-филологический факультет, откуда Даниил в следующем году переводится в Петербургский университет, по окончании которого уезжает в Саратов, где служит в губернской канцелярии и одновременно редактирует неофициальную часть «Губернских ведомостей». Пользуясь возможностью собирать разнообразный исторический и фольклорный материал, Мордовцев часто ездит по губернии. Часть собранного материала публикует в виде очерков в тех же «Губернских ведомостях». В 1859 г. вместе с Н. Костомаровым публикует «Малороссийский литературный сборник», куда включает свои произведения на украинском языке. Первым значительным литературным произведением на русском языке стал исторический рассказ «Медведицкий бурлак» (1859).
В 1864 г. Мордовцев переезжает в Петербург, где поступает на службу в Министерство внутренних дел, но через три года возвращается в Саратов. В волжском городе он служит в комиссии народного продовольствия, попечительском тюремном комитете, губернской канцелярии и статистическом комитете. Наряду с этим Мордовцев занимается историческими исследованиями, публикуя свои статьи в таких солидных журналах, как «Русское слово», «Русский вестник», «Вестник Европы». В журнале «Дело» публикуются очерки Даниила Лукича «Накануне воли», где реалистично показаны жизнь и взаимоотношения крестьян и помещиков. Очерки эти вызывают неудовольствие начальства. Весной 1872 г. Мордовцева отправляют в отставку. Он снова едет в Петербург, где издает свои исторические труды «Гайдамачина», «Самозванцы и понизовая вольница», «Политические движения русского народа». В 1870-х гг. Мордовцев публикует в «Отечественных записках» ряд статей, написанных в полуюмористической форме от имени мистера Плумпудинга. Эти произведения пользовались большой популярностью.
С конца семидесятых годов писатель почти целиком посвящает себя историческому роману. Он обнаруживает здесь недюжинную работоспособность. К лучшим произведениям писателя относят романы «Великий раскол», «Идеалисты и реалисты», «Царь и гетман», «Наносная беда», «Лжедмитрий», «Двенадцатый год», «Замурованная царица», «За чьи грехи?». Д. Мордовцев не раз выезжал за пределы Российской империи и умел рассказать о зарубежной жизни. Его перу принадлежат путевые очерки: «Поездка в Иерусалим», «Поездка к пирамидам», «По Италии», «По Испании», «На Арарат», «В гостях у Тамерлана» и пр. Мордовцев также был автором популярных культурно-исторических очерков: «Русские исторические женщины», «Русские женщины нового времени», «Ванька Каин», «Истории Пропилеи» и др. Собрание его сочинений, изданное в 1901–1902 гг., состоит из 50 томов.
Весной 1905 г. писатель заболел воспалением легких. Он уезжает сначала в Ростов, а потом в Кисловодск, надеясь, что кавказский климат вылечит его, но этого не произошло, и 10 (23) июня 1905 г. Даниил Мордовцев скончался. Его похоронили в Ростове-на-Дону, на Новоселовском кладбище, в фамильном склепе. В советское время интерес к творчеству «русского Вальтера Скотта» и «одного из самых читаемых в России беллетристов XIX века» резко упал. Только с начала 1990-х гг. снова стали выходить исторические романы этого неординарного писателя. Остается сожалеть, что он еще недостаточно известен современному читателю.
А. Москвин
Избранная библиография Д. Л. Мордовцева
«Знамения времени» (1869)
«Идеалисты и реалисты» («Тень Ирода») (1876)
«Великий раскол» (1878)
«Наносная беда» (1879)
«Лжедмитрий» (1879)
«Двенадцатый год» (1880)
«Царь и гетман» (1880)
«Сидение раскольников в Соловках» («Соловецкое сидение») (1880)
«Господин Великий Новгород» (1882)
«Замурованная царица» (1884)
«Видение в Публичной библиотеке» (1884)
«Москва слезам не верит» (1885)
«За чьи грехи?» (1891)
«Державный плотник» (1895)
Москва слезам не верит
Историческая повесть
I. Калики перехожие
В хоромах князя Данилы Щенята, что у Арбатских ворот, идет пир горой, или, как поется в былинах, «заводилось пированьице, почестей пир, собирались все князья, бояре московские».
– А где же, князюшка-сват, твои калики перехожие, что похвалился ими? – спросил боярин Григорий Морозов, сильно подвыпивший, но крепкий на голову и на ноги.
– А на рундуке… Ждут, когда почестен наш пир разыграется.
– Чего же ждать, дорогой тезушка, коли «княжеский стол по полустоле, за столом все пьяни, веселы», – сказал, ставя на стол свою чару, старый князь Холмский Данило Дмитриевич, победитель новгородцев на берегах Шелони-реки.
– Ладно… Веди калик, – кивнул хозяин старому дворецкому.
В столовую светлицу вошли трое калик перехожих: двое молодых и зрячих, а третий старый и слепой. Войдя, калики «крест клали по-писаному, поклон дали по-ученому» и, откашлявшись, затянули:
Нашему хозяину-князюшке честь бы была,
Нам бы, ребятам, ведро пива дано:
Сам бы хозяюшка с гостьми испил
Да и нас бы, калик, ковшом не обнес.
Тада станем мы, калики, сказывати,
А вы, люди добрые, почетные, слушати,
Что про стары времена, про доселетния.
Калики на минуту приостановились, и старший из них, слепой, достав из-за спины «домру», стал перебирать струны… Пирующие притихли: в мелодии слепца слышалось что-то внушительное.
По знаку дворецкого холопы поднесли певцам по ковшу пива. Те перекрестились, выпили, утерлись рукавами…
И вдруг с уст их полилось торжественное:
Из-за лесу, было, лесу темного,
Из-под чудна креста Леванидова,
Из-под бела горюч камня Латыря, —
Тут повышла-выходила, повыбежала,
Выбегала тут, волетала Волга-матушка,
Лесом-полем шла верст три тысячи.
А и много в себя мать рек побрала,
А что ручьев пожрала – счету нет,
Широко-далеко под Казань прошла,
За Казанью-то реку, Каму выпила,
А со Камушкой-то Вятку пожрала.
А той Вятке-реке честь великая:
Поит-кормит она славный Хлынов-град[1],
Что родной он брат граду Новугороду…
– Как! – остановил певцов боярин Морозов. – Хлынов – родной брат Новгороду?.. С какой такой родни?
– А как же, боярин, – отвечал слепец, спокон веку так повелось, от дедов и прадедов наших: Хлынов – меньшой братец Великому Новугороду.
– И мне то же сказывали новугородцы, – поддержал слепца князь Холмский. – Даже посадница Марфа про родство Хлынова с Новым-городом говаривала. И чудно так, словно сказка…
– Не сказка, боярин-батюшка, а быль исконная, – настаивал слепец.
– Так ты расскажи, старче, а мы послушаем, – возвысил голос хозяин и кивнул холопам…
Калики перехожие снова осушили по ковшу пива.
– Давно это было… – степенно начал слепец. – Не сто и не двести лет, а, може, с полутысячи годов тому будет. Воевал тогда господин Великий Новгород – чудь белоглазую. Все мужья новгородские, и стар, и млад, ушли на войну. Не год, не два воевали, а поди годов пять. И соскучились в Новгороде бабы по мужьям. Знамо, дело женское, плоть бабья несутерпчивая…
– Так, так… – угрюмо заметил боярин Морозов. – В Писании убо сказано: «Баба – сосуд сатаны».
– Не всякая баба такова, – возразил князь Холмский. – Ну а что же дале? – обратился он к слепцу. – Сказывай, старче.
– А тут, господа почестные, вышло как будто и по Писанию… – раздумчиво продолжал слепец. – Бабы-то Новагорода, точно горшком этим, чертовым, оказались… Со скуки-то по мужьям и сошлись многие из них, и боярские жены, и служилых людей, и смердки, – сошлись, так бы сказать, с молодью безбородою, что еще и в походах не бывали.
– А и не пять – ровно семь годков воевала тогда новугородская рать… – вступился, будто оправдывая что-то, один из молодых певцов. – Так, слыхал, старики баяли.
– Ин пущай семь, – согласился слепец. В эти-ту семь годков жены новугородски и прижили с молодью деток. Как тут быть? Воротятся мужья, найдут приплод… Стало быть, либо в прорубь головой, либо…
– Так все мне и посадница Марфа сказывала, – подтвердил Холмский.
А слепец продолжал:
– Знамо дело: новугородцам не привыкать было стать ушкуи строить… И понастроили, оснастили, запаслись зельем пороховым, пушками со стен городских, захватили рухлядь, весь обиход, казну… помолились у Софей Премудрости Божией да и вышли Волховом-рекою в Ильмень, а Ильменем – в Ловать-реку, а из Ловати переволоклись на Волгу…
– Точно, точно, – подтвердил князь Холмский. – Так и ушкуйники встарь делывали.
– Да и Василий Буслаев со своею удалью… – сказывал хозяин. – Этот и до Ерусалима-града доходил, и в Ердань-реке крестился.
Все гости князя Данилы Щеняти заинтересовались рассказом слепца.
– Ишь ты!.. И впрямь, выходит, Хлынов-град Великому Новугороду брат.
Такой же разбойник, как и старший братец: что от него терпят вологжане, устюжане, каргопольцы, двиняне, даже тверичи – не приведи Царица Небесна!
– Надо бы его ускромнить, как ускромнили Новгород с другим его младшим «братцем» – Псковом.
– А поди и у них есть своя Марфа-посадница, у хлыновцев этих?
– Как не быть: везде баба! Сказано: «сосуд сатаны».
В это время князь Холмский обратился к боярину Шестаку-Кутузову:
– Онамедни на тебя, боярин, намекал великий государь… Кажись, тебя удумал государь послать под Хлынов с ратными людьми.
– Ой ли! – обрадовался тот. – Пошли, Господи! Пора бы и мне косточки поразмять.
В этот момент дверь столовой палаты растворилась и на пороге показался новый гость… Его сухое, пергаментное лицо обличало либо великого постника, либо человека заработавшегося; зато этот усохший, иконописный лик освещали живые, ясные глаза.
– А! Кум Федор! – радостно воскликнул хозяин. – Добро пожаловать… Что так запоздал?
– У великого князя на духу был, – отвечал пришедший, кланяясь гостям князя Щенята.
– Добро… Выпей первее, куманек. На духу у государя был, чаю, умаялся… Он поп у нас строгий.
– А у тебя калики перехожие… – заметил пришедший. – Откедова?
– Их Хлынова-града.
– А!.. Из Хлынова? – И пришедший как-то загадочно улыбнулся.
К нему подошел князь Холмский.
– Ну, друже мой искренний, – сказал Холмский, – ты кстати пришел… Ты и великий книгочей, и голова твоя что вся царская дума… Ты нам порасскажешь про Хлынов-град.
Пришедший снова загадочно улыбнулся, взглянув на калик перехожих.
II. Про святорусскую старину
Пришедший был знаменитый думный дьяк Курицын Федор, правая рука государя и великого князя Ивана Васильевича III.
Когда дьяк поздоровался со всеми и перемолвился несколькими словами, князь Холмский снова заговорил с ним.
– Вот эти калики, – сказал он, – поведали нам, откуда пошла есть вятская земля и город Хлынов, как бы стольной ее град… О том, как беглые новгородцы, вышед своими ушкуями на Волгу, доплыли до Камы-реки… Но что ж смотрела Тверь? Тягалась с Москвою, а не могла перенять беглецов. А Нижний? А Казань?..
– Да Казани в те поры и не было, – отвечал дьяк. – Ее поставили уже татары, что, как стая волков, нагрянули на Русь-матушку. А новгородцы те, войдя в Каму, срубили тогда себе городок… Лесу там не занимать стать. Но тут, как говорит летописец, прослышали они, что еще дале есть привольные земли. Не все, а большая их половина, поплыли по Каме и доплыли до высокой горы. А на той горе, видят, стоит город, укрепа вотяцкая. Как быть? Укрепа сильная! А было это перед днем памяти святых Бориса и Глеба[2]. И начали они молиться угодниками, чтобы помогли им добыть этот город, и угодники помогли.
– Святители Борис и Глеб искони наши заступники перед Господом, – заметил Шестак-Кутузов. – Благоверному Александру Невскому они же помогли на проклятых свеев.
– Ведомо вам сие место? – спросил князь Щенята калик перехожих.
– Наши деды и прадеды назвали тот городок Болванским, – отвечал слепец. – Потому как они нашли тамотка болванов-богов вотяцких. Ныне тот городок Никулиным слывет.
А дьяк Курицын продолжал:
– И построили наши ушкуйнички в том Никулине церковь святых Бориса и Глеба, памятуючи их помощь себе. А те из них, беглых новугородцев, что первыми было осели на Каме, проведав о сем, поплыли вверх по Каме еще дальше, из Камы вошли в реку Вятку. Там в те поры сидели черемисы, и укрепа у них была городок Каршаров…
– Ладно, – перебил повествователя хозяин, – у тебя поди в горле пересохло…
Дворецкий тотчас налил дьяку чару вина и подал с поклоном.
Выпив чару, Курицын продолжал, точно читал по книге:
– Как добыть Каршаров? А святые Борис и Глеб на что?
И стали наши ушкуйники молиться угодникам, и угодники помогли. Напустили они на черемис видение, бытто на них идут несметные рати, и убоялись те, и убегли. И из Каршаров стал городок Котельнич.
– Это уже опосля назвали его Котельничем, – заметил слепой калика. – Тамотка нашли наши деды медь и железо и учали делать котлы знатные. С той поры Каршаров и стал Котельничем.
– А что ж Хлынов-град, далеко ли еще до него? – спросил Морозов.
– Близехонько, – отвечал Курицын. – Сейчас доплывем.
И точно: вскоре узрели высокую гору, что при впадении в Вятку-реку реки Хлыновицы. Так они назвали ее потому, что по той реке водились неведомо какие дикие птицы, коих крик пришельцам слышался якобы так: «Хли-хли! Хли-хли!»
– Есть такая у вас птица? – спросил хозяин калик перехожих.
– Може, и есть, батюшка князь, только мы не ведаем, про которую птицу говорится, – отвечали те. – Може, выпь, може гагара…
– Узревши гopy над рекою, – продолжал дьяк, – ушкуйники и возлюбили то место. И бысть новое тут чудо. Неведомо откуда пригнала, надо полагать, Небесная сила к тому месту такое великое множество готовых бревен, что было из чего срубить и детинец, и земскую избу, и церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня…
Боярин Морозов не вытерпел… Он ударил кулаком по столу и горячо проговорил:
– Нет, князья и бояре!.. Не Небесная то сила пригнала к ним те бревна, а сила нечистая. Коли Господь стал бы помогать бабам, которые закон поломали, мужей обманули, казну покрали! Знаю, нечистая сила… А все бабы сосуд сатаны! Стали бы угоднички помогать блудницам вавилонским, ни за какие молебны! А откедова они себе ионов добыли? Тоже, чаю, беглые… да с чужими женами.
В это время дворецкий тихонько доложил что-то своему господину.
– Гости мои дорогие! – обратился хозяин к пирующим. – Прослышала моя благоверная про ваш приход ко мне и похотела сама почтить вас медами сладкими.
– Слава, слава княгинюшке на добром хотении! – воскликнули все разом.
И тотчас из внутренних покоев дородная княгиня выплыла, точно лебедь белая, а за нею холопы с подносами, уставленными чарами с медом, и началось потчеванье с поклонами.
Угощая гостей, княгиня с любопытством поглядывала на калик перехожих, ради которых, собственно, она и вышла.
– Поднесите и странничкам, каликам перехожим, – сказала она холопам, обойдя с ними всех гостей.
Выпили страннички. Зрячие лукаво переглянулись, а слепец спросил:
– Про старину молвишь, княгинюшка?
– Про старину, старче Божий, – был ответ.
По струнам домры тотчас ударили пальцы старшего из калик перехожих – неожиданно сильные для старика быстрые пальцы, и он запел протяжно, торжественно, а зрячие подхватили:
Как на славной было, братцы, на Сафат-реке.
Нездорово, братцы, учинилося.
Помутилась славная Сафат-река,
Помешался славный богатырский круг:
Что не стало большого богатыря
Старого удала Ильи Муромца!
Уж вы, братцы, вы, товарищи!
Убирайте-ка вы легки струженьки
Дорогим суконцем багрецовыим,
Увивайте-ка весельчики
Правитским красным золотом,
Увивайте-ка укрюченьки
Цареградским крупным жемчугом, —
Чтобы по ночам они не буркали,
Чтобы не подавали ясака
К тем алым людям – татаровьям…
Все сосредоточенно слушали стройное, за душу хватающее пение, княгиня сидела пригорюнившись и тяжко вздыхала, точно в церкви «на страстях». Это пелась былина о том, «как перевелись богатыри на святой Руси…».
Выехали в чисто поле все семь могучих богатырей с Ильей Муромцем во главе, и едва всесветный хвастун Алеша Попович громко воскликнул: «Подавай нам силу хоть Небесную, мы и с тою силою, братцы, справимся», как навстречу им «двое супротивников»… То были ангелы, и богатыри их не узнали. Завязался бой. Разрубил одного Алеша, а из одного стало двое!
Сколько богатыри ни рубили супротивников, а число их все удваивалось…
И богатыри от ужаса окаменели!
Калики перехожие кончили каким-то стоном:
С тех-то пор могучие богатыри
И перевелися на святой Руси!
Тут богатырям и старинам конец…
Княгиня, подперев щеку рукой, горько плакала…
III. Хлынов справляет Радуницу
Мы в Хлынове…
Над городом белая, ясная ночь севера, когда заря с зарею сходится. С ближайшего луга, что упирается пологим берегом в реку Вятку, несутся звуки веселых песен и визг «сопелий и свистелей», прерываемый иногда глухим гудением бубна. Слышны мелодичные женские хоры вперемежку с мужскими. Это хлыновцы справляют веселую Радуницу[3], канун рождества Иоанна Предтечи.
В это время в самом городе мимо церкви Воздвижения Честнаго Креста, тихо бормоча про себя, пробирается старичок в одежде черноризца и с посохом в руке.
– Никак блаженный муж Елизарушка? – окликнул его женский голос.
Старик остановился и радостно проговорил:
– Кого я зрю! Благочестивую воеводицу Ирину… Камо грядеще в сию бесовскую нощь?
– И не говори, родной! И так-то горе на душе да думушки невеселые, а тут эта Радуница спать не дает. А иду я за моей ягодушкой Оничкой: убивается она по батюшке, так и пошла, чтобы горе размыкать, в церковь, помолиться и поплакать. Уж так-то она сокрушается по отце. А ты зачем в город да еще и на ночь?
– Бегу от беса полунощно: эти сопели да свистели с бубнами изгнали меня из моего скитка. Иду я теперь и повторяю про себя святые словеса отца Памфила, игумена Елизаровой пустыни: «Егда бо придет самый праздник Рождества Предтечева, когда во святую сию нощь мало не весь град возметется и в селях возбесятся в бубны и в сопели, и гудением струнным, и всякими неподобными играми сатанинскими, плесканием и плясанием, женам же и девам главами кивание, хребтами вихляние, ногами скакание и топтание… ту же есть мужам и отрокам великое падение, ту же есть на женское и девичье шатание блудное им воззрение, такоже есть и женам мужатым осквернение, и девам растление…»
– Ох, уж и не говори, Лизарушка-свет, – набожно качала головой та, которую назвали воеводицей. – На свет бы не глядели мои глазынки. А тут мой-то как в воду канул, с самого светлаго праздничка не подал о себе ни единой весточки.
– Да с кем, матушка? Да и то молвить: вить они в Казани около царя Ибрагима долгонько околачивались, договор с ним учиняли: стать заодно супротив князя московского Ивана Васильевича. Потом же в Москву отправились узнать-прознать обо всем…
– А коли мово-то с товарищи спознают там?
– Как их спознать? На Москве кого нет!
– Хоть и сказывал мне Исуп Глазатый, что, едучи с Москвы к Нижнему, он сустрел их на пути во образе калик перехожих, а все страшно.
– Точно, матушка, – подтвердил старичок, каликами перехожими они к Москве путь держали. А царь-от Ибрагим и грамоту им дал с тамгою, плечо о плечо татаровям с хлыновцами добывать Москву. А все же не одобряю я сего. Хоша Пахомий Лазорев и похвалялся: «Давно-деи мы разве Золотую Орду пустошили, стольный их град Сарай на копье взяли и разорили? А Москва-деи Сараю сколько годов кланялась, дань давала, а московские князья холопами себя у тех ханов почитали… Не устоять-деи Москве супротив Хлынова и Казани.
– Ох-ох! – скорбела воеводица.
В это время из церкви вышли две девушки.
– Вот и Онюшка с Оринушкой…
Одна из девушек была белокурая красавица, высокая, стройная, с роскошною льняною косой, мягким жгутом падавшею до подколенных изгибов. Что придавало ее миловидному личику особую оригинальность и красу – это ясные черные, детски невинные глаза под черными же дугами бровей. Это и была Оня, дочь воеводицы.
Другая девушка была полненькая, черненькая, с синими, как васильки, глазами. Когда она улыбалась, сверкали ровные и белые, как кипень, зубки. Эта была Оринушка Богодайщикова, приятельница Они.
Обе девушки подошли под благословение старичка.
– Здравствуйте, девоньки, – ласково заговорил он, перекрестив истово и погладив наклонные девичьи головки. – Молились, деточки?
– Молились, батюшка, – отвечали они.
– Благое дело творили, детки, – похвалил старичок. – А то, вон там, невегласи, вишь, как бесу молятся, – кивнул он головой по тому направлению, откуда неслось пение и гудение веселой Радуницы. – Ишь расходилось бесовское игрище!
А «бесовское игрище» было, по-видимому, в самом разгаре. То веселились дети природы, совершая обрядовый ритуал, как во время Перуна, который, казалось, на мольбы новгородцев «выдибай, Боже!» сжалился над детьми природы, выплыл на берег Волхова и переселился на берега Вятки, где и ютился в зелени лугов града Хлынова.
Теперь бубны перешли в нестовое гудение, а пение в «неприязнен клич». То уже была оргия несдерживаемой страсти: «хребтами вихляние, ногами скакание и топтание», женское и девичье «шатание» – бал детей природы, только не в душных залах, а среди цветов и зелени лугов, под бледным северным небом, которое, казалось, благословляло их…
– Про батюшково здоровье молилась, миленькая Онисьюшка?
– Про батюшково, дедушка, – отвечала, потупляя лучистые глаза, Оня.
Но если б через эти лучистые глаза можно было заглянуть в девичье сердце, то там, рядом с лицом старого батюшки-воеводы, отразилось бы другое бородатое лицо, полное мужественной энергии. Но об этом знала-ведала только подушка. Оня да ее сорочка у сердца, трепетавшая при мысли об этом бородатом лице…
– И ты, девинька Оринушка, во батюшков след поклоны клала у Честнаго Креста Господня? – спросил старичок и у другой девушки.
– Да уж и не ведаю, дедушка, в котору сторону след батюшков, к Котельничу ли, ко Никулицину ли али ко Казани, – отвечала девушка.
Мать Они, воеводица, невольно вздрогнула и стала прислушиваться. С лугов, по-видимому, возвращались праздновавшие Радуницу, и отчетливо можно было слышать протяжное пение незнакомых голосов:
Аще кто из нас, калик перехожих,
Котора калика зоворуется,
Котора калика заплутуется,
Котора обзарица на бабину, —
Отвести того дородна добра молодца,
Отвести далеко в чисто поле:
Копать ему ямище глубокое,
Во сыру землю по белым грудям.
Чист-речист язык вынять теменем,
Очи ясныя – косицами.
Ретиво сердце промежду плечей…
Казнена дородна добра молодца
Во чистом поле оставити…
И мать Они, и старичок Елизарушка многозначительно переглянулись.
– Откуда бы сим каликам быть? – проговорил последний. – Это не из наших: голоса неведомые.
– А может, батюшка с… нашими, с товарищи, – тихо проговорила Оня и вся вспыхнула.
- Евангелие от Фомы
- Москва слезам не верит
- Софисты
- Клеопатра
- Адмирал Ушаков
- Кунигас. Маслав (сборник)
- Король холопов
- Граф Брюль
- Аракчеевский сынок
- Король-Лебедь
- Аттила, Бич Божий
- Катулл
- Князь Тавриды
- Кузьма Минин
- Людовик XIV, или Комедия жизни
- Путь к власти
- Карл Смелый
- Лета 7071
- Искуситель
- Сен-Жермен
- Басилевс
- Навуходоносор
- Тьма египетская
- Квентин Дорвард
- Два Генриха
- Джон Лоу. Игрок в тени короны
- Нерон
- Коварный камень изумруд
- Императрица семи холмов
- Последние Горбатовы
- Графиня Козель
- За скипетр и корону
- Маркитант Его Величества
- Король Красного острова
- Из семилетней войны
- Филипп Август
- Тиберий Гракх
- Пифагор
- Опимия
- Всадник Сломанное Копье
- Три Ярославны
- Шапка Мономаха
- Метресса фаворита (сборник)
- Знак Зевса
- Разин Степан
- Колыбель богов
- Западный поход
- Охота за Чашей Грааля
- Сагарис. Путь к трону
- Европейские мины и контрмины
- Вольтерьянец
- Лжедимитрий
- Царский угодник
- Апостолы
- Сергей Горбатов
- Мудрый король
- Волею богов
- Скрижаль Тота. Хорт – сын викинга (сборник)
- Василий Тёмный
- Изгнанник
- Тит Антонин Пий. Тени в Риме
- Эсташ Черный Монах
- Орёл в стае не летает
- Фельдмаршал
- Избранник вечности
- Коронованный рыцарь
- За чьи грехи? Историческая повесть из времени бунта Стеньки Разина
- Аракчеевский подкидыш
- Изгоняющий демонов
- Василий Шуйский, всея Руси самодержец
- Гулящие люди. Соляной бунт
- Цицерон. Поцелуй Фортуны
- Королева Бланка
- Цицерон. Между Сциллой и Харибдой
- Сова летит на север
- Басурман
- Польский бунт
- Граф Феникс. Калиостро
- Умереть на рассвете
- Опасный менуэт
- Штормовой предел
- Маленький детектив
- Ох уж эти Шелли
- Зенобия из рода Клеопатры
- Государь Иван Третий
- Пришедшие с мечом
- Огонь под пеплом
- Нашествие 1812
- Вторжение в Московию
- Василевс
- Золотой скарабей
- Названец. Камер-юнгфера
- Преодоление
- Смутные годы
- Преторианцы
- Маятник судьбы
- Остракон и папирус
- Крушение богов
- Последний полет орла