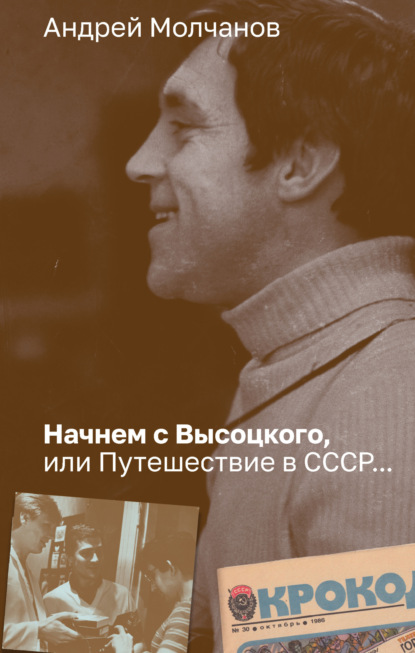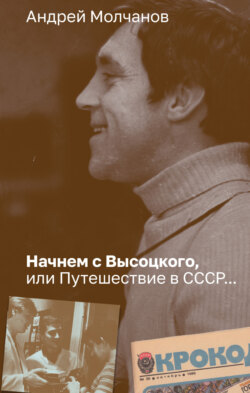
000
ОтложитьЧитал
– А я полагаю так: пусть едет вместе с замполитом в дальнейшие просторы, – подал голос начальник штаба. – Тот позаботится о его дальнейшем прохождении службы!
И в канцелярии грянул демонический хохот.
* * *
Дальнейшие действия комбата отличались какой-то чесоточной поспешностью. Один из прапорщиков-контролеров, выпускник строительного техникума, был с помощью заманчивых посулов и проникновенных увещеваний срочно перевербован в инструкторы, заняв мою должность, а мне поступил приказ ознакомить преемника с планом работ по реконструкции и передать ему все хозяйство.
В тоне приказа сквозило зловещее ликование. Однако если комбат рассчитывал, избавившись от меня, положить тем самым конец какой-то мистической цепи неприятностей, то напрасно: по подписании приказа о моем отстранении от полномочий незамедлительно раздался звонок от начальника караула по охране жилой зоны, и принес звонок ошеломляющее известие о новом побеге.
Один из зэков, воспользовавшись отсутствием препятствий с внешней стороны колонии, снесенных по моему приказу, с бесшабашной простотой и отвагой опрокинул на единственный забор лестницу, в несколько секунд преодолел ее пролеты и сгинул в кустах жасмина, за которыми беспорядочно громоздились плетни и частные огородики. Часовой лишь успел подать неоконченную команду «стой!» и с запозданием пальнуть в воздух.
Полетели по радиосвязи ориентировки спешно выдвинутым засадам на дорогах, дивизионный и полковой командиры не находили себе места, а тут еще масла в огонь подлил «кум», сообщив, что единственная рабочая бригада зэков, посланная на уборку винограда, вернулась вдрызг пьяная, однако степень нетрезвого состояния осужденных значительно меньше, нежели сопровождающего их конвоя.
Меня, как основного подозреваемого в контрабанде горячительных напитков, снова вызвали в канцелярию.
Для начала прошлись по моим реконструкторским инициативам, способствовавшим исчезновению из колонии опасного уголовника, затем последовал незатейливый в своей подоплеке вопрос: посещал ли я «виноградный» объект?
– Там заборов нет, – сказал я. – Лишь веревки натянуты, а по углам часовые.
– Значит, посещали?
– Нет, проезжал мимо. Но откуда алкоголь – знаю.
– Продолжайте, сержант… – благосклонно кивнули мне, в надежде, видимо, на перспективу доноса.
– Результат прошлого урожая, – пояснил я. – Давится виноград, складируется в определенное место под землю, и на следующий год – ваше здоровье!
– В какое-такое определенное место? – попросили уточнения.
– А вот это, – сказал я, – военная тайна.
– То есть?
– То есть меня в нее не посвящали.
– А откуда же тогда вам известно, что…
– У меня была бригада осужденных, мы общались…
– Вон отсюда! Общительный! Дурогон! Срочно сдавайте дела!
– Я понимаю, что не карты…
– Во-он!
Собственно, хозяйство мое состояло из кувалды и каптерки, так что передача эстафеты много времени не заняла; камнем преткновения явился лишь подведомственный мне дизель, обеспечивающий аварийное освещение зоны. Обслуживал дизель один из расконвоированных зэков, так что этой части технического обеспечения зоны я не касался.
Агрегат располагался неподалеку от каптерки, в дощатом сарае, защищавшем его металлическую громаду, водруженную на бетонный постамент, от агрессивных влияний окружающей среды. В сарае также хранились лопаты, канистры с соляркой, а кроме того, присутствовала и некоторая меблировка: солдатская кровать с грязным рваным матрацем, два табурета и складной пластиковый столик.
Прапорщик-преемник настаивал на обучении его пуску дизеля, что выходило за пределы моих навыков, поскольку сарай я посетил лишь раз, в самом начале своей несостоявшейся карьеры инструктора, с уважением потрогав дизель ладонью и тут же махнув на него рукой.
Однако, стесняясь своей некомпетентности и, одновременно раздумывая, с какой стороны подойти к агрегату, я предложил прапорщику, явственно изнуренному похмельем, вначале отметить его вступление на ответственную должность, тем более в качестве контрабандных неликвидов у меня оставалось несколько бутылок «Пшеничной». Водке все равно было пропадать, а потому я решил последовать принципу: коли мышеловка захлопнулась, надо хотя бы доесть сыр…
Мое предложение встретило более чем положительный отклик.
Мгновенно утратив интерес к дизелю, неофит скоренько навестил ближайший частный огород, откуда вернулся с огурцами и арбузом, а я же тем временем взял в караулке хлеб и вскрыл банку рыбных консервов, маркированных как «камбала в томате».
– Чтоб и тебе на новом месте… не припекало! – пожелал мне преемник, коротким профессиональным движением взболтав водку в бутылке и тут же, винтом из горлышка, опустошив всю емкость до капли.
С минуту оцепенело посидев на табурете с тупо устремленным в стекляшку оконца взором, он произнес:
– Видишь, как… Одна крыша у казармы красная, а другая – зеленая… Так и мы – офицеры и прапорщики… Рождаемся и умираем.
В целях снятия стресса, да и вообще для того, чтобы как-то отвлечься от мыслей о мрачном будущем, я тоже позволил себе пропустить стаканчик отравы и, будучи мало искушенным в схватках с зеленым змием, сразу же очутился в ватном состоянии некоего нокдауна в отличие от профессионала-сверхсрочника, неукротимо возжелавшего добавки. Добавку я ему предоставил, и вскоре прапорщик, спотыкаясь и падая, бродил по сараю, взволнованно беседуя не то с самим собой, не то с дизелем.
На том передачу дел я посчитал завершенной и двинулся по качающейся в глазах вечерней дороге в роту, вознося молитву, чтобы на пути моем не встретился никто из перманентно озлобленных и идейно выдержанных командиров.
Пронесло.
Я добрался до койки и провалился в небытие, из которого меня вернули в реальность чьи-то истерические возгласы и требовательные толчки в плечо.
Я испуганно подскочил, не сразу сообразив гудевшей головой, где в принципе нахожусь, и откуда исходят неприятно режущие слух звуки.
В расплывающемся фокусе постепенно сформировался комбат, трясший перед моим носом кулаком и вопрошающий:
– … это случилось, твою мать?! А?!
– Прошу повторить, – попросил я, уясняя, что, во-первых, настало утро, а, во-вторых, я еще до сих пор пьян и дышать надлежит в сторону от начальства, ибо от своего же перегара меня передернуло, как затвор от «Калашникова».
– Как это случилось, твою мать?! – послушно повторил комбат.
– Что, снова побег?.. – спросил я растерянно.
Комбат затрясся.
– Ты накаркаешь! Я спрашиваю, что вы делали в дизельной с новым инструктором?
– Я ознакомил его… Потом ушел.
– А он?
– Остался.
– Ты… – произнес комбат затравленно. – Ты сегодня же отсюда уедешь! А казарму мы освятим!
– А что, собственно… – начал я, но тут комбата позвали к выходу, вероятно, на ковер к начальству, и я не сумел ни сформулировать свой вопрос, ни получить на него ответ.
Ситуацию прояснил дневальный, сообщив, что, оставшись в пьяном одиночестве, мой преемник завалился на матрац с сигаретой, заснул, вызвав пожар, и только благодаря героическим усилиям караула жилой зоны был извлечен из огня и, полузадохшийся, с ожогами, отправлен в реанимацию. На месте же дизельной ныне находится лишь бетонный постамент с обгорелым остовом агрегата.
– Да, это уже система… – заметил я на это философски.
Тщательно почистив зубы освежающей мятной пастой, я направился в столовую, но тут снова последовал приказ явиться в треклятую канцелярию, где я застал комбата, командира полка и незнакомого мне майора.
– Вот он, красавец, – представил меня незнакомцу комбат, разместив ударение в последнем слове на последнем слоге.
– Служу Советскому Союзу… – не к месту откликнулся я.
– Вельзевул, – подал реплику комбат.
Майор, как выяснилось, прибыл из полка для инспекции охранных систем периферийных зон, сообщив мне, что в соседней колонии, отдаленной от нас сотней километров, комиссован по болезни инструктор, и своей властью он отправляет меня на новое место службы.
Я отпросился сходить в свою зоновскую каптерку, дабы собрать хранящийся там жалкий личный скарб и откопать свою финансовую заначку. Кроме того, предстояло зайти на поселковый почтамт: мне пришло заказное письмо.
Отдав квитанцию, получил конверт. Обратный адрес был странный: Москва, улица Шверника… Кто из моих знакомых живет на улице Шверника? Неужели… Кольнуло предчувствие внезапного и весьма приятного сюрприза, и оно меня не обмануло: это был адрес Высоцкого!
Я тут же раскрыл конверт, в нем таились три страницы, исписанные с обеих сторон перьевой авторучкой. Это были тексты песен на армейскую тему: «Мы вращаем землю», «Первые ряды», «Черные бушлаты». Видимо, одна из финальных рабочих рукописей. Я тут же, у стойки, принялся читать, вторым планом сознания понимая, что мой адрес Владимиру дал Золотухин, с кем порой мы кратенько переписывались. Значит, помнит меня знаменитый человек, не забыл в своей славе и величии. После текстов песен шло, собственно, само письмо:
«… Все собирался тебе написать, да не доходили руки: повседневная работа, забота о ближних (все-таки я «семейный» человек), суета сует… Но о тебе не забываю, только думаю, чем ты будешь заниматься дальше, как сложится твоя судьба? Все новые песни переписывать и посылать тебе бессмысленно, вот три – по-моему, близкие твоей сегодняшней жизни, и с которыми стоит «поработать» на досуге. Пиши, мне будет интересно получать от тебя любое известие, т. к. считаю, что оно искреннее и правдивое.
Владимир.»
Аккуратненько убрав конверт в карман галифе, вышел из барака почтамта, тут же, на улице, столкнувшись с Труболетом. Тот был в джинсах, пестрой рубашечке и пижонской черной шляпе с длинными краями.
– Вот так да! – сказал я ему вместо приветствия, несколько обескураженный его вызывающим вольным нарядом.
– Босяк фасона не теряет! Свобода, начальник! – заулыбался он, сияя множеством золотых коронок. – Сегодня откинулся…
– И куда теперь?
– Россия большая, лохов много… – прозвучал ответ. – Кстати, – он сорвал с тополя лист, стерев с новенького остроносого штиблета пятнышко грязи. – В зоне нашли пустые бутылки, «кум» икру мечет, роет, где источник… Леня – в шизо. Так что, глуши мотор…
– Знаю, новость прошлого дня.
На том мы с Труболетом и распрощались.
Вернувшись в казарму, в весьма приподнятом настроении от полученного письма, послужившего мне огромной моральной опорой, я собрал вещмешок и возвратился к комбату за предписанием о переводе и пакетом сопроводительных документов.
Пункт моего назначения в предписании был указан в незатейливой и краткой формулировке: седьмая рота, станица «Николаевская».
– Разрешите идти? – поднес я руку к околышу фуражки.
– Сгинь, нечистая сила! – рявкнул комбат.
* * *
Майор, на чьей машине я отправлялся к новому месту службы, на полчаса заехал в колонию пообщаться с администрацией, а я тем временем попрощался с ребятами из караула, обошел пожарище, погруженный в сентиментальные воспоминания о дизеле, прошедшем лете, своей уголовной бригаде, членов которой мне вряд ли суждено было когда-либо увидеть, да и не стоило, наверное, встречаться с этакими субчиками на свободе…
«Кум», вышедший провожать ответственного полковника, сказал мне на прощание следующее:
– С тобой, возможно, еще встретимся… Хотя, общий режим светит тебе навряд ли. Строгий – это да. А со временем и особый.
– Желаю вам аналогичных благ, гражданин начальник, – учтиво ответил я.
– В машину, сержант! – ледяным тоном подытожил нашу пикировку майор.
И вот, поселок Южный позади… Теперь меня ждала неведомая станица «Николаевская».
* * *
… В Берлине, спустя почти двадцать лет, я спустился в метро и вдруг на платформе среди ожидавших поезда пассажиров, заметил знакомое лицо…
Долговязый небритый мужчина в потертом пальто и в рыжей мохеровой кепке, похожей на неряшливый парик с химической завивкой, напомнил мне почему-то Труболета из моей незабвенной бригады зэка. Да откуда ему только здесь быть? Мужчина, сосредоточенно читавший какую-то книгу, словно почувствовав на себе мой взгляд, обернулся, и в глазах его появилось выражение какого-то обалделого узнавания…
«Неужели?..» – метнулась в моей голове изумленная мысль.
– Хрена себе, – сказал мужчина. – Гражданин начальник. Вот так и встречи на узких перекрестках мироздания…
Подошел поезд, но мы, обоюдно пораженные, оставались стоять на перроне.
– Ну, и какими судьбами? – спросил я.
– Россия-Украина-Польша-Германия, – последовал ответ.
– Полями-лесами?
– Иначе не можем. У меня один документ – справка об освобождении. А ты каким образом?..
– Работаю, – пожал я плечами.
– Я тоже, – сказал Труболет. – Но, в основном, над собой… Вот, – поднес к моему носу потрепанную книжонку, – осваиваю сербский язык. Освою – пойду сдаваться, как беженец из Югославии.
– Хорошая идея, – одобрил я, вспомнив о его таланте полиглота. – А живешь где?
– А вот с крышей пока напряженно, – зябко поежился Труболет. – Страдаю от недостатка полноценных гигиенических процедур. А у меня между тем хобби: я – санитар своего тела.
– Ну, поехали ко мне, – сказал я, располагавший свободной квартирой в Карлсхорсте, откуда только что выехала очередная офицерская семья из покидавшей Германию Западной группы войск. – Найду тебе и ванную, и диван.
– А пожрать? – спросил Труболет. – Я тебе вон сколько курей скормил, не забыл?
– И аз воздам! – согласился я.
* * *
Мне было двадцать лет, когда я возвратился из армии. Вернее, из внутренних войск, а еще точнее – конвойных, сопоставимых с армией лишь по внешним приметам. Вернулся уже матерым волком, знавшим об изнанке жизни Страны Советов не понаслышке. Но главным итогом этого моего военного долгого приключения стал роман «Падение Вавилона» – весьма популярный, изданный и многократно переизданный в девяностые и в начале двухтысячных. В нем мои армейские передряги нашли отражение развернутое и детальное, пускай на фоне уже художественного сюжета с выдуманным героем.
Я помню счастливейший день своей дороги домой: ранним утром, спрыгнув с вагонной полки, я подошел к окну поезда, увидев мчащиеся в стекле родные елки и сосны.
У меня сладко заныло сердце.
Лес! Как он мне был дорог и мил, каким невыразимо прекрасным и волшебным казался после чуждых голых степей с их редкими корявыми деревцами, насаженными по берегам каналов! Лес! С его хвоей, будущей осенней медью вековых дубов, грибами и травами…
Душа моя пела.
«Московский комсомолец»
С «Московского комсомольца», после армии, еще до поступления на заочное отделение Литературного института, началась моя пока еще окололитературная эпопея.
Я написал с десяток юмористических рассказов, обошел с ними редакции журналов и газет, получив вполне справедливые, как уяснил впоследствии, отказы, ибо не блистали рассказики ни новизной сюжетов, ни профессионализмом исполнения, но не отчаялся, познакомился с редакторами, получив от них толковые советы, и продолжил свое безуспешное дело, ничуть не сомневаясь, что когда-нибудь, да пробью непреклонную стену издательского отчуждения. Сектор сатиры и юмора был одним из делянок на литературном поприще российских словесников. Был он узок и заострен тупо: то бишь никаких уколов власти. И существующему порядку вещей никакого урона нанести не мог. Сектор организовывался определенными средствами массовой информации, а именно: журналом ЦК «Крокодил» и хулиганской шестнадцатой полосой «Литературной газеты», именуемой «Клубом 12 стульев». Рынок несколько расширился благодаря «Московскому комсомольцу», газетке в ту пору, характеризуя ее словами Лескова: «полупочтенной и премного-малозначащей», однако по праву считавшейся кузницей литературных талантов, начинавших свой путь в ее редакционных закоулках. Наведавшись туда с одним из своих новоиспеченных опусов, я попал, что называется, «в струю». В газете только что было принято решение создать воскресную страницу сатиры и юмора, утвердив в качестве ее куратора, штатного сотрудника. Стал им Володя Альбинин – журналист хваткий, парень деловой, давно понявший, что недра комсомола – это карьера и теневой бизнес, а не идейная принадлежность к помощникам партии, и, выбивший себе под редакционное начинание должность заведующего отделом. Вокруг себя он сразу же сколотил ядро творческого коллектива, ориентируясь на молодых подвижников, способных за публикации взять на себя муторную организационную работу и доставание материалов. Ими стали Лева Новоженов, Витя Коклюшкин и я. Все мы в итоге обрели известность, к которой с молодым запалом столь вожделенно устремлялись. В авторы с удовольствием напросились и те персоналии, имена которых были на слуху: пародист Иванов, драматург Григорий Горин, пишущий композитор Богословский и великолепнейший Миша Жванецкий, составившие нашу редколлегию. Я поневоле стал обрастать солидными связями, а значит, и перспективами протекций.
Мои рассказики, подправленные совместными усилиями нашей творческой братии, благополучно напечатались, вечерами мы не вылезали из редакции, превратившейся в своеобразный клуб с чаепитиями и крепкими подачами, вскоре портфель предлагаемых материалов заполнился до упора, творческого народа, желавшего с нами сотрудничать, прибывало день ото дня, и мы уже пожинали плоды своего успешного начинания, как отцы-основатели.
Роясь в архивах старых, послереволюционных газет, я обнаружил в них золотые россыпи давно забытых публикаций О’Генри, Булгакова, Ильфа-Петрова и – тогда еще здравствующего Валентина Катаева. Его рассказ «Козел в огороде» об агитаторе, приехавшем в деревню с целью отвадить народ от самогоноварения, но, в итоге, превратившему собрание в диспут о лучшем из рецептов по изготовлению домашнего алкоголя, показался мне просто блистательной вещицей, но как опубликовать ее, не поставив в известность классика?
Я позвонил ему в Переделкино. Так и так, «Московский комсомолец», хотим реанимировать ваше творческое наследие, нет ли чего-нибудь интересного из юмора и сатиры прошлых лет?
– Да приезжайте ко мне, у меня объемный загашник, поищем, – откликнулся чеканный голос, произносящий каждое слово так, как я не слышал доныне – это был несомненно русский язык, но иной, века, скорее девятнадцатого, а не двадцатого, уж очень правильный, с подчеркнутыми ударениями, учтиво-изысканный…
Ученик Бунина, наставник Ильфа и Петрова, друг Булгакова… Я помчался к нему на дачу, сверкая подошвами.
Сухой статный старик с суровым лицом принял меня холодно, подчеркнуто вежливо, как редакционного курьера, однако мне удалось заинтересовать его нашей инициативой, он даже пробежался глазами по свежевыпеченной газетной странице с сатирическими виршами, затем предоставил мне архивные вырезки и чашку крепкого чая с печеньем.
– Сами-то пишете? – спросил без любопытства.
– Пытаюсь…
– Ну-ну…
Газету с его «Козлом в огороде» я не поленился привезти ему лично, даже показал пару своих рассказов, воспринятых им со снисходительным равнодушием, но затем, подумав, он сказал:
– В вас есть наблюдательность, чувство слова… Но вам надо определиться. Вы говорите, что хотите писать прозу? Если так, то эти сатирические вирши – ваш подступ к ней, первый класс школы. Это важный класс. Маленький рассказ включает в себя все: четкий сюжет, отрицание многословия, желательность парадоксального финала, основную идею и сверхзадачу. Все это надо уложить в две-три страницы. Для романа в триста страниц принцип остается тот же. Но его следует отработать на малых формах. Я начинал с того же. И Булгаков, и Ильф с Петровым, и тот же Чехов… То есть, если вы думаете о большой прозе, первоначально вам надо освоить технику этюда…
– Вообще-то, у меня задуман роман…
Он откинулся в кресле, расплывшись в улыбке:
– И о чем?
Я рассказал.
– Ну, любопытно… Дерзайте.
– А показать вам отрывки, посоветоваться, вы позволите?
– Ну, почему бы нет? Продолжу свою карьеру главного редактора журнала «Юность» в отставке… Да! – он привстал, дотянулся до конверта, лежащего на столешнице буфета. – Мой вам подарок. Завтра в Центральном доме литераторов премьера фильма «Не может быть!» по рассказам Зощенко. Это – ваш пригласительный. Я тоже там буду, увидимся.
Следующим днем я поехал в ЦДЛ на премьеру. У входа в недосягаемый для меня закрытый писательский клуб, стояли, покуривая, Константин Симонов и Ираклий Андроников – небожители, мимо которых, кивнувших рассеянно на мое подобострастное «здрасьте», я прошел в очаг литературно-киношного бомонда.
Знаменитостей в зале набилась куча, и я, млея, сидел среди них, вспоминая, может быть, не к месту, зону, зэков, казарменные бараки, задубелые руки солдат… Как они там, бедолаги, в продуваемых всеми ветрами степях?
Вступительное слово к фильму дали Катаеву. Я сидел, замирая в восторге от его рассказа о Зощенко, о двадцатых годах, заслоненных уже полувековой историей, и поверить не мог, что еще вчера находился, попивая чаек напротив этого человека, громады, к которому теперь мог приехать домой, как гость, и кто сподобился даже помахать мне рукой со сцены, узрев мою скромную личность среди круговорота сиятельных, известных всей стране, персон.
Я написал около пяти глав своего «Нового года в октябре», приехав с ними к нему в Переделкино. Хотел оставить рукопись, но мэтр сразу принялся за чтение. Затем взял карандаш, кивнул мне стул:
– Рядом садитесь!
А дальше пошел разнос.
Он цеплялся за каждую фразу, он перечеркивал и правил абзацы, виртуозно менял слова, поливая мои промахи неумехи, неточности определений и многословие, ядовитыми комментариями, падающие бальзамом мне на душу, ибо, как опытный портной, он увидел перед собой материал, нуждающийся в перекройке и глажении, но достойный для будущей полноценной вещи, где каждый стежок пригонится к последующему стежку…
– Вы – широко необразованный человек! – говорил он. – И грешите безвкусицей, вам надо через абзац давать линейкой по рукам, как говорил покойный Бунин. Кстати, в отношении меня… И еще: вам надо читать поэзию. Вы совершенно ее не знаете, а это – фундамент прозы. Если в прозе нет поэтики стиха, это просто слова. Поэтом можешь ты не быть, но жить поэзией обязан! Так, – он перевернул лист, – следуем далее по следам ваших литературных испражнений, простите, упражнений…
Через год, в очередной мой визит к нему, смотреть рукопись он не стал, сказал:
– Почитайте вслух.
Я прочел сцену «Ванечка и Прошин».
Он сидел, раскачиваясь в кресле в такт моим фразам, с непроницаемым отвердевшим лицом. Когда я закончил, произнес веско, с ноткой удивления:
– Хорошо!
Гонорары в «Московском комсомольце» были стабильными, но хилыми, и, прийдя к выводу, что большие люди должны иметь большие деньги, а маленькие – много маленьких, я печатался в периферийных газетах, с удовольствием, хотя и за гроши, публиковавших столичных авторов, а, кроме того, Лева Новоженов, крутившийся в Останкино, где впоследствии стал популярным телеведущим, оказал мне протекцию на Гостелерадио, в редакции развлекательных программ, познакомив меня с ответственным тамошним начальником – Сашей Вячкилевым, также пописывающим сатиру и вхожим в наш круг.
От Саши зависело многое. Он ставил в эфир рассказы, зачитываемые известными актерами, курировал «сетку» передач и распоряжался заявками на сценарии, чье воплощение в текст, далее зачитываемый дикторами, оценивался в авторские гонорары, эквивалентные средней зарплате младшего научного сотрудника.
От чиновной, чисто выбритой пропагандистской братии, щеголявшей в костюмах и галстуках, Саша резко отличался своим внешним видом: был длинноволос, обильно бородат, ходил по учреждению в потертых мешковатых джинсах, вязаных кофтах, свитерах, и чем-то напоминал лешего среди блистательных русалок – подчиненных ему музыкальных и литературных редакторш, одетых по последним парижским модам, в золоте колец и обрамлении замысловатых причесок. Старшей среди редакторш была элегантная Регина Дубовицкая, ежедневно отбивавшаяся от ухаживаний местной наглющей журналистской братии.
Вскоре подсобная работенка на радио превратилась в сытую, но ненавистную поденщину. Однако затягивающую в свой омут необходимыми для жизни дивидендами. Кроме того, я успел жениться, устроиться на стабильную службу в организацию «Интеркосмос», и теперь от меня требовалось содержать семью, машину, откладывать деньги на отпуск и задаривать начальство на основной работе, дабы оно сквозь пальцы смотрело на мой более чем вольный график посещения службы и ставило визы на мои выездные документы в заграничные командировки в качестве переводчика с английского. Язык я знал с детства, благодаря усилиям родителей, тянулся к его глубокому изучению постоянно, а, кроме того, покрутившись в среде высококвалифицированных технарей, работавших у отца в конструкторском бюро, перенял у них массу специфических терминов, а потому считался переводчиком жизненно необходимым в отличие от иных, хорошо язык знавших, но в потрохах космической аппаратуры и ее устройстве не разбиравшихся в принципе. Мной же эти знания, пусть и поверхностные, усваивались органично, походя.
Очередное утро. За окном – зима, черные стволы деревьев, паутина ветвей на серо-голубом фоне зари… Гашу настольную лампу. Рассветные сумерки лилово ложатся на лист бумаги.
Сижу, с озлоблением сочиняя «подводку» к радиопередачке, должной сегодня до полудня оказаться перед очами редактора. «Подводки» – это то, что слащавыми голосами повествуют ведущие в интервалах между рассказиками, байками и песенками, передачку составляющими. Если рассказик, к примеру, содержит идейку труда и лени, как тот, что я выбрал сейчас, то предварительно и вскользь следует намекнуть, что речь пойдет о труде и противлении труду и, последнее – плохо. При этом желательно, чтобы в «подводке» присутствовала репризочка, пословица или же краткое соображение по данному поводу некоего писателя или философа, что ценится порой дороже легкомысленной репризы.
В шпаргалке, именуемой сборником «Крылатые слова», ничего подходящего не обнаруживается.
Тогда, страдая от жуткого недосыпа, пытаюсь вспомнить что-либо сам. Из памяти ничего, кроме «Без труда… рыбку из пруда», не выуживается. Выхода нет, приходится прибегнуть к запрещенному, хотя и часто используемому мной, приемчику. Досадуя на неначитанность свою, цитату из классика выдумываю сам. Пишу так: «Плоды труда ярки и вкусны, плоды безделья – пресны и бесцветны».
Афоризм от края до края перенасыщен дидактикой, но – сойдет.
Таким образом, ведущий произнесет следующее: «Как заметил древний философ…» – ну и далее – сентенцию. Остается надеяться, что принуждать редакцию конкретизировать авторство этого перла радиослушатели просто поленятся. Ну-с, и последнее: «До свидания, друзья! До новых встреч!»
Вроде бы все, свобода.
Домашние мои, судя по голосам из кухни, сопению чайника и хлопанию дверцы холодильника, приступили к завтраку. Я достаю скрепку, защипываю рукопись и, удовлетворенно потягиваясь, встаю из-за стола, думая, как удивительны превращения написанного мною в радиоволны, затем в почтовый перевод и, наконец, в деньги – законодателя метаморфоз.
На радио получаю пропуск в окошечке и поднимаюсь к Саше Вячкилеву. Мы сразу идем в буфет, берем по чашечке кофе, обсуждаем, что придется, выкуриваем по паре сигарет на черной лестнице, где заодно происходит и читка моей свежеиспеченной передачки. Вымарывается две фразы, где фигурируют термины «хрустальная люстра» и «колбаса». Термины, посвящает меня Саша в служебный секрет, находятся в списке запрещенных радиотелевизионной цензурой тем. Хрусталь – это, дескать, пропаганда роскоши и мещанства, неприемлемых для строителей коммунизма, а колбасы в стране не хватает, и потому возможны негативные подсознательные реакции у множества слушателей, кому колбасу заменяет картошка. Несложно следовать рекомендациям цензуры, когда буквально за гроши в служебной столовой тебя кормят так, как на месячную зарплату идеологического работника Вячкилева не пообедаешь и в престижных ресторанах. Лично я, дабы перекусить в здешнем ведомственном общепите, порой пилю через весь город, пару раз в неделю устраивая себе пиры горой.
Далее передачку просматривает шеф, главный редактор, и выносит окончательный приговор: «Пойдет». Шеф также ставит мне в вину, что в последнее время я пишу для них редко, а хотелось, чтобы почаще, я обещаю, что будем стараться, глупо улыбаюсь и сматываюсь, наконец. Сам же решаю: пока эта писанина не выела мозги и не испортила перо, надо кончать! Любая работа по жестко заданной программе для художника все равно, что низкооктановый, экономичный бензинчик для двигателя, рассчитанного на высокую степень сжатия. И хотя на дешевом горючем движок тоже тянет, все равно до срока запорется. Постоянно выгадывая на мелочах, всегда проиграешь в главном. Но движок-то ладно, железо; капремонт – и нет проблем, а вот если себя запорешь – хана, это, как говорится, восстановлению не подлежит.
Путь мой лежит в центр Москвы, к памятнику Юрию Долгорукому, возле которого, будучи в сержантской «учебке», я стоял на посту во время майской демонстрации трудящихся, бредущих с лозунгами, флажками и воздушными шариками в сторону Красной площади, к Мавзолею, под покровительственные взоры стоящих на его верхотуре членов Политбюро, одетых в одинаковые номенклатурные пальто и шляпы.
По правую долгорукую конечность памятника располагался престижный домина, во дворе которого, в железных частных гаражах трудился мой знакомый – Валера Раскин, в миру – скромный инженер одного из сотен оборонных «ящиков», то бишь секретных предприятий.
Валера, головастый рукодельник, в свободное от службы время занимался ремонтом машин, глубоко и всесторонне в их механизмах разбираясь. Более того. Уяснив, что в отечественных «Жигулях» наиболее уязвимой деталью, быстро выходящей из строя, является крайне дефицитный распределительный вал, он регулярно объезжал автосервисы, скупая за копейки у механиков эту автомобильную принадлежность, вышедшую из строя и предназначенную для помойки. Далее, в своем «ящике», на секретной военной аппаратуре он реставрировал изношенные валы, напыляя на стертые поверхности прочнейший титановый слой, полировал их, и ставил всем желающим, очередь из которых не иссякала. При этом – давая на свое изделие пожизненную гарантию.
На данный же момент Валера регулировал карбюратор «Мерседеса» космонавту Севастьянову, проживающему в доме у памятника.
Космонавт доверял квалификации Валеры больше, чем мастерам из специализированного автосервиса, куда простым смертным путь был заказан, ибо оплаты ремонтов и запчастей производились в твердой валюте, уголовным кодексом разрешенной к обороту среди граждан в обмен на тюремный срок. Да и брал Валера за труды скромными рублями также в скромном количестве.