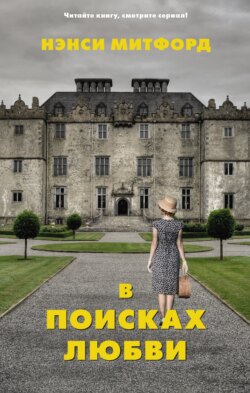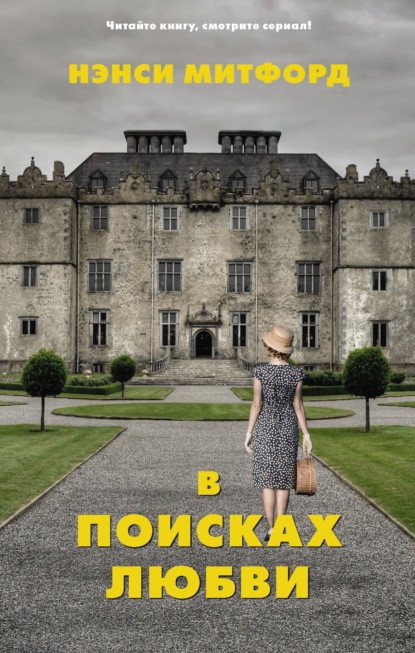© Nancy Mitford, 1945
© Перевод. Н. Кудашева, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
1
Сохранилось фото тети Сэди и ее шестерых детей, сидящих за чайным столом в поместье Алконли. Стол, как было всегда и будет впредь, стоит в холле, перед громадным камином. На фотографии ясно видна висящая на стене саперная лопатка, которой в 1915 году дядя Мэттью, одного за другим, перебил восьмерых солдат, выползавших из немецкого блиндажа. Лопатка, до сих пор испачканная кровью и прилипшими к ней волосами, когда мы были детьми являлась предметом нашего восхищения. Неизменно красивое лицо тети Сэди на фотографии кажется необычно округлившимся, волосы – необычно распушившимися, а одежда – необычно неряшливой, но это, безусловно, она – сидит и держит на коленях утопающего в кружевах Робина. Она как будто не вполне понимает, куда пристроить головку ребенка, а за пределами кадра явно присутствует няня, ожидающая момента, чтобы его забрать. Остальные дети, от одиннадцатилетней Луизы до двухлетнего Мэтта, в нарядных платьях и костюмах или оборчатых передничках, сидят вокруг стола, держа, в зависимости от возраста, чашку или кружку и таращась в камеру широко распахнутыми глазами. Губы детей сложены в круглый бантик и выглядят так, будто во рту у них никак не растает кусочек масла. Вот они, впечатавшиеся в этот момент, как мухи в янтарь. Камера щелкнет, а потом жизнь покатится вперед (минуты, дни, годы, десятилетия) и понесет их все дальше и дальше от этого счастья, обещаний юности, надежд, которые, вероятно, возлагала на них тетя Сэди, и тех мечтаний, которыми грезили они сами. Я часто думаю, что нет ничего столь же мучительно грустного, как такие старые семейные фото.
В детстве я проводила свои рождественские каникулы в Алконли, так уж было заведено. Некоторые из этих праздников проносились мимо, не оставляя о себе каких-то значимых воспоминаний, другие же были отмечены бурными событиями и выделялись из общего ряда.
Например, был случай, когда загорелось крыло здания, в котором жили слуги. Было и такое, что мой пони завалился на переправе и чуть не утопил меня в ручье (вскоре его оттащили, но говорят, что я уже пускала пузыри). Была еще и драма с десятилетней Линдой, совершившей попытку самоубийства, чтобы воссоединиться со старым вонючим бордер-терьером, которого пришлось застрелить дяде Мэттью. Она набрала и съела полную корзинку тисовых ягод. Но няня застукала ее за этим занятием и заставила в качестве рвотного выпить воды с горчицей, после чего Линда заработала выговор от тети Сэди и подзатыльник от дяди Мэттью, была уложена в постель на несколько дней и получила во владение щенка-лабрадора, который вскоре занял в ее сердце место старого бордера. Не такой уж плохой вариант наказания, на мой взгляд. Хуже получилось, когда Линда, будучи уже двенадцатилетней, рассказала пришедшим на чай соседским девочкам, откуда, по ее мнению, берутся дети. Эти сведения в изложении Линды были настолько шокирующими, что ее гости покинули Алконли с диким воем, подорванным психическим здоровьем и в значительной мере утраченными шансами на нормальную интимную жизнь в будущем. Расплатой стала серия ужасных карательных мер – от нешуточной порки, осуществленной дядей Мэттью, до запрета в течение недели обедать за общим столом. Незабываемыми также стали каникулы, когда дядя Мэттью и тетя Сэди уехали в Канаду. Дети Рэдлеттов каждый день мчались за газетами, в надежде прочесть, что корабль их родителей пошел ко дну вместе со всеми пассажирами; они жаждали стать круглыми сиротами – особенно Линда, которая так и видела себя в роли главной героини книги «Вот, что сделала Кэти»[1], берущей бразды домашнего хозяйства в свои маленькие, но умелые ручки. Корабль не встретился с айсбергом и выдержал атлантические штормы, но зато мы получили чудесные каникулы, свободные от правил.
Впрочем, больше всего мне запомнилось Рождество, когда я была уже четырнадцатилетней и случилась помолвка тети Эмили. Тетя Эмили была сестрой тети Сэди, и она воспитывала меня с младенчества, потому что моя родная мать, их младшая сестра, решила, что слишком красива и беспечна для того, чтобы в девятнадцать лет обременить себя заботами о ребенке. Она покинула моего отца, когда мне был месяц от роду, и в дальнейшем убегала так часто и со столь многими и разными мужчинами, что получила среди родных и друзей прозвище – Сумасбродка. Что касается моего отца, то его вторая жена, – а там и третья, четвертая, пятая, – большого желания воспитывать меня, конечно, не имела. Периодически какая-нибудь из этих кратковременных родительниц, как ракета, появлялась на моем горизонте и отбрасывала на него свое волшебное зарево. Все эти женщины были настолько красивы и соблазнительны, что я страстно желала быть подхваченной и унесенной прочь их искрометным огненным шлейфом, хотя в глубине души понимала, как мне повезло, что у меня есть тетя Эмили. Постепенно, по мере того как я росла, они утратили в моих глазах всякое очарование – холодные, серые обшивки потухших ракет ветшали там, где им случилось приземлиться: моя мать с неким майором на юге Франции, а отец, распродавший из-за долгов свои поместья, – со старой румынской графиней на Багамах. Окружающий их гламур поблек задолго до моего совершеннолетия, и не осталось ничего, – никакой основы хотя бы в виде детских воспоминаний, – чтобы я могла выделить этих немолодых людей из числа других таких же. Тетя Эмили никогда не была гламурной, но она всегда была мне матерью, и я ее любила.
Однако в то время, о котором сейчас идет речь, я была в том возрасте, когда каждая, даже совсем лишенная фантазии, девочка воображает себя подкидышем королевской крови, индийской принцессой, Жанной д’Арк или будущей русской императрицей. Я тосковала о своих родителях, при упоминании о них напускала на себя идиотский вид, который должен был выражать смесь страданий и гордости, и представляла их себе глубоко погрязшими в романтических и смертных грехах.
Нас с Линдой тогда очень занимали мысли о грехе, и нашим любимым героем стал Оскар Уайльд.
– Но что он такого сделал?
– Я однажды спросила у Па, а он зарычал на меня – боже, это было так страшно! Он сказал: «Если ты еще раз произнесешь в нашем доме имя этого мерзавца, я тебя высеку, слышишь, черт тебя подери!» Тогда я спросила у мамы. Она сделалась такой таинственной и сказала: «Ох, детка, я, право, и сама толком не знаю, но точно это что-то ужасно скверное, хуже убийства. И, дорогая, не говори о нем за столом, хорошо?»
– Мы должны все выяснить.
– Боб говорит, что выяснит, когда поступит в Итон.
– О боже! Как думаешь, он был хуже, чем мои мама и папа?
– Конечно же нет. Ведь хуже некуда. О, тебе так повезло, что у тебя порочные родители.
В то Рождество я одолела шестимильную дорогу от станции Мерлинфорд и, ввалившись из темноты в холл Алконли, была ослеплена электрическим светом. Каждый год происходило одно и то же: я всегда приезжала все тем же поездом, поспевая к вечернему чаю, и неизменно находила тетю Сэди и детей сидящими вокруг стола, под саперной лопаткой, точь-в-точь как на той фотографии. И стол был тот же самый, и та же чайная посуда: фарфоровые чашки, разрисованные крупными розами, блюдо с ячменными лепешками и чайник, тихо побулькивающий над язычками пламени спиртовки. Люди, конечно, постепенно изменялись, дети вырастали и взрослели, в семействе появилось прибавление – маленькая Виктория, которая вперевалку ковыляла по комнате с зажатым в кулачке печеньем. Ее перемазанная шоколадом рожица являла собой кошмарное зрелище, но сквозь эту липкую маску ярко сиял твердый, голубой, бесспорно рэдлеттовский взгляд.
Мое появление вызвало громкий шум отодвигаемых стульев, и стая Рэдлеттов набросилась на меня с мощью, почти граничащей со свирепостью своры охотничьих собак, кидающихся на лису. Кроме Линды. Она обрадовалась мне больше всех, но решила этого не показывать. Когда гвалт утих и меня усадили перед лепешкой и чашкой чаю, она спросила:
– А где Бренда?
Так звали мою белую мышь.
– У нее воспалилась спина, и она умерла, – ответила я. Тетя Сэди с беспокойством посмотрела на Линду.
– Ты что, скакала на ней верхом? – сострила Луиза.
Мэтт, недавно перешедший под опеку французской бонны, подражая ей, пропищал:
– C’était, comme d’habitude, les voies urinaires.[2]
– О боже, – пробормотала себе под нос тетя Сэди.
Крупные слезы закапали Линде в тарелку. Никто не плакал так много и так часто, как она. Ее могла расстроить любая малость. Особенно сильно на нее действовало дурное обращение с животными, и если Линда начинала рыдать, успокоить ее стоило очень больших трудов. Она была нежным и чрезвычайно нервным ребенком, и даже тетя Сэди, имевшая очень смутные представления о здоровье своих детей, знала, что избыток слез не давал Линде уснуть ночью, отвращал от еды и вообще наносил ей вред. Другие дети, особенно Луиза и Боб, которые очень любили подразниться, поддевали Линду как могли и периодически получали нагоняй за то, что вынуждали ее плакать. Книги «Черный красавец», «Старина Боб», «Повесть о благородном олене» и все рассказы Сетона-Томпсона были под запретом в Алконли из-за Линды, которую они в то или иное время довели до отчаяния. Их следовало прятать, поскольку не было никакой уверенности, что, оставленные на виду, они не подтолкнут ее предаться неистовому самоистязанию.
Зловредная Луиза сочинила стишок, который всегда вызывал у Линды реки слез:
Бездомная спичка-сиротка
Лежит одиноко и кротко,
Не хнычет, не стонет,
Слезу лишь уронит,
Несчастная спичка-сиротка.
Когда тети Сэди не было поблизости, дети мрачно декламировали его хором. В некоторых случаях, при определенном настрое страдалицы, им достаточно было лишь посмотреть на спичечный коробок, чтобы полностью ее уничтожить. Однако иногда Линда чувствовала себя более сильной и более способной справляться с жизнью, и в ответ на подковырки у нее из самого нутра непроизвольно исторгался грубый хохот.
Она была не только самой любимой из моих двоюродных сестер, но – и тогда, и многие годы после – самым любимым человеческим существом на свете. Я обожала всех своих кузенов и кузин, однако Линда концентрировала в себе, ментально и физически, самую сущность семейства Рэдлеттов. Правильные черты ее лица, прямые каштановые волосы и большие голубые глаза были как бы главной музыкальной темой, а лица других – лишь ее вариациями. Все они были миловидны, но ни одно не было так самобытно, как у Линды. В ней было что-то яростное, даже когда она смеялась, что делала частенько и всегда словно бы по принуждению, против собственной воли. Этот смех почему-то наводил меня на мысли о молодом Наполеоне, каким его изображают на портретах. Эдакая сумрачная напряженность.
Я видела, что Линда гораздо больше горюет о Бренде, чем я. Все потому, что мой медовый месяц с этой мышью закончился, и мы с ней давным-давно перешли к скучным и бесцветным отношениям, похожим на постылое супружество. Когда у Бренды на спине обнаружилась отвратительная болячка, я лишь из чистого приличия смогла заставить себя обращаться с ней по-человечески. Конечно, испытываешь шок, однажды утром найдя кого-то одеревенелым и холодным на полу в его клетке, но я вздохнула с большим облегчением, когда страдания несчастной наконец закончились.
– Где она похоронена? – яростно пробормотала Линда, глядя себе в тарелку.
– Возле зарянки. Над ней поставлен прелестный маленький крест, а ее гробик обшит розовым атласом.
– А теперь, Линда, милая, – сказала тетя Сэди, – если Фанни допила чай, почему бы тебе не показать ей свою жабу?
– Она сейчас спит наверху, – сказала Линда. Но плакать перестала.
– Тогда скушай горячий тост, он очень вкусный.
– А можно намазать его анчоусовой пастой? – спросила Линда, спеша воспользоваться настроением матери, потому что анчоусовую пасту держали исключительно для дяди Мэттью – она считалась не полезной детям. Остальные демонстративно обменялись многозначительными взглядами, которые, на что и был расчет, были перехвачены Линдой, и та, громко зарыдав, сорвалась с места и кинулась вверх по лестнице.
– Ах, если бы вы только перестали дразнить Линду! – раздраженно пробормотала обычно незлобливая тетя Сэди и поторопилась вслед за дочерью.
Когда она оказалась вне пределов слышимости, Луиза прошептала:
– Если бы да кабы, да во рту росли грибы… Завтра охота на детей, Фанни.
– Да, Джош мне сказал. Он был в машине – ездил к ветеринару.
Дядя Мэттью держал четырех великолепных английских гончих, с которыми устраивал охоту на детей. Двое из нас отправлялись вперед с хорошим запасом времени, чтобы проложить след, а дядя Мэттью и остальные ехали вдогонку верхом в сопровождении собак. Было страшно весело. Однажды дядя Мэттью перенес это развлечение ближе к моему дому и гнал нас с Линдой по пустоши в Шенли, чем произвел грандиозный переполох среди жителей графства Кент, направлявшихся на воскресную службу. Они были потрясены видом четырех огромных собак в бешеной погоне за двумя маленькими девочками. Дядя Мэттью показался им злым лордом из романа, а за мной еще прочнее закрепилась слава сумасбродной и испорченной девчонки, с которой опасно водиться их детям.
В те мои рождественские каникулы детская охота прошла великолепно. Нам с Луизой выпало счастье быть зайцами. Мы побежали по нетронутой земле красивого, открытого всем ветрам Котсуолдского нагорья, стартовав вскоре после завтрака, когда солнце еще висело красным шаром, едва выступившим из-за горизонта, а деревья четко выделялись своими темно-синими ветвями на фоне то бледно-голубого, то лавандово-лилового, то розоватого неба. Пока мы, спотыкаясь, с трудом продвигались вперед и страстно желали обрести второе дыхание, солнце окончательно взошло и засияло. Разгорался прекрасный, по ощущению больше похожий на осенний, чем на рождественский, день.
Один раз нам удалось обмануть гончих, пробежав сквозь стадо овец, но вскоре дядя Мэттью снова навел их на след, и когда мы, изможденные двумя часами тяжелого бега, были всего лишь в полумиле от дома, эти лающие, слюнявые твари все же настигли нас и получили в награду заранее приготовленные и сдобренные многочисленными ласками куски мяса. Дядя Мэттью, в самом лучезарном настроении, слез с коня и остаток обратного пути, как и мы, шел пешком, добродушно болтая с нами. И что самое необычное – он был весьма обходителен даже со мной.
– Я слышал, Бренда умерла, – сказал он. – Считаю, не велика потеря. Эта мышь воняла, как черт. Полагаю, ты держала ее клетку слишком близко к радиатору, я всегда говорил тебе, что это нездорово. Или она умерла от старости?
Обаяние дяди Мэттью, когда он решал его включить, было изрядным, но в те времена он внушал мне животный страх, и я сделала ошибку, позволив ему это заметить.
– Тебе надо бы завести соню, Фанни, или крысу. Они гораздо интереснее белых мышей – хотя, если честно, из всех мышей, каких я знал, Бренда была самой убогой.
– Она была очень скучной, – угодливо поддакнула я.
– Мне нужно в Лондон после Рождества, я привезу тебе соню. Я уже приглядел одну на днях в магазине «Армия и флот».
– О, Па, так несправедливо! – воскликнула Линда, которая ехала на своем пони рядом с нами. – Ты же знаешь, что это я всегда мечтала о соне.
Вопль: «Несправедливо!» извергался юными Рэдлеттами непрестанно. Большим плюсом для рожденных в большой семье является то, что они рано усваивают истину – жизнь несправедлива по своей сути. В случае Рэдлеттов, надо сказать, этот закон почти всегда демонстрировался на примере Линды, любимицы дяди Мэттью.
Сегодня, однако, дядя был сердит на нее, и до меня вдруг дошло, что его странная приветливость со мной и добродушная болтовня о мышах просто имели целью позлить Линду.
– У вас и так достаточно животных, мисс, – проворчал он. – И с теми, какие уже есть, вы справляетесь из рук вон плохо. Не забудьте, что я вам сказал – когда мы вернемся, этот ваш кобель отправится прямиком в конуру и останется там навсегда.
Лицо Линды сморщилось, из ее глаз потекли слезы. Она пинком перевела пони на легкий галоп и поскакала к дому. Оказывается, ее пса Лэбби после завтрака стошнило в кабинете дяди Мэттью, не выносившего нечистоплотности у собак, после чего тот пришел в ярость и постановил, что отныне и навсегда ноги Лэбби больше не будет в доме. Подобное постоянно случалось по той или иной причине то с одним, то с другим животным, и поскольку дядя Мэттью был грозен более на словах, чем на деле, его запреты редко длились дольше одного-двух дней, а потом начиналось то, что он называл ползучей революцией.
– Можно, я впущу его на минутку, пока схожу за перчатками?
– Я так устала – нет сил дойти до конюшни. Пожалуйста, позволь ему остаться, пока мы пьем чай.
– О, я вижу: ползучая революция. Хорошо, на этот раз он может остаться, но если еще раз напачкает, или я застану его на твоей кровати, или он погрызет дорогую мебель (каждое из этих преступлений приводило к изгнанию), я его уничтожу, и не говори потом, что я тебя не предупреждал.
И несмотря на стопроцентную вероятность отмены приговора об изгнании, всякий раз после его вынесения владелица приговоренного рисовала в своем воображении, как ее ненаглядный питомец мается всю жизнь в одиночном заточении холодной и мрачной конуры.
– Даже если я буду выводить его погулять на три часа в день, а еще буду приходить и по часу с ним разговаривать, ему все равно придется двадцать часов сидеть одному и без всяких занятий. О, почему собаки не умеют читать?
Следует отметить, что дети Рэдлеттов придерживались антропоморфного взгляда на своих питомцев.
В тот день дядя Мэттью был в удивительно хорошем расположении духа и, когда мы вышли из конюшни, сказал Линде, которая плакала, сидя в конуре со своим Лэбби:
– Ты что, собираешься весь день держать бедную скотинку здесь?
Позабыв про слезы, словно их и не было вовсе, Линда бросилась в дом, а за ней по пятам понесся Лэбби. Рэдлетты всегда пребывали либо на вершине счастья, либо в черных водах отчаяния, они не ведали среднего уровня эмоционального накала, они либо обожали – либо ненавидели, либо смеялись – либо плакали, они обитали в мире крайних степеней. Их жизнь с дядей Мэттью была чем-то вроде нескончаемой игры под названием «Земля Тома Тиддлера»[3]. Они заходили настолько далеко, насколько им хватало духу, но бывало, дядя Мэттью без всякой видимой причины набрасывался на них, еще не успевших даже переступить границу. Будь они детьми бедняка, их, вероятно, давно забрали бы от такого рычащего, беснующегося, скорого на руку отца и отправили бы в приемную семью, или же сам дядя Мэттью был бы изолирован от них и отправлен в тюрьму за недопустимые методы воспитания. Природа, однако, умеет все расставить по местам: в каждом ребенке Рэдлеттов было достаточно того, что давало возможность выдерживать бури, в которых обычные дети, вроде меня, полностью бы пали духом.
2
Дядя Мэттью меня терпеть не мог, в Алконли этот факт был известен всем. Неистовый и необузданный, этот человек, как и его дети, не знал золотой середины: он либо обожал, либо ненавидел. И чаще, надо сказать, он склонялся ко второму. Его ненависть автоматически распространилась на меня с моего отца, с которым дядя Мэттью враждовал исстари, еще с тех пор, когда они вместе учились в Итоне. Лишь только стало очевидно (а очевидно это стало с момента моего зачатия), что мои родители намерены меня кому-нибудь подкинуть, тетя Сэди захотела взять меня к себе и растить вместе с Линдой. Мы были одногодки, и этот план казался ей разумным. Но дядя Мэттью категорически воспротивился. Он сказал, что ненавидит моего отца, ненавидит меня, но самое главное – вообще ненавидит детей, и так достаточно скверно, что у него есть двое своих. (Он явно не предвидел, что совсем скоро у него их будет семеро. На самом деле, и он, и тетя Сэди жили в состоянии постоянного удивления оттого, что в их доме заполняется так много колыбелек. В отношении будущего тех, кто в них спал, у них, похоже, не было никакой конкретной стратегии.) И я очень благодарна дорогой тете Эмили, чье сердце было однажды разбито неким коварным вертопрахом и которая решила по этой причине никогда не выходить замуж. Она забрала меня к себе и посвятила свою жизнь моему воспитанию. Страстно веря в женское образование, тетя Эмили приложила громадные усилия, чтобы выучить меня должным образом, она даже переехала в Шенли, поближе к хорошей дневной школе. Дочери Рэдлеттов практически ничему не учились. Чтением и письмом они занимались с французской гувернанткой Люсиль и были обязаны, будучи совершенно немузыкальными, «практиковаться» в ледяной бальной зале по часу в день. Не отрывая глаз от стрелок часов, они выстукивали на фортепьяно «Веселого крестьянина» и несколько гамм. Ежедневно, исключая дни охоты, их выгоняли на «французскую прогулку» с Люсиль – и тем исчерпывалось все их образование. Дядя Мэттью терпеть не мог образованных женщин, он считал, что настоящей леди достаточно уметь ездить верхом, знать французский язык и играть на фортепьяно. Ребенком я вполне ожидаемо завидовала сестрам, свободным от кабалы арифметических задач и естественных наук, и в то же время не без самодовольства утешалась мыслью о том, что не вырасту такой малограмотной, как они.
Тетя Эмили нечасто сопровождала меня в поездках в Алконли. Наверное, она считала, что мне веселее находиться там без ее присмотра. К тому же и ей самой не мешало сменить обстановку и, ненадолго отложив повседневные обязанности, съездить на Рождество к друзьям своей юности. В то время ей было сорок лет, и мы, дети, между собой давно и навечно отказали ей в праве соблазняться какими-либо мирскими и плотскими утехами. В этом году она уехала из Шенли еще до начала каникул и планировала забрать меня из Алконли в январе.
Вечером после детской охоты Линда созвала собрание «Достов» (от слова «достопочтенный»[4]). Это тайное сообщество состояло из детей Рэдлеттов и их друзей. Всякий, кто не числился у достов в друзьях, именовался «презренным». Девизом сообщества служил боевой клич «Смерть гадким презренным!». Я тоже принадлежала к достам, ведь у меня, как и у моих двоюродных братьев и сестер, отец был лордом.
Однако существовало и множество почетных достов. Чтобы стать таковым, необязательно было родиться благородным. Как однажды сказала Линда: «Добрые сердца дороже корон, а простая вера дороже норманнской крови». Трудно судить, насколько мы в это верили, в детстве мы были ужасными снобами, но идею в целом мы, безусловно, одобряли. Среди почетных достов вне конкуренции был наш любимый конюх Джош, который стоил множества ведер норманнской крови, а самым презреннейшим из презренных у нас считался егерь Крейвен, против которого мы вели нескончаемую войну не на жизнь, а на смерть. Досты прокрадывались в лес и прятали стальные капканы Крейвена, освобождали зябликов, которых в проволочных клетках, без воды и пищи, он использовал в качестве приманки для ястребов, с почетом хоронили жертв его охоты, найденных в кладовой для дичи, и вскрывали выходы из лисьих нор, накануне так старательно заделанные Крейвеном, прежде чем успевали выпустить собак.
Бедные досты терзались, постоянно сталкиваясь с жестокостью местных нравов, для меня же каникулы в Алконли были истинным откровением, окном в мир настоящей сельской жизни. Мы с тетей Эмили тоже жили в деревне. У нее был небольшой дом в стиле эпохи королевы Анны: красный кирпич, белые панели стен, деревце магнолии у входа и приятный запах свежести. Но наше жилище отделяли от окружающего мира аккуратный маленький садик, чугунная ограда, зеленая лужайка и деревня. Природа этого места сильно отличается от природы Глостершира: она выхолощена, ухожена, обильно возделана и похожа на пригородный парк. В Алконли же лесная чаща подступала к самому дому. Мне нередко случалось просыпаться от пронзительных воплей кролика, в ужасе кружащего, спасаясь от лап горностая, или от странного, жуткого крика лисицы и видеть из окна спальни, как она уносит в зубах живую курицу. Каждую ночь в мое окно доносились первобытные звуки, издаваемые устраивающимся на ночлег фазаном, и уханье бессонной совы. Зимой, когда землю укутывал снег, мы читали на нем отпечатки лап самых разных животных. Часто эти следы обрывались лужицей крови и кучкой меха или перьев – свидетельствами успешной охоты хищников.
В Алконли в двух шагах от дома находилась приусадебная ферма. Здесь, на виду у всякого проходящего мимо, обыденно и просто забивали птицу и свиней, холостили ягнят и клеймили крупную скотину. И даже старый добрый Джош считал пустячным делом по окончании охоты прижечь каленым железом ноги любимой лошади.
– За один раз можно только две, – говаривал он, свистя сквозь зубы, как обычно делал, ухаживая за лошадьми, – не то она не выдержит боли.
Мы с Линдой плохо переносили боль, и нам было нестерпимо сознавать, что бедные животные, претерпев издевательства при жизни, в конце ее принимают мучительную смерть. (Я и по сей день не поменяла своего отношения, а уж в детстве мы были просто одержимы этим.)
Дядя Мэттью, угрожая жестоким наказанием, запретил гуманитарную деятельность достов и был всегда и во всем на стороне Крейвена, своего любимого слуги. Фазаны и куропатки подлежали хранению впрок, а вредители – безжалостному уничтожению, за исключением лис, которым предстояла кончина поинтереснее. Бедные досты подверглись бессчетному количеству порок, неделя за неделей их лишали карманных денег, рано отсылали спать, заставляли просиживать дополнительное время за роялем, но они упорно и храбро не оставляли свою порицаемую и неблагодарную работу. Периодически из магазинов «Армия и флот» в Алконли доставлялись объемистые ящики, полные новых стальных капканов. Сложенные штабелями, они дожидались, пока не потребуются Крейвену (его лесной штаб-квартирой был старый железнодорожный вагон, весьма неуместно расположившийся на прелестной маленькой полянке, среди примул и ежевики). Капканов были сотни, и глядя на них, мы невольно задумывались, стоило ли тратить время и деньги, чтобы использовать ничтожных три или четыре из них. Порой мы находили в одном из капканов пронзительно кричащее животное, и требовалось все наше мужество, чтобы подойти и открыть капкан, а потом наблюдать, как бедолага неуклюже бежит на трех лапах, с висящей жутко покалеченной четвертой. Мы понимали, что, скорее всего, зверь умрет в своем логове от заражения крови. Дядя Мэттью вбивал это в наши головы, не пропуская ни одной страшной подробности неминуемой затяжной агонии, но даже зная, что гораздо милосерднее было бы прикончить мученика, мы никогда не могли отважиться на такое, это было выше наших сил. И без того нас частенько тошнило во время подобных происшествий.
Собрания достов проходили в заброшенном бельевом чулане на верхнем этаже дома – маленьком, темном и чрезвычайно жарком. Как и во многих загородных домах, паровое отопление в Алконли провели на заре его изобретения и за неимоверные деньги. С тех пор оно совершенно устарело. Несмотря на размеры котла, более подходящего для океанского лайнера, и ежедневно потребляемые им тонны кокса, на температуре в комнатах это почти не сказывалось. Все тепло почему-то концентрировалось в бельевом чулане, где можно было задохнуться от жары. Там мы и сидели, примостившись на сбитых из реек полках, и часами толковали о жизни и смерти.
В прошлые каникулы нас всецело поглощала тема деторождения. Об этом увлекательном природном явлении мы были информированы чрезвычайно поздно, долгое время предполагая, что материнский живот разбухает в течение девяти месяцев сам по себе, а затем лопается, как спелая тыква, и извергает младенца. Когда нашему сознанию открылась истина, она немного разочаровала нас и немного подавила интерес до тех пор, пока Линда не раскопала в каком-то романе и не зачитала нам вслух леденящим кровь голосом описание женщины в родах.
– «Она порывисто ловит ртом воздух… Пот льется у нее по лбу, как вода… Крики, подобные крикам терзаемого животного, раздирают пространство… Может ли это лицо, искаженное агонией, быть лицом моей дорогой Роны? Неужели эта камера пыток на самом деле наша спальня, а эта дыба – наша брачная постель? „Доктор, доктор, – закричал я, – сделайте что-нибудь!“ – и ринулся в ночь, вон из дома»… И так далее.
Мы были несколько встревожены, предполагая, что и нам, по всей вероятности, в свое время придется претерпеть эти страшные мучения. Разъяснения тети Сэди, недавно произведшей на свет седьмого ребенка, не очень-то нас успокоили.
– Да, – как-то неопределенно сказала она. – Это худшая боль из возможных. Но забавно, что ты про нее забываешь в промежутке между родами. Каждый раз, как она начинается снова, мне хочется сказать: «О, теперь я вспомнила, больше не надо, прекратите». Но к тому времени, конечно, уже никуда не денешься.
Тут Линда залилась слезами, повторяя, как ужасно тогда должны страдать коровы, и на этом разговор закончился.
Говорить с тетей Сэди об интимном было очень трудно. Всякий раз что-то мешало, и дальше родов и младенцев дело не доходило. В какой-то момент они с тетей Эмили почувствовали, что нам следует знать больше, и, слишком стесняясь просветить нас сами, дали нам почитать учебник.
Так мы набрались некоторых любопытных идей.
– Джесси, – презрительно сказала однажды Линда, – зациклена на этом, бедняжка.
– Зациклена на этом! – фыркнула Джесси. – Никто так не зациклен, как ты, Линда. Стоит мне только взглянуть на картинку в мамином учебнике, как ты заявляешь, что я пигмалионистка.[5]
В конце концов мы извлекли гораздо больше информации из книги под названием «Утки и их разведение».
– Утки могут спариваться только в проточной воде, – через какое-то время объявила Линда. – Ну что ж, в добрый час. О вкусах не спорят.
В тот рождественский сочельник мы все: Луиза, Джесси, Боб, Мэтт и я – набились в бельевой чулан, чтобы ее послушать.
– Расскажи про «возвращение в утробу», – попросила Джесси.
– Бедная тетя Сэди, – сказала я. – Не думаю, что она хотела бы вернуть вас всех обратно.
– Как знать. Поедают же кролики своих крольчат. Кто-то должен объяснить им, что это всего лишь инстинкт.
– Как можно что-то объяснить кроликам? Животные не понимают, что ты хочешь до них донести… бедные ангелы. Вот что я скажу о Сэди. Она хотела бы сама вернуться в утробу, недаром у нее бзик насчет коробочек, это сразу бросается в глаза. Кто еще хотел бы высказаться? Фанни, ты?