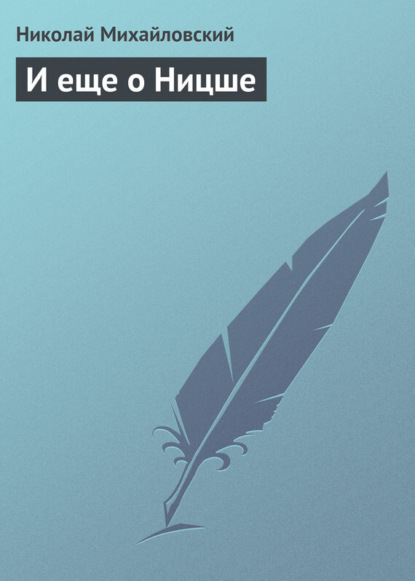000
ОтложитьЧитал
Так приблизительно рассуждает Ницше в «Gotzen-Dammerung». В «Geburt der Tragodie» он освещает Сократа несколько иначе, вернее, с иной стороны. Сократ и здесь является тем же ненормальным, но великим человеком, обозначающим собою поворотный пункт в истории Греции, а через нее и в дальнейшей истории Цивилизации. Но здесь он называется типичным «теоретическим человеком» и оказывается родоначальником, если не оптимизма вообще, то особенного его вида – «теоретического оптимизма». Сократ, полагавший возможным знанием проникнуть в сокровенную сущность вещей и сводивший нравственное зло к умственному заблуждению и незнанию, – Сократ положил основание той доселе длящейся жажде знания, которая создала ряд сменяющих друг друга философских систем, опоясала и перепоясала законами весь мир и выстроила головокружительной высоты пирамиду познанных фактов. Познавательная деятельность признана благороднейшею, даже единственно достойною человека задачею, а способность познания – высшим даром природы; это – наследство Сократа. Даже возвышеннейшие нравственные деяния, волнение сострадания, самопожертвование, героизм выводятся Сократом и его преемниками до сего дня из диалектики знания и сообразно этому объявляются поучительными. Сократово наследство и эта вера во всеисцеляющие свойства знания, в возможность жизни, руководимой исключительно знанием. Эта точка зрения позволяет некоторым отдельным людям замкнуться в узкий круг разрешимых задач, изнутри которого они с веселием смотрят на жизнь: жить стоит, ибо жизнь можно познавать, а в познании заключается высшее наслаждение. В этом и состоит «теоретический оптимизм».
Таким образом, Сократ оказывается родоначальником и пессимизма с его девизом «Жизнь ничего не стоит», и по крайней мере «теоретического» оптимизма, умеющего так или иначе извлекать из жизни радости. Противоречия – совсем не редкость в сочинениях Ницше, а в данном случае противоречие было бы даже вполне извинительно ввиду тех семнадцати лет, которые отделяют «Geburt der Tragodie» от «Gotzen-Dammerung». Но здесь, собственно говоря, нет и противоречия. Как с одного и того же возвышенного пункта реки могут течь в разные, прямо противоположные стороны, так и с Сократа могут начинаться два противоположных течения. С точки зрения Ницше, важно только, что и в том, и в другом случае мы имеем движение вниз, падение, декаданс. «Geburt der Tragodie» посвящена анализу судеб древнегреческой трагедии, и мы не будем вдаваться в специальный вопрос о том, как влияние Сократа гибельно отразилось на этих судьбах и повлекло трагедию к упадку. Мы имеем в виду упадок вообще человечества, на что есть указания и в «Geburt der Tragodie», но в других сочинениях эта сторона дела устанавливается ярче, определеннее, и здесь мы отметим пока только мелкость и непрочность того, что Ницше называет теоретическим оптимизмом. Ему уже Кант подрезал крылья. До Канта «теоретический человек» мог верить в возможность познать и разгадать все мировые загадки и относиться к пространству, времени и причинной связи как к безусловным и всеобщим законам. Кант показал, что эти категории только прикрывают и делают для человеческого познания недоступною истинную сущность вещей. Стоит только сравнить гетевского Фауста, прошедшего все факультеты и в отчаянии отдающегося чертям, с Сократом, чтобы увидать естественный ход и исход теоретического оптимизма. Теоретический человек когда-то бросился в открытое море познания и долго с восторгом плыл в нем дальше и дальше, но, не видя конца плаванию, убедившись, что и нет ему конца, утомившись, затосковал о береге; оптимизм разрешился тоской, меланхолией, пессимизмом. Существуют, однако, и доселе жизнерадостные теоретические человеки, но это или «библиотекари и корректоры, слепнущие от книжной пыли и опечаток», об которых и говорить не стоит, или те гордые, вверху стоящие, об которых Ницше говорит в статье «Vom Nutzen und Nachtheil der Historie fur das Leben» («Unzeitgemasse Betrachtungen»[6], I). Вступление к этой статье начинается цитатой из Гете, которого Ницше вообще чрезвычайно высоко ценит: «Мне ненавистно все, что меня только поучает, не усиливая моей деятельности или непосредственно не оживляя меня».
Мы можем на минуту приостановиться. Цитата из Гете вместе с язвительной выходкой против победоносных немцев, которым Бисмарк заменяет философов, поэтов и хорошие книги, указывает, не вполне, разумеется, точно – потому что точность тут и невозможна – те пределы, в которых Ницше считает жажду знания и возлагаемые на него надежды законными. Когда барабанно-патриотическая песня и личность железного объединителя Германии заглушают и заслоняют всякие умственные интересы, Ницше негодует. Но, с другой стороны, ему, как и Гете, ненавистно все, что только поучает. Отсюда так дурно понятый Максом Нордау скептицизм Ницше по отношению к знанию{2}. Отсюда же странные на первый взгляд слова в предисловии ко второму изданию «Frohliche Wissenschaft»[7]: «Нас не потянет больше на путь тех египетских юношей, которые проникали ночью в храмы, обнажали статуи и старались все прикрытое открыть, вывести на белый свет. Нет, мы перестрадали этот дурной вкус, эту жажду „знания во что бы то ни стало“: мы для нее слишком опытны, серьезны, веселы, глубоки. Мы больше не верим, что истина остается истиной, если с нее снять покрывало. Ныне нам представляется делом приличия не все видеть обнаженным, не все хотеть понимать и знать».
Надо заметить, что все предисловия самого Ницше ко вторым изданиям его сочинений как более поздние написаны особенно странным языком и носят на себе явную печать, если не совсем расстроенного, то, во всяком случае, беспокойного, смятенного духа. Но и здесь, среди разных странных выходок, ведется все та же основная линия, которую, несмотря на все ее извороты и осложнения, можно проследить от первого до последнего сочинения Ницше. Так и только что приведенные странные слова из предисловия к «Frohliche Wissenschaft» имеют свое место в самой сердцевине философии Ницше и получают даже редкое у него систематическое развитие в упомянутой уже части «Unzeitgemasse Betrachtungen». Там, между прочим, читаем: «Историческая точка зрения, если она прилагается к делу без ограничений и с полною последовательностью, подрывает корни будущего, потому что разрушает иллюзии и лишает существующие вещи той атмосферы, в которой они только и могут жить». Что же это за «иллюзии», разрушения которых надо остерегаться, и покрывала, которые не надо снимать с истины? Этот вопрос, любопытный в наше трезвое время вообще, получает особенную пикантность по отношению к Ницше: ведь он, как знает большинство читателей понаслышке, крайний материалист, отвергающий «законы, совесть, веру», разрушитель всех иллюзий. Ведь г. Грот, например, утверждает, что Ницше хочет «дать в жизни человека торжество разуму и трезвому анализу», что он «рационалист», ищущий в разуме последнего критерия истины («Нравственные идеалы нашего времени» в «Вопросах философии и психологии», 1893, январь, стр. 135, 141). И как же не поверить г. Гроту, ex officio[8] поучающему нас по части философии и с кафедры, и в специальном журнале? С другой стороны, однако, как же нам не поверить самому Ницше, когда он объявляет «разумность» Сократа той соломинкой, за которую схватилась морально разлагавшаяся Греция и которая все-таки не спасла ее, а дала новый и притом двойной толчок к упадку; когда он становится на страже «иллюзий» и объявляет частию ненужным и вредным, «неприличным», как он выражается, а частию невозможным снимать покрывало с Изиды? И, повторяю, заметьте, это самая сердцевина всей философии Ницше. Мы значительно приблизимся к правильному пониманию этой философии, если с буквальною точностию повторим определения г. Грота, но с прибавкой отрицательной частицы не: Ницше не рационалист, Ницше не хочет давать в жизни человека торжество разуму и трезвому анализу…