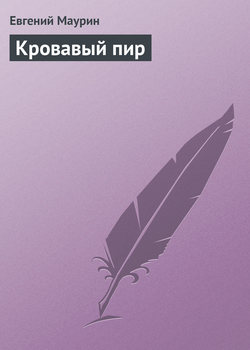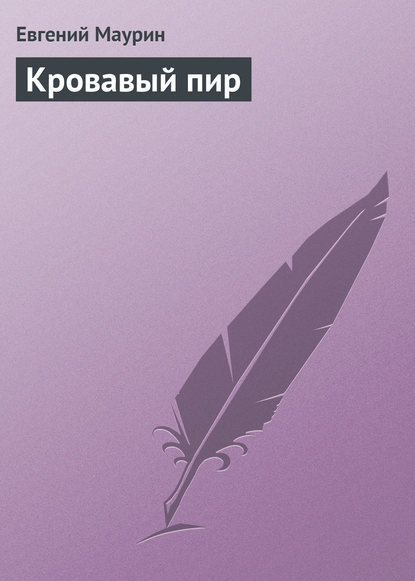IX
Развязка
Шевалье де Бостанкур, один из тех трех негодяев, которые совершили злодейское насилие над Люси! Так вот почему несчастная крикнула: «Это – он!»
Да, теперь все было понятно. И как только раньше не пришло этого в голову ни Робеспьеру, ни Ремюза? Но Робеспьеру все еще хотелось уверенности, и на его расспросы Плэло рассказал ему следующее.
Несколько лет тому назад он был по делам в Бельгии – это было как раз в ближайшие месяцы после того, как совершилось скверное дело над Люси – и попал проездом в маленький городок Намюр. Один из знакомых австрийских офицеров пригласил его зайти в игорный дом, где предстояла потеха: собирались поучить некоего шевалье де Бостанкура. Этот молодчик вот уже второй месяц обыгрывает всех, и барон фон Унгерн хотел дать сегодня доказательства, что Бостанкур – шулер. Доказательства были представлены, и Бостанкура действительно сильно побили.
Когда Робеспьер выслушал это, участь Крюшо была окончательно решена, и хоть одно таинственное дело получило свое объяснение. Зато другому – самому главному, по-видимому, так и не суждено было раскрыться.
А между тем, быть может, Робеспьеру было бы нетрудно добраться до смелого хищника, прикрывшегося личиной Барэра, если бы он как следует сразу же взялся за Крюшо. Стоило ему только приказать подробнее допросить агента об обстоятельствах, при которых протекало выслеживанье Плэло, и Крюшо непременно бы проговорился, упомянул бы имя Фушэ, и тогда дело приняло бы совершенно новый оборот.
На первый взгляд, казалось, вполне естественным, что, распутывая тайну, окружавшую один из эпизодов бегства Плэло, надо было обратиться за дополнительными разъяснениями к тому, кто этого Плэло арестовал. Но как ни просто было подобное соображение, на первых порах оно не пришло в голову Робеспьеру, а потом было уже поздно: Фушэ тоже не дремал!
Для Фушэ, который, как уже знают читатели, вел тонкую и опасную интригу против Робеспьера, было чрезвычайно важно находиться в постоянной связи с Парижем, чтобы иметь возможность вовремя предупреждать разные нежелательные осложнения. Поэтому перед своей командировкой в Лион он позаботился организовать между Парижем и Лионом частную почту, по которой известия передавались со сказочной для того времени быстротой. Считая, что всадник на короткой дистанции может без труда сделать четыре лье в час, он разделил весь путь на пятнадцать приблизительно равных участков и в каждом посадил по доверенному лицу. Как только его главному доверенному в Париже надо было передать в Лион спешное известие, из Парижа стремглав летел всадник с эстафетой. Он сдавал эстафету человеку, дежурившему на первой станции, тот вскакивал на лошадь и летел до второй станции, и таким образом известие почти безостановочно передавалось в Лион, прибывая туда через сутки с небольшим. Такая организация доставки стоила довольно дорого, но недаром же Фушэ, умерев, оставил своим сыновьям только четырнадцать миллионов франков: такой гениальный мошенник должен был оставить по крайней мере миллиард!
С помощью этой почты Фушэ очень скоро узнал, что Крюшо арестован. Это известие сильно взволновало его. Помимо опасений за целость собственной головы, ему, как истинному художнику, было бы жалко неудачным мазком испортить уже законченное великое произведение. Все так хорошо сложилось, и с таким успехом сбылись все предначертания Фушэ! Отец Жером арестован и будет осужден: этим Робеспьер лишается нравственной опоры, так как после «измены» отца Жерома подозрительность диктатора должна непременно возрасти и приблизить его к гибели. Барэр де Вьезак оскорблен тем, что его имя замешано в деле, и сумел взволновать весь конвент, так что Фушэ по возвращении в Париж уже нетрудно будет увеличить ряды своих тайных приверженцев. И вдобавок ко всему этому – целое состояние в виде премии! Как все хорошо сложилось! И вдруг неожиданный, непредвиденный арест Крюшо грозил испортить все. Нет, это надо было предупредить во что бы то ни стало.
Фушэ тут же решил, что надо внушить Крюшо уверенность в спасении, отнюдь не спасая его, однако: к чему оставлять лишнего бесполезного свидетеля? Кроме того, необходимо было ускорить казнь обвиняемых, так как – кто знает? – возможны всякие осложнения. Вдруг конвент вызовет Фушэ для чего-нибудь в Париж, и Плэло признает его?
Фушэ передал своему парижскому агенту все детальные инструкции, и они были в точности соблюдены. Крюшо получил весточку, что его друг стоит на страже и что спасение обеспечено. Время от времени он продолжал получать такие ободряющие весточки, и это вернуло ему надежду. Разве Фушэ не доказал уже своего всемогущества? О, он спасет его из-под самой гильотины!
Поэтому, когда Сен-Жюст вернулся ни с чем из поездки в Роан и Робеспьеру пришла запоздалая мысль допросить Крюшо, от него уже ничего нельзя было добиться. К тому же агенты Фушэ симулировали несколько раз попытки освободить Плэло, и Робеспьеру пришлось решить ускорить суд, не дожидаясь, пока будет выяснен один из героев этой темной истории.
В самом ближайшем времени состоялось заседание революционного трибунала. Скамью подсудимых заняли: безумная старуха Целестина, отец Жером, юная Мари, ее жених – наивный солдатик Огюст Лекорню, граф Плэло и шевалье де Бостанкур. Процесс отличался краткостью. Плэло отказался отвечать на вопросы, заявив, что не признает за какими-то голоштанниками права судить его. Отец Жером подтвердил в нескольких словах свое первоначальное показание и отказался от дальнейшей защиты. Бостанкур-Крюшо отвечал краткими «да» и «нет», ничего от себя не прибавляя. Мари и Огюсту было нечего говорить и не в чем защищаться. А Целестина совершенно не понимала, где она и что с ней происходит.
В восемь часов утра процесс начался, в девять всем обвиняемым был вынесен смертный приговор, а сама казнь должна была состояться через два часа.
Был чудный солнечный день. Легкий морозец подсушил грязь и придал улицам более нарядный вид. Со всех сторон на площадь стекались жадные до любимого зрелища зрители. На деревянном помосте у гильотины копошились палачи, а вокруг этого страшного орудия весело порхали птички, воссылавшие ликующие гимны к безоблачным, кротким небесам.
Осужденных ввели на помост. Первой была очередь старухи Целестины. Безумная никак не могла понять, что от нее требуют, и долго не соглашалась положить голову на плаху, пока рассерженный ее упорством палач не схватил ее за седые волосы и при гомерическом хохоте зрителей не толкнул ее под гильотину. Старуха упала, но так неудобно, что только в два приема удалось отделить ее голову от высохших, изможденных плеч.
Мари и Огюст слились в последнем поцелуе, в котором уже не было ничего земного. Глубокая скорбь читалась в глазах отца Жерома, когда он смотрел на юную парочку. Но палач спешил. При новом взрыве зрителей палач схватил солдатика за плечи и приказал ему приготовиться. Какой-то досужий остряк из толпы звонко крикнул:
– Ну-ка, брат, поцелуйся-ка теперь с тетушкой гильотиной!
Эта шутка была тоже покрыта одобрительным смехом толпы.
Увидев, что ее возлюбленного тащат под нож, Мари дико вскрикнула и сделала движение, готовая кинуться к нему. Один из помощников палача грубо схватил ее за плечи и так сжал, что лицо девушки потемнело от боли. А все тот же досужий остряк из толпы крикнул:
– Не торопись, красавица! Не всем же сразу! Погоди, успеешь и ты! Тетка гильотина никого не обижает!
Да, добрая «тетушка-гильотина» никого не обидела! Щелкнул нож, и вслед за головой Огюста в корзину полетела голова Мари. Пришла очередь отца Жерома.
Привычным жестом священника отец Жером благословил толпу. По рядам зрителей пробежала волна недовольства, послышался протестующий гул голосов:
– Уберите эту обезьяну, что он колдует! Он насылает на нас несчастья!
– Господи! Прости им! Не ведают, что творят! – страдальчески взмолился отец Жером, повторяя крестную молитву Спасителя, и покорно положил голову на плаху.
С надменной, пренебрежительно улыбкой подошел к гильотине граф Арман Плэло. И столько обидного презренья, столько дерзкого вызова было во всей его фигуре, что толпа зрителей взвыла, может быть, только теперь почувствовав, что из всех казненных лишь этот – ее действительный, исконный, прирожденный враг…
Крюшо, стоявший последним в этой страшной очереди, не смотрел на казнь. Его взгляд с безумной смесью отчаяния и надежды бегал по толпе, густо обступившей помост. Вдруг он увидел Гаво, стоявшего в первом ряду и смотревшего на него со спокойной, ободряющей улыбочкой. Вся кровь хлынула в голову Крюшо, он даже зашатался от волнения. Гаво здесь, он так спокойно стоит, так весело улыбается! Значит, помощь близка, значит, не о чем и беспокоиться!
Вдруг он почувствовал резкий толчок в бок.
– Ну ты, поторапливайся! – грубо крикнул ему палач, хватая за руку и подтаскивая к гильотине.
И вдруг сразу Крюшо понял все – понял, что не ждать ему пощады от Фушэ, что его обещания были сплошной комедией, что Фушэ только и надо было, чтобы он не проговорился.
– Постойте! – отчаянно крикнул он упираясь. – Я все скажу теперь, я…
– Ладно! Рассказывай на том свете, что хочешь! – грубо оборвал его палач и подтащил под нож.
Один нажим рычага – и голова Жозефа Крюшо-Бостанкура свалилась в ту же корзину, в которой уже валялись пять других голов. У корзины узенькой полоской тянулась кровавая лужа, от которой тоненькой струйкой к морозным небесам поднимался пар. Толпа медленно расходилась. Палач с помощниками деловито чистил и смазывал гильотину. Правосудие восторжествовало.
Когда Фушэ вернулся из Лиона, ему был устроен торжественный прием. Ведь ценою многих, очень многих ведер крови он восстановил в Лионе спокойствие, и каждая отрубленная голова была лишним лучом в его патриотической славе. Конвент декретировал ему благодарность за понесенные труды, клуб якобинцев избрал его своим председателем.
В один из первых дней по приезде Фушэ разыскал и навестил «вдову» казненного Крюшо. Карающий меч республиканского правосудия пощадил ее – по забывчивости ли или из уважения к Гаспару Лебефу, но Робеспьер не поднял вопроса о привлечении ее к суду, хотя налицо была такая тяжкая вина, как близость ее к Крюшо: ведь казнили же солдатика Огюста Лекорню лишь за то, что он был женихом Мари Батон. Но Адель отнюдь не питала за это особой благодарности к Робеспьеру. Даже наоборот – эта неблагодарная говорила о мести и возмездии. Поговорив с нею каких-нибудь четверть часа, Фушэ ушел, с довольным видом потирая руки. Ни один козырь не пропадал даром в его сложной игре. Даже непредвиденная казнь Крюшо должна была принести обильную жатву!
Совершая далее свой обход, Фушэ зашел к Било-Варену и Вьезаку, поговорил с ними о «прискорбном инциденте, в котором Робеспьер не побоялся замешать имя такого безукоризненного гражданина», будто вскользь кинул, что Робеспьер категорически высказал необходимость «почистить конвент, в котором завелось много вредных насекомых», посетовал о том, что «в такое трудное для государства время никто не может ручаться за целость своей головы», и ушел, оставив обоих в сильной тревоге.
Встретив на улице Сипьона Ладмираля, Фушэ довел его до неистовства, поддразнивая тем, что Робеспьер из-под самого носа юноши увел Терезу Дюплэ, а зайдя потом в кабачок папаши Рено, он со скорбной миной пожалел «бедную Терезу», которая приходит в полное отчаяние от холодности Робеспьера.
– Впрочем, – прибавил он, исподтишка любуясь, как вспыхивают глаза пламенной Сесили, – вот уж верно говорится, что «если кто-нибудь плачет, то другой тому же радуется»! Встретил я Ладмираля и подивился даже! Ожил совсем, молодчик! Видно, ему Тереза подала надежду. Да и то сказать: что ей ходить за Робеспьером, раз под рукой у нее имеется такое преданное, верное сердце.
И ходил, и ходил этот хитрый паук по Парижу, повсюду распуская свою паутину, в которой суждено было запутаться самому Максимилиану Робеспьеру!
Часть третья,
в которой Максимилиан Робеспьер тщетно старается распутать окутывающую его паутину
I
Ход событий
Десятого ноября празднество в честь Разума все-таки состоялось, хотя и не при такой скандальной обстановке, на которую рассчитывал Фушэ. В соборе Парижской Богоматери было устроено торжественное гражданское богослужение, во время которого стройный хор пел гимн на слова известного поэта Шенье и музыку Госсе. Богиню Разума изображала даровитая артистка Майльяр. Одета она была в белое платье, голубой плащ и красный фригийский «колпак свободы». Народ на триумфальной колеснице доставил ее в конвент, где «богиню Разума» торжественно приветствовал именем французского народа президент конвента.
Все это было очень невинно, вполне прилично и даже красиво. Богохульства тут тоже еще не было, потому что это празднество выражало собой не противорелигиозное, а лишь противокатолическое движение. Франция слишком много натерпелась от католического духовенства, которое традиционно отстаивало не народные, а свои и дворянские права. Но по форме все празднество напоминало прежние духовные игрища, совершавшиеся в церквах и на папертях с музыкой и драматическим действием, в котором Иисуса Христа, Деву Марию и прочих библейских персонажей представляли актеры, как теперь «богиню Разума» представляла актриса. Цель празднества была следующая: Франция хотела показать, что вместо традиции, правившей прежним государственным строем, в новом все будет нормироваться Разумом, и если бы республике действительно удалось сделать Разум своим богом, то история великой французской революции стала бы величайшими скрижалями мира. Но так как истинным богом Франции того времени была необходимость, зачастую ложно понятая, то все это обожествление Разума приобрело характер наивной, ребяческой буффонады.
Однако празднество взволновало Робеспьера несравненно более, чем даже рассчитывал сделать это Фушэ приданием торжеству оргиастического характера.
Для этого у диктатора было много причин. Прежде всего инициатива исходила от коммуны, а Робеспьер был уже серьезно озабочен той независимостью, которую все более старалась подчеркивать парижская коммуна по отношению к конвенту. Затем Робеспьер отлично учитывал, что младшие агенты власти неизбежно окажутся «более монархистами, чем сам монарх». Действительно необразованные, грубые конвентские комиссары в департаментах усмотрели в празднестве призыв к решительной борьбе против религиозных верований. До чего доходило их «рвение» в этом отношении, может дать понятие хотя бы такой факт: эльзасец Рауль собственноручно разбил сосуд с миром, принесенный, по преданию, голубем с неба святому Реми для коронования короля Хлодвига.
Робеспьер с ужасом смотрел на эти крайности, возмущаясь и как политик, и как ревностный христианин. Ведь в самый разгар террора благодаря ему в католических церквах не прекращались богослужения, а в соборе Парижской Богоматери постоянно совершались богослужения за его здравие. Робеспьер стал произносить громовые речи против атеизма, но, словно издеваясь над ним, – коммуна ответила на эти выступления постановлением о закрытии всех церквей в Париже.
Тут Робеспьер понял, как он в сущности одинок и как шатка та власть, на которую он думал опереться, а отсюда проистекала необходимость изыскать новые меры к ограждению этой власти.
Робеспьер напрасно ломал голову – он не мог найти никаких других мер, кроме усиления террора. Вокруг него царят распущенность, алчность, честолюбие, все преследуют свои личные, эгоистические цели, и никому нет дела до высоких идеалистических стремлений идейных вдохновителей переворота. При таких условиях он не мог допустить, чтобы все эти темные силы прикрылись щитом конституционных гарантий. Для установления истинного народоправия было еще слишком рано, конституции надо было сначала расчистить место кровью и железом. И, искренне скорбя душой об этой необходимости, Робеспьер должен был признаться в своем бессилии сделать что-либо без усиления репрессий.
Но ему грозила опасность с новой стороны: в Париж спешил популярный и влиятельный трибун – Дантон, который открыто ополчился против чрезмерной ретивости обоих комитетов (общественного спасения и общественной безопасности) и собирался разрушить их могущество.
Для Жоржа Жака Дантона история изготовила особый штамп, который постоянно прикладывался к его имени, и уже сколько исторических писателей, говоря о нем, неизменно называли его: «безнравственный, но талантливый Дантон». Был ли он действительно безнравствен? Для подобного утверждения не имеется ни малейших документальных данных. Враги обвиняли его в организации сентябрьских убийств, но факты доказывают, что Дантон не только не принимал участия в этом проявлении временного умопомешательства народных масс, но даже был бессилен предупредить и сдержать народ. Его обвиняли в подкупности и растратах народных денег. Привел ли кто-нибудь доказательства этому, легло ли в основу подобного обвинения что-нибудь, хоть на йоту превышавшее обычную злоречивую сплетню? Нет! Но это не помешало потомству заклеймить память Дантона дурной славой. Что же делать, и у истории бывают свои пасынки, и ее суд не всегда справедлив и нелицеприятен!
Жорж Жак Дантон происходил из уважаемой провинциальной семьи юристов. Он родился в 1759 году, готовился в Париже к адвокатуре и принимал горячее участие в масонстве. По политическим убеждениям он был первоначально «постепеновцем», верил в возможность проведения благодетельных реформ сверху и не одобрял насильственных, резких переворотов. Но жизнь с каждым днем предоставляла ему наглядные доказательства того, что от слабовольного Людовика XVI нечего ждать добровольных уступок народным требованиям, что при настоящем положении вещей отстаивать постепенную, медленную эволюцию государственного строя – значило самому рыть могилу своим идеалам.
С характерной для себя трезвостью Дантон отрекся от взглядов, неправильность которых осознал, и полностью отдался революционной деятельности. При этом, когда в 1791 году была уничтожена занимаемая им должность адвоката при совете короля, Дантон, чтобы оставаться совершенно свободным, не принял на себя никакой другой.
Ему удалось очень скоро выдвинуться, и Франция была сильно обязана Дантону умелой остановкой борьбы против роялистов и коалиции. Выбранный депутатом в конвент, Дантон сделал очень много для упорядочения внутреннего положения, насколько это было возможно при тогдашнем хаосе. Между прочим, он выработал и предсказал тот путь, по которому, как политик (не как завоеватель) повел впоследствии Францию Наполеон.
Подобно Робеспьеру, Дантон требовал решительных террористических мер, но в этом отношении сходство между ними было лишь поверхностным. Ведь Дантон обладал истинным государственным умом, тогда как Робеспьер был ограничен, как всякий настоящий фанатик. «Максимилиан Великий», как иронически называли Робеспьера враги, был безусловно честен и высоко добродетелен, но своей добродетелью он чрезмерно кичился, придавая ей слишком большое, совершенно не соответствующее значение. Он скорбел о внутреннем неустройстве Франции, но о пороках сограждан скорбел еще больше и считал себя призванным исправить нравы. Однако для последнего надо было больше времени и способностей, чем те, которыми располагал Робеспьер. Вот почему в своем бессилии он и обращался исключительно к обычному оружию прежнего строя – казням, не понимая, что вакханалия кровавых мер лишь растлевает нравы, а не облагораживает их. Нравы граждан всегда определяются их общественным устройством и политическим режимом. При кровавой диктатуре Робеспьера трудно было ожидать высоких проявлений общественной добродетели. А он все усиливал оргиастическое напряжение справляемого им кровавого пира, окончательно запутываясь в этом заколдованном кругу.
Иначе обстояло дело с Дантоном. Признавая, так сказать, «педагогическое» значение яростного террора для общественных масс в момент полной анархии, он видел в нем лишь временное средство, лишь паллиатив, от которого неизбежно надо было как можно скорее переходить к радикальному исцелению. Он не гнался за чистотой нравов, не хотел никого исправлять и думал лишь об устроении государства. И насколько Робеспьер был человеком кабинетной мысли, настолько Дантон был общественным деятелем.
Но как ограниченный честный фанатик, Робеспьер был твердо уверен, что только он и может вывести Францию на надлежащий путь. Поэтому всякий человек, способный вырвать у него кормило власти, казался ему государственным преступником, от которого было необходимо избавиться. Дантон с его призывом к умеренности, с его популярностью и способностью увлекать толпу страстным красноречием прирожденного оратора всегда казался Робеспьеру опаснее всех Робеспьеру, потому что его целью было укротить кровожадность комитетов спасения и безопасности. Робеспьер занес его мысленно в свой проскрипционный список, но решил подождать: в данный момент Дантон был нужен, его надо было сначала использовать!
В первое же свидание с Дантоном Робеспьеру удалось установить с ним общие точки зрения. Дантон согласился, что путь, по которому увлекают Францию геберисты, поведет только к упрочению анархии. 26 ноября 1793 года он произнес громкую речь в конвенте против «религиозных маскарадов». Вскоре по его настоянию власть парижской коммуны была ограничена и усилена центральная власть конвента. 6 декабря было постановлено запретить все действия, направленные против свободы богослужения. Затем началась чистка клуба якобинцев: по настоянию Робеспьера оттуда исключили Анахарсиса Клотца, Шомета, Гебера и некоторых других.
Тем временем французской армии удалось одержать несколько существенных побед. Великая вандейская армия была уничтожена Марсо и Клебером, после битвы при Гейсберге (26 декабря) французы вступили в австрийские пределы. Таким образом и с внешней стороны дела пошли настолько хорошо, что можно было бы приняться за правильное государственное строительство.
Дантон открыто говорил, что теперь, когда вандейцы побеждены и границы очищены от неприятеля, ничто не может оправдать продолжение террора. Но Робеспьер и не думал отказываться от исключительных мер. Останется ли он у власти, если в действие будет приведена отсроченная прежде конституция? Конечно, нет! Ну, а потеря власти для Робеспьера означала отказ от мысли исправить нравы сограждан. Нет, он не мог оставить втуне миссию, для которой чувствовал себя рожденным и призванным свыше!
Но Дантон продолжал теснить Робеспьера, желая во что бы то ни стало проникнуть в действующий правительственный состав. В декабре истек срок полномочий комитетов, и надо было объявить новые выборы. Однако Робеспьер настоял на продлении комитетских полномочий, предупредив таким образом избрание Дантона, которое непременно состоялось бы.
Вот при каких обстоятельствах наступал 1794 год. Против Робеспьера восстали гебертисты и дантонисты. В распоряжении первых была газета «Отец Дюшен» – низкий, вульгарный уличный листок, требовавший самых крайних, решительных мер; в распоряжении вторых – газета «Старый Кордельер» талантливого Дюмулена, требовавшая умеренности и законности. Таким образом сбылось предсказание Фушэ, что Робеспьеру неминуемо придется очутиться в самом фальшивом положении между крайними и умеренными!
Положение Робеспьера было тем труднее, что в сущности он никогда не отступал от законности. В его глазах закон олицетворялся конвентом и выражался декретами последнего. Добиваясь того или иного декрета, Робеспьер действовал исключительно убеждением, доказательствами, никогда не прибегая к насилию. Его смерть – лучшее доказательство тому. Когда закон в лице конвента отвернулся от Робеспьера, он предпочел взойти на эшафот, но только не прибегать к перевороту, как силе незаконной. А ведь Робеспьеру стоило только кликнуть клич, и нашлись бы десятки тысяч людей, готовых отбить его у врагов! В этом отношении Робеспьер являет собою единственный во всей мировой истории пример тирана, добровольно подчинявшегося закону!
Но именно поэтому было так затруднительно положение Робеспьера в это время и с такой тревогой встретил он грозный – и для него, и для многих – 1794 год!
Теперь, окинув беглым взглядом нарастание событий к этому времени, вернемся к нашему повествованию.