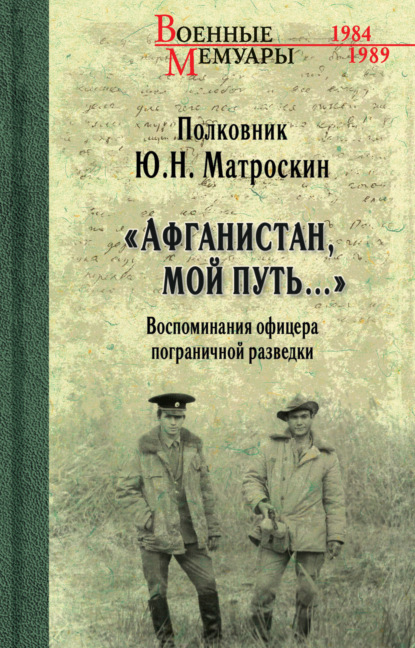«Афганистан, мой путь…» Воспоминания офицера пограничной разведки. Трагическое и смешное рядом
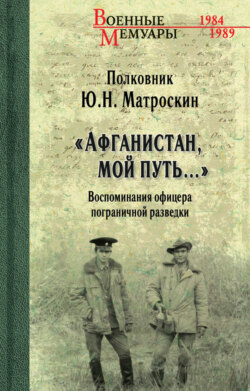
000
ОтложитьЧитал
Следует отметить, что порой от афганских солдат исходила и другая угроза для нас. Нет, не от того, что кто-то из них мог выстрелить нам в спину (такое тоже бывало), а от полного пренебрежения ими мерами безопасности при обращении со своим оружием. Как-то это чуть было не стоило мне жизни. В ноябре 1984 года мы выехали для сопровождения колонны из Шерхана на нашу «точку». В качестве десанта на нашу бронетехнику приняли афганцев. Мою БМП облепило человек восемь «сарбозов». Сидя в командирском люке, я заметил, что у сидевшего у меня за спиной и вертевшегося как юла «сарбоза» на автомате спущен предохранитель. Хотел было сказать ему об этом, но в этот момент меня окликнул наводчик-оператор Сербинов, сидевший в башенном люке. Поскольку шлемофон у меня висел на плече, то потянувшись к нему, чтобы расслышать сквозь шум мотора, что он хочет сказать, вдруг услышал сзади одиночный выстрел и звон металла. Обернувшись назад, мне бросилось в глаза бледное, застывшее от ужаса лицо этого афганского солдата, уставившегося на крышку моего командирского люка, где виднелась вмятина от пули. Все стало ясно: этот «приварок» случайно задел спусковой крючок своего автомата и при выстреле мне чудом удалось уклониться от пули, которая ударила в крышку моего люка и, срикошетив, судя по ее траектории, пролетела между мною и Анатолием. На миг я потерял дар речи, но зато сидевший справа на «броне» афганский сержант отреагировал на это мгновенно – «со всей дури» ногой дал хорошего пинка виновнику так, что тот на ходу слетел с БМП, кубарем покатившись в кювет. Затем поднялся, отряхнулся, подхватил свой автомат и бросился карабкаться на сзади идущую нашу «бэху». У меня же мелькнула мысль: «В который раз меня уберег мой ангел-хранитель».
Второй несчастный случай, которому мне довелось стать свидетелем, произошел в октябре 1987 года во время операции в зоне Имам-Сахиба. Поздно ночью в доме, где на ночлег разместились «сарбозы», прозвучал взрыв. Бросившись внутрь, мы увидели страшную картину: семь изуродованных и посеченных осколками тел лежали в крови без признаков жизни, еще четверо – шевелясь, тихо стонали. Как оказалось, в комнате произошел взрыв осколочной гранаты РПГ-7. Дело в том, что все афганцы на операциях постоянно носили РПГ со вставленной в ствол гранатой, которая несколько прокручивалась с тем, чтобы пазы на гранате и стволе не совпали и, следовательно, капсюль-детонатор не совмещался с ударником. Когда все пострадавшие отдыхали, гранатометчик по привычке, будучи уверенным в безопасном положении гранаты, «от нечего делать» взвел и спустил спусковой крючок РПГ-7. По роковой случайности граната находилась в боевом положении… Так погибло девять афганских солдат – еще двое умерло от ран, не дождавшись бортов для эвакуации в Союз.
Порой на операциях происходили и забавные случаи. Так, 1 ноября 1985 года в ходе боевой операции в районе кишлаков Чичка – Карлуг произошел «уморительный» случай с афганцами из батальона «Царандой», над которыми долго потешались все – и мы, и афганцы.
А дело было так. После завершения «прочески» кишлака афганские солдаты стали выходить на наши позиции. Моя БМП находилась недалеко от дороги из кишлака и мне бросилось в глаза, что два афганца почему-то без оружия идут отдельно от своей основной группы. Увидев, что мы обратили на них внимание, они направились к нашей БМП. В их внешнем виде было что-то не так, но что – я понять не мог. И только когда они приблизились к нам со словами: «Командон, патлун дори?» («Командир, штаны есть?»), до меня дошло, что, будучи одетыми в национальную одежду – длинные рубахи (перуханы), они идут без штанов. В это время остальные «сарбозы» стали что-то кричать нам, показывая пальцами на этих двоих. Из любопытства я позвал их командира и тот на сносном русском языке попросил не давать им штанов, так как хочет, чтобы они в таком виде прошлись по Ходжагару. На мой вопрос о причине такой «жестокости» наказания он лишь рассмеялся и объяснил, что штаны у них никто не отбирал – просто они так удирали от «духов», что оставили их им «на добрую и незабываемую память» вместе со своим оружием. Его дальнейший рассказ об обстоятельствах важной для них потери вызвал у нас гомерический хохот.
Будучи таджиками по национальности три «сарбоза», в том числе и эти двое, во время «прочески» узбекской части кишлака Карлуг решили «немножко отведать любви местных мисс» (насилие над женщинами было в то время довольно распространенным явлением). Поэтому выбрали дом побогаче, где и женщин должно было быть побольше, помоложе и покрасивее, пошли искать любви, как в известной песне Александра Розенбаума: «Мамы, папы, прячьте девок – мы любовь идем искать». Однако пока они проводили «кастинг» домашних красавиц, один из их родственников сумел незаметно выскользнуть из дома за помощью. Ну а любители «клубнички» вытащили выбранную ими «счастливицу» во двор для самого процесса любви. Самый нетерпеливый начал склонять девицу к процессу, а двое других в нетерпении сняли штаны и заняли очередь. Но тут их «романтическое настроение» испортили неожиданно ввалившиеся во двор «духи». «Очередники» от такой неожиданной встречи, со страху бросив автоматы и штаны, в мгновение ока перемахнули через высокий дувал и бежали быстрее лани, успешно петляя между летящими им вслед пулями. Ну а «неудачник-Казанова» был снят с «дамы» и тут же во дворе расстрелян.
Мы долго смеялись над услышанным, а эти горемыки поплелись дальше. Несколько минут спустя не меньший хохот раздался на КП мангруппы.
После этого случая все афганские солдаты твердо усвоили, что поиск любви на боевых операциях чреват не только потерей штанов, но и жизни.
Необходимо отметить, что в течение всего периода моей службы в ММГ, в отсутствие отрядных и окружных войсковых операций, мы еженедельно самостоятельно проводили по одной-две боевой операции против душманов на территории улусвольств Ходжагар и Дашти-Арчи. (Как-то офицеры-«армейцы» выразили удивление тем, что мы проводим операции по «армейским меркам» силами неполного батальона, в то время как части 40-й армии проводили операции силами не менее полка. Этим пограничники всегда и отличались от «армейцев».) Как правило, в понедельник или вторник ранним утром выезжали на операцию с ночевкой и к вечеру следующего дня возвращались на «точку», сутки-двое «зализывали раны», приводили себя, технику и вооружение в порядок, пополняли боезапас и вновь все повторялось – менялись только места операций. Несмотря на такой напряженный «график» боевой работы, техника у нас, благодаря зампотеху мангруппы майору Налетко, боевым экипажам и водителям, весьма резво бегала по афганским пыльным дорогам в самых тяжелых условиях и никогда нас не подводила.
Здесь уместно рассказать еще об одном забавном случае (поскольку он закончился благополучно), который произошел в апреле 1985 года во время обслуживания боевой техники после одной из таких операций. Как-то днем ко мне в канцелярию заставы вбежал запыхавшийся дежурный по заставе с криком: «Там наряд с поста наблюдения позвонил: наша «бэха» по Кокче плывет». Чтобы понять сказанное, нужно было знать рельеф местности и характер реки: эта быстрая горная река имела пологий берег на нашем (правом) берегу от моста протяженностью около полукилометра вниз по течению. Далее на берег БМП взобраться на сушу не могла из-за крутизны берегов и ей пришлось бы плыть около 10 км до устья, где она впадает в реку Пяндж. Однако доплыть до Пянджа шансов не было из-за быстрого течения, которое «завертело» и превратило бы БМП в «подводную лодку». Как оказалось, молодой и неопытный механик-водитель рядовой Виктор Пасат загнал БМП в речку для ее помывки, но не сумел правильно рассчитать силу течения и машину стало затягивать на глубину. Виктор попытался завести ее, но вода захлестнула эжектор и ему ничего не оставалось, кроме как поставить парус и беспомощно надеяться на Господа. И только не растерявшийся экипаж другой БМП на своей машине сумел по берегу перехватить «ударившуюся в заплыв» боевую машину и, зацепив ее тросом, вытянул на берег.
Другим примером того, как спокойствие и выдержка способствовали раскрытию доселе неведомых человеческих возможностей, стал случай, произошедший с моим товарищем Александром Звонаревым во время операции в районе кишлаков Чичка – Карлуг 1 ноября 1984 года. Наше группа из трех БМП под командованием Звонарева с сопок прикрывала действия «зеленых» по прочесыванию кишлака Карлуг. Неожиданно не далеко от БМП № 806, на которой находился Звонарев, разорвалась минометная мина. Нужно было срочно менять позицию, но она из-за неисправности заводилась только с толчка другой БМП, которая находилась на удалении 300–400 метров. Последовавший спустя полминуты второй разрыв не оставил сомнения в том, что душманы берут «бэху» в «вилку». Тогда Саша Звонарев схватил лом и, вставив его в ведущую «звездочку», со всей силы прокрутив ее, завел двигатель. Ситуацию спасло то, что третья мина также взорвалась с недолетом, а экипаж уже находился под «броней». А спустя каких-то 10–15 секунд после начала движения БМП ее позицию точно «накрыла» четвертая мина. Хватанувшие адреналина, участники этого события долго смеялись, а затем трое из них ради эксперимента попытались прокрутить эту «звездочку» хотя бы в полоборота, все их потуги оказались безуспешными. Вот такие порой у человека открываются скрытые возможности в минуты опасности!
Необходимо отметить, что в боевых условиях в Афганистане раскрывались самые лучшие нравственные качества наших солдат и сержантов. Так, при выезде на операции в каждом подразделении на «точке» в обязательном порядке оставлялось не менее 30 % личного состава и боевой техники. Поэтому вечером, в канун выезда на операцию, после боевого расчета начиналось действо… Офицера, назначенного старшим боевой группы, начинали осаждать бойцы, не попавшие в список участников предстоящей операции: «Товарищ старший лейтенант! Возьмите меня, ну возьмите» (совсем как в известной юмористической миниатюре Елены Воробей и Юрия Гальцева). И каждый из них так убедительно объяснял необходимость взять на операцию именно его, что ты был готов разрыдаться от умиления. Получив же «отлуп», бойцы не отчаивались и спустя несколько минут вновь бросались на «штурм» офицера. И так до позднего вечера. Здравомыслящему человеку кажется: зачем тебе это нужно? Ну не едешь на операцию – радуйся, не погибнешь, еще навоюешься! А эти молодые 18—20-летние парни выпрашивают у командира, словно увольнение, возможность поехать на войну, где вполне возможна встреча с «девушкой с косой». Всех их, помимо преданности Родине и стремления выполнить боевую задачу, на войну толкал юношеский максимализм, стремление к самовыражению, самоутверждению и подвигу и, к сожалению, неумение пока еще ценить свою жизнь. Ну а понятие подвига у каждого из них было свое: для одного это означало броситься на амбразуру вражеского дзота, а для другого – просто подняться в атаку. У каждого воина своя война! Несмотря на это различие, все они рвались на боевые операции. Вот этим, к счастью для нашей Отчизны, всегда отличались и отличаются наши воины!
Просматривая художественные кинофильмы «Афганский излом» и «9-я рота» у меня непроизвольно закрадывалась мысль о том, что после почти многолетней службы в Афганистане я ничего не знаю об этой войне. Порой у меня «душа кипела» от увиденного, ибо за всю свою службу в ДРА я не сталкивался ни с одним фактом извращенного проявления «дедовщины» и отношения командиров к своим подчиненным, запечатленного в этих фильмах. Да, после выхода приказа об увольнении в запас «срочников» офицеры и прапорщики «закрывали глаза» на то, что «дембеля» не мыли полы. Но за это послабление они несли службу в охранении на «точке» и в боевом охранении на операциях в самый тяжелый и опасный для нападения «духов» период времени суток – с 3 до 6 часов утра, когда после тяжелого и напряженного дня глаза у бойцов охранения просто слипаются. И если молодой солдат мог уснуть, то в планы «дембелей», уже мечтавших о скорой встрече с родными, близкими и любимыми девушками, гибель никак не входила. К тому же «дембеля» делали все, чтобы максимально передать молодой смене свои знания, умения и боевой опыт, которые позволят успешно выполнять боевые задачи и остаться в живых. И делалось это без унижения достоинства «молодых», а искренне, по-товарищески. Да и о каком издевательстве или унижении могла идти речь, когда все днем и ночью имели дело с оружием, фактически спали с ним в обнимку, когда на операциях все друг другу подставляли свои и прикрывали спины других. Без настоящего боевого товарищества не может быть взаимовыручки и готовности отдать свою жизнь ради своих боевых товарищей, а значит, невозможно выполнить боевую задачу и выжить. А какой это братский коллектив, когда молодому солдату вбивают знания кулаком, когда отношения строятся по принципу ЧЧВ – человек человеку волк, когда сильный угнетает и унижает более слабого? Неужели после всех унижений и жестокостей этот солдат будет готов отдать жизнь за своего угнетателя? Вряд ли! А вот пулю всадить ему в спину – это пожалуйста! Поэтому, не кривя душой, утверждаю: мне не известен ни один факт извращенной «дедовщины» в подразделениях Пограничных войск КГБ СССР в ДРА. В подтверждение сказанного в качестве примера расскажу об одном показательном случае. Осенью 1984 года на нашу заставу прибыл солдат, который создал нам проблему: как только на операции начиналась стрельба – он «впадал в ступор» и ни на что не реагировал. Нужно сказать, что никто на заставе над ним за это не насмехался, не оскорблял и не унижал его. Наоборот, к нам со Звонаревым инициативно обратились «деды» (т. е. старослужащие) с предложением совместно помочь ему «найти себя». После споров и дискуссий мы выработали план «лечения» этого солдата, реализация которого была осуществлена под моим непосредственным руководством. Во время очередной операции в районе кишлака Курук, когда мы на бронетехнике вошли в «зеленку», этот солдат был специально помещен в десантном отсеке моей БМП между двумя «дедами-педагогами», которые держали его поведение под неусыпным контролем. Как только началась стрельба и боец начал «впадать в ступор», то сразу же получил крепкий толчок локтем в бок от одного из «педагогов» (если не изменяет память, ефрейтора Кислицы), который сразу же сунул ему в руки заранее подготовленный пустой автоматный магазин с пачкой патронов и жестко скомандовал: «На, снаряжай магазин! Живее-живее!» Как только бойца вновь начинало «клинить», то «локтевой аргумент» возвращал его к действительности. После того как магазин им был снаряжен, – другой «воспитатель» тут же сунул ему в руки автомат, и не давая ни секунды на размышление, скомандовал прямо ему в ухо: «Заряжай и стреляй! Огонь!» И боец начал стрелять. Все как «бабка пошептала»: с этого момента этот солдат больше в «ступор не впадал», воевал хорошо и осенью 1985 года уехал домой, будучи представленным к награждению медалью «За боевые заслуги». Перед отъездом он со слезами на глазах стал благодарить нас за то, что мы помогли ему почувствовать себя настоящим человеком и бойцом. С его слов, он сам презирал и ненавидел себя за свою слабость, но ничего не мог с собою поделать. И только благодаря товарищам почувствовал уверенность в себе. Вот такая «дедовщина» в Афганистане среди пограничников действительно была. Подтверждаю!
Касаясь форм и методов воспитания «дедов» и «дембелей» в боевых условиях, приведу еще один пример. Как-то весной 1985 года нашим «дедушкам» захотелось «откушать» жареной картошечки. Посему, вопреки категорическому запрету на приготовление пищи на «точке» вне кухни (антисанитария могла привести к массовым кишечным заболеваниям), они «разжились» картошечкой, лучком, тушенкой и нажарили ее аж целый 8-литровый казан из расчета человек на 12. Однако им не повезло – на ее соблазнительный аромат вышел старший лейтенант Александр Звонарев. Он приказал принести казан с картошкой к нам в канцелярию. Наверно, у кого-то из «дедушек» мелькнула мысль: «Мы приготовили, а есть будут офицеры», но они ошиблись – Саша Звонарев преследовал исключительно педагогические цели. Вызвал всех пятерых сержантов (в числе которых были и «деды») с ложками и в наказание за то, что они «не заметили» нарушения указанного запрета, посадил их вокруг казана и приказал съесть всю картошку. Сержанты с радостью и большим аппетитом кинулись выполнять команду на глазах у «исходивших слюной» «дедов», с завистью заглядывавших в открытое окно канцелярии. Несмотря на хороший аппетит, цель воспитательного мероприятия начала достигать своей цели по ходу убавления содержимого в казане – в процессе насыщения у сержантов стала исчезать радость от свалившегося на них «кулинарного счастья». А дальше началась пытка: сержанты под жестким взглядом Звонарева с трудом запихивали в себя картошку, которая всячески сопротивлялась и даже стремилась вернуться обратно. В конце концов они взмолились: не губите, товарищ старший лейтенант, больше не допустим подобного. И обещание свое сдержали.
Также необходимо несколько слов сказать об отношениях между офицерами, прапорщиками и солдатами. В художественном кинофильме «9-я рота» прапорщик требует от подчиненного любым путем найти ему спички и тот в одиночку уходит с позиции роты для их поиска, подвергая себя смертельной опасности. У пограничников этого не могло быть априори по той причине, что в условиях, сопряженных с риском для жизни, и солдаты, и офицеры инстинктивно, по своей природной человеческой сущности, ищут поддержки друг у друга, а не обостряют отношения, стремясь к доминированию и унижению, ибо отразить нападение врага, победить его в бою можно только общими усилиями. Поэтому и в боевой обстановке отношения подчиненности основывались на человечности и товариществе, и каждый командир дорожил жизнью своих подчиненных (конечно, «самодуры» тоже иногда встречались, но додуматься до такого идиотизма, как в указанном кинофильме, даже у них «ума» не хватало). Да если бы и нашелся такой «безголовый самодур», то об этом сразу же (в крайнем случае через сутки) стало бы известно «особисту» (к каждой ММГ и ДШМГ на постоянной основе был прикомандирован сотрудник военной контрразведки) и уже на следующий день он был бы досрочно отозван в Союз с последующим лишением льгот и партбилета, а через три-четыре месяца с «волчьим билетом» уже поднимал бы «народное хозяйство» где-нибудь на предприятии или в колхозе. Да и другие офицеры и прапорщики не допустили бы подобного.
Однако продолжу свое повествование. В ноябре 1984-го с благословления высокого начальства появилась «мода» на ночные засады. Замысел был хороший, да исполнение оказалось в духе широко известного высказывания экс-премьера В. С. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!» При той забюрократизированности процесса планирования и санкционирования боевых операций они фактически были сведены к профанации. Поскольку выставление засад санкционировалось только Москвой, то с момента получения развединформации о конкретных планах бандитов до выхода на засаду проходило около суток. Ну а эти проклятые «духи» ну никак не хотели приспосабливаться к нашей системе планирования, постоянно меняя время и маршруты своих передвижений. К тому же на засады нам разрешалось выезжать только на «броне». По логике это было верно: если попадешь ночью в засаду, то помочь тебе будет некому. Но использование БТРов превращало наши выходы на операцию в секрет Полишинеля – как только в сумерках с нашей «точки» начинала выходить бронетехника, так сразу же с сопки напротив нее взлетала ракета наблюдателя мятежников, а затем следовала цепочка сигнальных ракет, которая вела прямо к логову нашего заклятого врага – бандглаваря Кори Амира (ДИРА). Отследить же маршрут движения бэтээров было проще простого (нужно было иметь лишь хороший слух) – их «скрытное» передвижение в сопках сопровождалось ревом двигателей, слышимым тихой ночью на несколько километров в округе. Неудивительно, что услышав этот рев, душманы посмеивались: «Однако «шурави» на засаду поехали!»
Вот на проведение таких засадных операций старшим группы и назначили меня, молодого и энергичного офицера с «боевой погремухой» «Матроскин», которая прочно прилипла ко мне благодаря Александру Звонареву из-за морской «тельняшки», подаренной мне женой перед отъездом в ДРА для согрева души (поэтому я и избрал себе этот литературный псевдоним). Конечно, Матроскин по ночам может скрытно передвигаться, а вот БТР – ну ни как! После двух походов на такую «засаду» мой «энтузизизм» начал быстро угасать (спасибо еще, что «духи» не додумались «накрыть» нас). Мои доводы о бессмысленности таких засад у командования мангруппы понимания не нашли: нужно было выполнять план. В ходе неоднократных дискуссий по этому вопросу с офицером-разведчиком Александром Абр-м у нас родилась идея о том, как, не меняя утвержденного Москвой плана, скрытно и своевременно оказаться на пути у мятежников. Ее суть заключалась в том, чтобы группу прикрытия на БТР оставлять в месте, утвержденном Центром, а самим в составе засадной группы, основываясь на уточненных разведданных, скрытно выдвинуться на уточненный маршрут движения душманов в сторону Ходжагара. После нанесения огневого поражения бандитам вызванная по радиостанции группа прикрытия на БТР должна была прибыть для эвакуации засадной группы с места боя.
Здесь уместно отметить, что капитан Абр-в был таким же «авантюристом с шилом в одном месте», как и я (нашли друг друга два одиночества). В связи с этим не удивительно, что он пожелал лично поучаствовать в засадах и для усиления нашей засадной группы решил привлечь сотрудников ХАД (в целях недопущения «утечки» информации мы сообщали им о месте выставления засады только после выезда на БТРах из города). Нужно отдать должное нашему разведчику – он сумел подобрать весьма надежный состав «хадовцев», благодаря чему нам удалось долго сохранять втайне от «духов» изменения в тактике наших действий. Для реализации нашего замысла мы на 40 % увеличили численность нашего отряда, разделив ее на группу прикрытия на четырех БТРах и засадную группу с групповым оружием (ПК, АГС-17 и РПГ-7). «Начман» М. И. Самсонов без особых возражений утвердил этот план со словами: «Твоя идея – ты ее и реализуй!» После чего мы с энтузиазмом приступили к претворению в жизнь наших «великих помыслов».
Учитывая факт наблюдения душманов за «точкой», мы спрятали большую часть засадной группы под «броню» и, как обычно, с наступлением сумерек на четырех «бэтээрах» выехали в Ходжагар, где взяли на «броню» десантом взвод «сарбозов» ХАД и прибыли в сопки в запланированный квадрат. Там, в безлюдном районе засадная группа спешивалась (нужно было видеть вытянувшиеся от удивления лица «хадовцев», когда неожиданно для них из-под «брони» стали появляться все новые бойцы, о существовании которых они и не подозревали). Группа прикрытия с бэтээрами, которую возглавляли попеременно Владимир Тупенко, Иван Лобанец и Николай Лобанов, заняла круговую оборону в готовности быстро прийти нам на помощь. Основная (засадная) группа под моим руководством, вместе с Александром Абр-вым и «хадовцами», действовавшими в составе головного дозора, выдвинулась на маршрут возможного появления одной из бандгрупп БФ Кори Амира.
К сожалению, несмотря на изменения в нашей тактике, успех пришел к нам не сразу. Но в этом были и свои «плюсы»: мы смогли хорошо изучить местность «своими ногами», получив навыки по скрытному и безопасному передвижению по сопкам в ночное время, хорошо овладели тактикой действий ведения боя ночью в горах и сопках и, что немаловажно, приобрели психологическую уверенность в своих действиях ночью в отрыве от основных сил на вражеской территории. Следует отметить, что основной опасностью при передвижениях по сопкам в темное время суток являлась возможность «нарваться» на противопехотные мины или вражескую засаду. По этой причине мы всегда двигались не по тропе, а в 2–3 метрах параллельно ей, оставаясь в тени сопки в лунную ночь, от рубежа к рубежу, след в след с дистанцией в 6–7 шагов (чтобы несколько человек не могли попасть под одну пулеметную очередь). При этом впереди идущий в составе головного дозора боец с помощью тонкого прутика перед собой стремился обнаружить тонкую проволоку «растяжки» мины (в лунную погоду можно было даже заметить ее блеск). Идущий за ним другой дозорный с помощью прибора ночного видения (ПНВ) тщательно осматривал местность по маршруту движения с целью своевременного обнаружения засады противника. Ядро засадной группы также при движении использовало повышенные меры предосторожности. Высылаемые боковые дозоры (по 2–3 человека) двигались параллельно группе по тактическому гребню с обратной стороны сопки с уступом вперед с целью своевременного обнаружения позиций вражеской засады, а тыловой дозор – прикрывал группу с тыла. В случае боестолкновения с противником боковой дозор должен был скрытно зайти бандитам с тыла и уничтожить их. Автоматы мы носили несколько необычным способом – на ремне на левом плече стволом вниз. В таком положении ствольная коробка хоть как-то прикрывала от пули живот, а магазин – низ живота и все остальное. К тому же если при попадании в засаду, для обеспечения фактора внезапности, противник перед открытием огня пропускал идущих несколько вперед, то такое положение позволяло мгновенно с полуоборота открыть стрельбу по противнику.
Следует отметить, что в то время у нас не было никакой специальной экипировки и снаряжения и мы сами изобретали и изготавливали ее кустарным способом. Дело в том, что «разгрузки» промышленного производства появились у нас не ранее 1986 года и ими первоначально были обеспечены только десантники ДШМГ. Неудобство нашего снаряжения я почувствовал уже при первой своей поездке в Ходжагар – подсумок с четырьмя снаряженными магазинами просто перетягивал ремень на правом боку, создавая дискомфорт и натирая бедро. Увидев у некоторых бойцов самодельные «разгрузки», я тут же «воспылал» желанием обзавестись такой же. По их совету обратился за помощью к прапорщику Илдусу Махмудову, который прямо на моих глазах с помощью ручной швейной машинки и двух «бэушных» курток «хэбэ» (одна из них была на два размера больше) за каких-то полчаса соорудил мне отличную «разгрузку». Как завороженный наблюдал я за его «колдовством» по ее пошиву: он отрезал у курток рукава (по шву), превратив их в жилеты. На одном из них шариковой ручкой расчертил четыре «кармана» для восьми автоматных магазинов (в два ряда), двух гранат и двух пачек с патронами по бокам, а также прорези на другом жилете для доступа к этим карманам изнутри. После чего обе куртки наложил одну на другую и по начерченной разметке прострочил их суровой ниткой на швейной машинке. Получился двухслойный разгрузочный жилет: «голь советская на выдумки хитра!» В то же время пакистанские спецслужбы поставляли мятежникам очень удобные «разгрузки», за которыми мы всегда охотились. Такую «разгрузку» на восемь магазинов мне удалось раздобыть только весной 1986 года в ходе одной из операций – она была снята с убитого душмана (на клапане одного из ее карманов даже осталось два пятна его крови, которые так и не удалось отмыть). Эта трофейная «разгрузка» добросовестно прослужила мне до августа 1989 года, затем пригодилась и в других «горячих точках», а в начале 2000-х гг. была передана мною в пограничный музей. «Шиком» было использование «разгрузки» афганского производства: шьется она из грубой кожи коричневого или черного цвета с блестящими заклепками в местах крепления и кнопками на карманах под магазины, гранаты и пачки с патронами и представляет собою своеобразный предмет искусства.
Хорошо изучив местность между Ходжагаром и Хазарбагом (это 15–20 км сопок и гор в длину и ширину), мы с Сашей Абр-м предприняли нахальную, с долей авантюризма операцию: поздно вечером наша группа скрытно проникла в Хазарбаг – базовый кишлак БФ Кори Амира и в «зеленке» на дороге между жилмассивами выставили засаду на самого бандглаваря, который, как нам было известно, передвигался на автомашине ГАЗ-69. К сожалению, и эта операция не принесла результата – мы с большим разочарованием наблюдали, как Кори Амир на своем газике свернул в сторону, не доехав до нас каких-то 400 метров. Тем не менее эта операция придала нам еще большую уверенность в своей подготовленности и силе духа. Ведь мы сумели незаметно проникнуть в самое «логово» врага и в течение четырех часов там скрытно находиться в засаде буквально в нескольких десятках метров от бандитского поста охранения (мы даже слышали их разговоры). А затем сумели также скрытно вернуться назад, оставив после себя лишь позиции, которые после их обнаружения ввергли в большое смятение главаря. Долгое время он был уверен в том, что их оставили «самадовцы». Когда же он случайно узнал, кто в действительности оборудовал эти позиции, то был изумлен нашим «нахальством» (хотя к тому времени он уже особенно не удивился этому). Кстати, перед оставлением своих позиций мы решили бесшумно снять указанный пост охранения противника, но, к своему стыду, не смогли найти холодного оружия – штык-ножи у пограничников в Афгане отсутствовали, а охотничьи ножи в то время были только у отдельных офицеров, «чтобы колбаску порезать». (После этого мы срочно обзавелись ими.)
В этой связи необходимо сказать несколько слов о трактовке нами упомянутого понятия «авантюризм» и его отличии от «оперативно оправданного риска», который зачастую сподвигал нас на действия, которые не мог просчитать противник. Различие между результатами и последствиями (при неудачных действиях) рискованных действий огромно, а грань между ними порой незримая. Определить же эту грань возможно только одним способом: если что-то важное, способное поставить под угрозу срыва операции, упущено или до конца не продумано, вследствие чего она была провалена, то это является авантюризмом. Если же все получилось, то это «оперативно оправданный риск». Понять же, все ли продумано и предусмотрено, можно только благодаря опыту.
Наши действия вызвали энтузиазм на «точке» и появление у нас сподвижников в лице старших лейтенантов Ивана Лобанца и Владимира Тупенко, прапорщика Николая Лобанова, а от желающих участвовать в засадах солдат не было отбоя, что позволило значительно повысить боеспособность засадных групп, улучшив качество отбора и дополнительной подготовки. Поэтому к нашему «рандеву» с душманами мы подошли уже достаточно подготовленными, опытными и уверенными в себе бойцами. И вот, в ночь на 14 декабря 1984 года «звезды сошлись»: приблизительно в 00.20 на юго-западной окраине Ходжагара на наши позиции вышла бандгруппа Джабора Сабза («сабз» – на языке дари «зеленый») численностью 15 человек.
- Дневник
- Россия в Первой мировой войне
- В ставке Верховного Главнокомандующего
- Афганистан. Три командировки на войну
- Воспоминания
- Разгром Деникина
- Кайзер Вильгельм II. Мемуары. События и люди. 1878-1918
- Воспоминания гетмана
- Воспоминания военного контрразведчика
- На пути к Цусиме
- Секретные задания
- Трагедия Цусимы
- В Московской битве. Записки командарма
- 1920 год. Советско-польская война
- Воспоминания последнего протопресвитера Русской Армии
- История Второй мировой войны. Блицкриг
- История Второй мировой войны. Крушение
- Излом необъявленной войны. Первая чеченская
- Записки о Русско-японской войне
- Интернациональный шпионаж и борьба с ним во время мировой войны
- Сталинград
- От чести и славы к подлости и позору февраля 1917 г.
- Четыре войны морского офицера. От Русско-японской до Чакской войны
- Мой дневник. 1919. Пути верных
- «Кофе по-сирийски». Бои вокруг Дамаска. Записки военного корреспондента
- Тихая работа вежливых людей
- «Афганистан, мой путь…» Воспоминания офицера пограничной разведки. Трагическое и смешное рядом
- Лётная книжка лётчика-истребителя ПВО
- В небе нет остановок. Из воспоминаний авиационного командарма
- Воспоминания. Война 1914—1918 гг.
- Записки коменданта Кремля
- Под знаменем Врангеля. Заметки бывшего военного прокурора
- Русская Вандея
- История моей жизни. Воспоминания военного министра. 1907—1918 гг.
- В штабах и на полях Дальнего Востока. Воспоминания офицера Генерального штаба и командира полка о Русско-японской войне