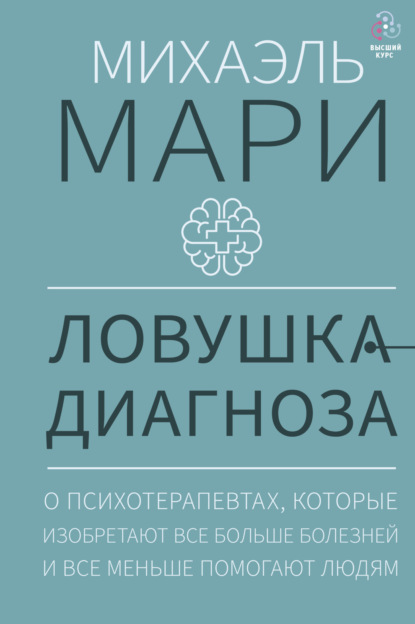Ловушка диагноза. О психотерапевтах, которые изобретают все больше болезней и все меньше помогают людям
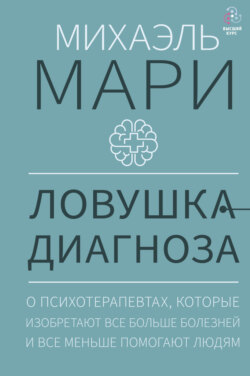
000
ОтложитьЧитал
3. Что должна делать современная психотерапия
Какими признаками должна обладать психотерапия, чтобы справиться с общественной миссией и быть в состоянии обращаться с неясными психическими процессами? Существенными моментами здесь являются открытость, внимание и гибкость в общении с людьми. По идее, наличие данных признаков – само собой разумеющееся, однако это не так, или, по крайней мере, мы встречаем их все реже.
Открытость
Открытость в психотерапии в первую очередь означает, что нельзя ограничиваться естественно-научным мышлением, то есть мыслить категориями причины и следствия, как делают врачи. Медик должен так думать. Он ищет, какой вирус, вещество, химическое, биологическое или механическое воздействие вызывает состояние болезни, чтобы затем целенаправленно лечить пациента. Медик действует как детектив, рассматривая различные возможности и исключая некоторые из них до тех пор, пока не доберется до максимально однозначной причины. Он движется от простора многочисленных возможностей к узкому диагнозу, на котором он в конце концов останавливается, разрабатывая на его основе план лечения. Психотерапевт действует ровно наоборот. Он ищет не причину, а взаимосвязь. Он движется от конкретных симптомов к широте возможностей, не утверждает что-то определенное, а сознательно сохраняет неопределенность. Для этого и нужно быть открытым, что означает не знать. В лучшем случае можно выдвигать предположения и быть готовым в любой момент отказаться от них.
Следующий пример показывает огромную разницу между утверждением и открытостью, причиной и взаимосвязью, знанием и неопределенностью при взаимодействии с людьми.
Мужчина находится в плохом состоянии. Говорит, что полностью выбит из колеи, так как партнерша изменяет ему. Он не может спать, просыпается по ночам в поту, не способен концентрироваться на работе и постепенно утрачивает желание жить. Одновременно он чувствует в себе агрессию, которую с трудом удается сдерживать. Представляет в своих фантазиях, как убивает себя или кого-нибудь другого. В течение месяцев он пребывает в глубочайшем кризисе и не знает, как справиться с подобным эмоциональным состоянием и как вести себя с партнершей. Расстаться или бороться за нее?
Помогут ли этому человеку, например, врач или психиатр, стоящие на естественно-научных позициях? Врач замерит пульс, сделает анализ крови и пропишет снотворное, психиатр назначит психофармакопрепараты для успокоения. Данное медицинское вмешательство и правда повлияет на острое физическое и психическое состояние пациента, но не решит проблему. Что ему делать с данной ситуацией и мощными чувствами, расстаться с партнершей или бороться за отношения, он по-прежнему не знает.
Психотерапевт подойдет к делу иначе. Он займется страхами, ожиданиями и болезненными желаниями этого человека, разузнает, какие у того имеются возможности, чтобы справиться с сильными чувствами. Он станет его сопровождающим в состоянии аффекта, эмоциональных вспышек. Психотерапевт займется личной и поэтому уникальной историей человека и исследует вопрос, почему случилось подобное развитие отношений. И только под конец он будет решать вопрос о выборе из двух возможностей – «борьба за партнера» или «расставание», – а может быть, предложит другой, лучший способ.
Врач и психиатр действуют по схеме. Для психотерапевта это совершенно бессмысленно. Психотерапевт не может выписать клиенту рецепт и даже давать советы, так как тем самым останутся неучтенными особенности данного случая и личности, то есть история отношения, личное (эмоциональное, физическое) состояние, ситуация с работой, представления о жизни, индивидуальные способности и прочие важные вещи. Слава богу, манией величия одержимы лишь немногие психотерапевты, считающие, что в своих советах они способны учесть все расплывчатые факторы и найти правильный выход, хотя встречаются и таковые.
Если спросить психотерапевта о правильном обращении с ревностью, страхом или другими проблемными состояниями, тот лишь заметит: «Это зависит от многого». От чего? От обстоятельств дела, состояния личности, соответствующих ожиданий, психической стабильности на определенный момент, индивидуальных ресурсов, реакции на окружение и прочего.
Разница между утверждением и открытостью вряд ли может быть больше. В глазах врача или психиатра депрессия – «нарушение обмена веществ мозга», которое следует лечить медикаментозно. По крайней мере, так считает Флориан Хольсбер – психиатр и директор Института психиатрии общества Макса Планка в Мюнхене:
Депрессия – нарушение обмена веществ в мозге, сказывающееся на нашем состоянии и поведении. Поэтому для меня она – органическое заболевание, как ревматизм, диабет или болезнь Паркинсона 5.
В глазах психотерапевта депрессия – переживание человека, который оценивает свое положение как безвыходное и (следовательно) перестает получать удовольствие от жизни. У врача – строго определенный метод лечения. Психотерапевт благодаря своей открытости способен обнаружить взаимосвязи и менять курс. Для врача имеются причины, для психотерапевта – неясные взаимосвязи.
В этом смысле психотерапия находится в ситуации неопределенности и даже, возможно, принципиальной непрояснимости «истинных» причин 6.
Психотерапия связана с открытостью, потому что ищет не причины, а объяснения. Все психические переживания, в том числе и психические проблемы, поддаются исключительно объяснениям. Поэтому важно, как индивидуум интерпретирует события в контексте своей личной истории и конкретных обстоятельств. Эти толкования сильно разнятся в зависимости от человека и ситуации. Что одному внушает страх, не волнует другого. С чем один справляется, выбивает другого из колеи. Когда у одного развиваются эмоциональные и даже физические симптомы, другой лишь пожимает плечами. Почему? Потому что иначе истолковывает ситуацию. Пострадавший из примера выше воспринимает измену своей партнерши как угрозу для жизни и, соответственно, реагирует панически. Конечно, объективно его жизнь вне опасности, но он чувствует себя в жуткой ситуации и в попытке обретения эмоциональной безопасности способен навредить себе или другим, совершив, например, убийство на почве ревности.
Психика – широкое и необозримое поле. В нем нет места, откуда исходит расстройство, нет очага инфекции и сломанных костей. Причины в психике не найти, это сфера индивидуальных смыслов. Искусство психотерапии состоит в том, чтобы предложить другое объяснение, которое рождает иной образ мыслей, делая возможным иное переживание и поведение. Новое толкование не появляется чудесным образом, само по себе или благодаря пониманию и сочувствию. Оно рождается только в контакте с людьми, при учете множества обстоятельств – эмоциональных, рациональных, физических, поведенческих и социальных.
Новые или иные толкования появляются, когда исследуются психические взаимосвязи, выдвигаются и проверяются интерпретации. Или когда за внутренним переживанием предполагается смысл. Смысл ревности, возможно, в утверждении, что злость необходима ревнивцу для обретения большей независимости. С этим толкованием (или другим) пострадавший сможет жить дальше. Значение депрессии, возможно, в том, чтобы отказываться. Его можно обнаружить, если выявить, что отклоняется и против чего направлен отказ. В таком свете отказ превращается в сопротивление требованиям других или собственному внутреннему принуждению, усложняющему жизнь.
Сказанное наводит на мысль, что психотерапию надо понимать в меньшей степени как науку, а скорее как искусство. Как искусство достигать других объяснений, с помощью которых можно продвинуться дальше.
Однако следует правильно понимать данное высказывание. Объяснения и связанные с ними идентичности (кто объясняет таким образом?) – прочные структуры, которые можно изменить не по желанию, а лишь с некоторыми усилиями. В этом смысле психотерапия способна внести свой вклад, если продемонстрирует достаточно открытости для того, чтобы позволить вещам достаточно долго быть неопределенными. Психические взаимосвязи могут ведь в любой момент оказаться не тем, чем представлялись до сих пор. Воспоминание, чувство, состояние, цель могут меняться в ходе психотерапии, неожиданно возникает новое представление о ситуации. Поэтому любое утверждение способно помешать клиенту, вместо того чтобы сопровождать его на пути к новому ориентированию.
К продуктивной открытости психотерапии относится, по моему мнению, чрезвычайная осмотрительность в обращении с понятием «болезнь». Оценка «психически больной» создает впечатление, что можно легко назвать причину психической проблемы. А такой уверенностью психотерапия, однако, не располагает. Следовательно, жесткий диагноз «психически больной» или завуалированный «психически не здоровый» неуместны.
Обстоятельство, что кто-то страдает, не служит оправданием патологизации. Иначе каждый, страдающий от потери, разочарования, удара судьбы, – психически больной. Конечно, клиентам в чем-то легче, если у них диагностировано психическое заболевание и они наконец «знают», что «у них». Но в то же время и великая беда, если их кризис и потеря ориентиров объявляется болезнью, подлежащей лечению. Необходимой для психотерапии открытости гораздо больше соответствуют понятия «кризис» и «сопровождение», чем понятия «болезнь» и «лечение». Правда, психотерапевты используют почти исключительно вторую пару терминов.
Внимание к клиенту
Понятие сопровождения указывает на другой важный признак хорошей психотерапии – на значение, которое уделяется человеческому контакту и коммуникации между психотерапевтом и клиентом.
Человек с психическими проблемами, ищущий помощи в определенной точке в определенный период жизни, не сможет дальше идти один. Он не в состоянии обнаружить иные, лучшие объяснения и возможности поведения, следовательно, нуждается в специалисте для распознания имеющихся и обнаружения новых смыслов, а также поиска поведенческих альтернатив. Теперь открытый психотерапевт сопровождает своего клиента, полагаясь на то, что совместный поиск внутренних и внешних обстоятельств приведет к переосмыслению ситуации и тем самым улучшит психическое состояние человека. Разумеется, новые или иные объяснения – не результат лечения, а результат отношений. Отношений, которые приносят плоды тогда, когда сопровождающий, с одной стороны, принимает и уважает клиента, а с другой – даже сбивает его с толку, что оказывает позитивное воздействие. Психотерапия, чтобы помочь, должна в определенном смысле вводить в замешательство, ставить под сомнение поведение, убеждения, чувства, толкования клиентов. Но подобное сбивание с толку приведет к хорошим результатам только при прочных межличностных отношениях.
Замешательство вызывается разными способами. Даже время и внимание, уделяемое психотерапевтом своему клиенту, то есть чисто человеческая заинтересованность, могут приводить в растерянность, например людей, воспринимающих себя как малоценных и ненужных. Ведь уже сам факт, что кто-то слушает тебя и общается с тобой, противоречит внушенной мысли «Я ничего не стою» и на продолжительное время создает уважительное отношение к самому себе.
Замешательство возникает и в том случае, когда сопровождающий высказывает свое мнение и ставит тем самым под сомнение точку зрения клиента. Тогда в кабинете существует уже две интерпретации, и мнимая истина, от которой страдает клиент, например убеждение, что в жизни самое главное – не обращать на себя внимание и держаться любой ценой, оказывается поколебленной. А если психотерапевт предлагает испробовать непривычные способы поведения, причем креативно, и выражает позитивную реакцию на них, то намечаются осуществимые альтернативы прежним переживаниям и поведению. Смятение может также появиться из-за того, что психотерапевт видит и ощущает вещи, которые клиент прежде не замечал. Четыре глаза видят больше, чем два, так же как и четыре уха больше слышат. Встреча пациента и психотерапевта – это встреча двух людей с различными мнениями и позициями, и подмеченная и изложенная психотерапевтом информация часто меняет имеющиеся представления клиента.
Подобное сбивание с толку необходимо; произойдет ли оно и окажет ли позитивное действие – это в меньшей степени вопрос техники, чем отношений между двумя людьми, договорившимися о встрече для осуществления психотерапии. В этих отношениях участвуют, с одной стороны, терапевт, от которого требуются открытость и креативность, с другой – клиент, который в конечном счете решает, как ему поступить с коммуникативными предложениями своего сопровождающего, принять их или отклонить, и что он получит в том или ином случае. Правда, в современных условиях отношения отходят на задний план по сравнению с техникой, на чем я остановлюсь позднее.
Гибкость
Огромная роль человеческих отношений в психотерапии не означает, что методы и техники неважны. Метод, независимо от его качества, сработает только в том случае, если клиент раскроет двери навстречу ему. Если он эмоционально восприимчив, то методы, сфокусированные на эмоциях, повлияют на него в первую очередь. Рациональному клиенту понять ситуацию поможет, вероятно, аналитический подход. Если клиент доступен на поведенческом уровне, допустимо прибегнуть к поведенческому тренингу. Возможно, удастся подступиться к нему другими путями, например через силу воображения или тело. Тогда, вероятно, хорошие результаты дадут методы, основанные на воображении или связанные с телом.
Но даже из проверенного и полезного метода не вытекает ни общеупотребительное руководство по применению для других, ни специальная инструкция для конкретного клиента. В любой момент одна дверь может захлопнуться, зато откроется другая, и появится новый неожиданный подход. Но клиент предоставит доступ к себе только на основе хороших отношений, в противном случае он «закроется». Если дверь отворится, психотерапевт обязан подладить свой метод под клиента, не ожидая, что тот приспособится к методу, подобранному психотерапевтом. Сопровождение действует тогда, когда клиенту ничего не подсовывают, ничего не навязывают и не накладывают на него никаких ограничений. В конечном счете психотерапевт должен следовать за клиентом, который определяет путь, иначе психотерапевт был бы не сопровождающим, а вожаком.
Способность к такой гибкости зависит среди прочего от того, владеет психотерапевт одним или несколькими методами. Разнообразие методов – вот ключевое слово. Неслучайно в течение десятилетий возникало множество психотерапевтических школ и методов, и все они имеют право на существование. Между тем в директивной психотерапии осталось всего лишь три метода. Таким образом, больше не обеспечивается необходимая гибкость в психотерапии, о чем свидетельствуют примеры в разделах о классификации, схематизации и экономизации.
Имеются серьезные сомнения в развитии психотерапии
Констатируем: учитывая общественную среду, перечисленные критерии современной, соответствующей общественному развитию психотерапии и ее реальное развитие, возникают изрядные сомнения в правильности пути, по которому в настоящее время двигается психотерапия.
Чтобы сориентироваться в современном мире, человек превращается в индивидуума, демонстрирует множественные личности и выстраивает многосложные психические структуры. В блужданиях по многим «Я» у людей возникают определенные проблемы. Индивидуализируются не только люди, но и их проблемы, поэтому и решать проблемы надо каждый раз по-разному. Психотерапии необходимо учитывать эту индивидуализацию; она – единственная общественная область, соответствующая растущей потребности в решении проблемы, связанной с разнообразными формами жизни, общения, отношений и необходимыми для этого идентичностями. Для психотерапевтов все не ясно, а туманно, и это является предпосылкой для хорошей «работы».
Но вместо того чтобы, как предлагает Петер Фукс, гордо признавать: «Да, мы специалисты по неясным, непонятным вещам», – психотерапия движется в противоположном направлении.
• Вместо пропаганды открытости и защиты психотерапии как искусства она приступает к классификации и лечению так называемых психических заболеваний.
• Вместо того чтобы провозгласить себя исследователем контекста в индивидуальных мирах, психотерапия пытается завоевать, то есть научно исследовать душу и психику.
• Вместо введения в замешательство толпа психотерапевтов говорит об интервенции. Психотерапия создает ложное впечатление, что может «вторгаться» в психику, «исправлять» ее и приводить расшатавшуюся психику, «в порядок».
• Вместо того чтобы отстаивать отношения как центральный признак психотерапии, психотерапия классифицирует и схематизирует формы лечения согласно расстройствам и бюрократическим предписаниям.
• Вместо защиты неопределенности психотерапия пытается выразить свою эффективность в цифрах и таблицах, создавая видимость науки.
• Вместо заботы о многообразии методов каждый допущенный метод борется с другими методами с целью получения максимума из громадного котла расходов на здравоохранение.
• Вместо того чтобы оставаться психотерапией, она пытается стать медициной.
Открытость, внимание к клиенту и гибкость в современном развитии психотерапии находятся на втором плане. Поэтому более чем уместны сомнения в том, что психотерапия в будущем справится с изначальной задачей. Психолог доктор Вернер П. Захон пишет:
…повсеместно победила губительная тенденция считать психотерапию медицинским способом лечения. Следствием явилась возрастающая экономизация, схематизация и деперсонализация психотерапии. Это уже закреплено нормативным определением психотерапии в § 1 Закона о психотерапии, включением до сих пор независимой психотерапии в систему обязательного медицинского страхования, а также всеми институциями и предписаниями. С этих пор существуют нормативы по лечению, ориентированные на расстройства, а не на личность 7.
Итак, налицо деперсонализация, бюрократизация, технизация психиатрии. Почему же стало возможным столь прискорбное развитие? Одна из важнейших причин – переход психотерапии под государственный надзор. С этого момента без преувеличения можно говорить о том, что психотерапия оказалась на ложном пути.
4. По поручению государства – момент, когда начался спад
Как из когда-то нерегулируемой формы человеческого сопровождения возникла регламентированная директивная психотерапия? Почему психотерапия с такой легкостью согласилась на государственный надзор?
С середины XX века психические расстройства и проблемы увеличивались такими темпами, что стали приносить большой экономический урон, например из-за отсутствия сотрудников на работе и раннего выхода на пенсию. Эта тенденция сохраняется. Если в 2000 году только 6 % отсутствия на работе по болезни было вызвано психическими заболеваниями, то в 2011 году – уже 12 %8. Необходимость психотерапевтического лечения не отрицалась, но практически никто не проходил его, так как клиентам приходилось оплачивать его самим. Поэтому от государства потребовалось принять регулирующие меры и создать возможность для получения психотерапевтической помощи в рамках общего права на медицинское лечение. Разумеется, такое устремление соответствовало желанию психотерапевтов, а также медиков, так как у них возникали дополнительные возможности работы. После долгих лет упорной борьбы за обучение и разрешение на работу для психотерапевтов, способы компенсации расходов и за то, какие методы допускаются, а какие нет, психотерапию наконец законодательно регламентировали и включили в финансируемую государством систему здравоохранения.
Это событие стало ключевым пунктом описанного здесь спорного развития. Психотерапия не ставилась наравне с медициной, а должна была приспосабливаться к действующим в медицинской системе правилам и положениям, так, словно не существовало взаимоисключающей разницы между двумя дисциплинами. С годами утвердилось управление клиентами, ориентированное на медицинскую систему, призванное сделать психотерапию просчитываемой, надежной, проверяемой, планируемой и с контролируемыми расходами.
Подобное включение в систему здравоохранения кажется на первый взгляд разумным и внушает доброе чувство, что в психотерапевтическом лечении гарантируется определенный стандарт качества. Со второго взгляда дело выглядит не таким уж радостным. Ведь попав под государственное крыло, психотерапия превратилась в часть бюрократической системы, состоящей из законов, комитетов, министерств, больничных касс обязательного медицинского страхования, ассоциаций врачей, аккредитованных при больничных кассах, лоббистов и профессиональных объединений. Иными словами, психотерапия не просто включилась в систему, представляющую различные интересы, но и прямо подчинилась ей.
Нас могут спросить, что здесь такого. С такой же судьбой пришлось мириться и медицине. Верно. Но, во‑первых, в медицине, как я уже изложил, это отчасти имеет смысл, потому что она занимается не расплывчатыми психическими вещами, а классифицируемыми соматическими проблемами. Во-вторых, именно медицинская система показывает, к какому неблагоприятному развитию и невероятному росту расходов приводят государственное управление и влияние лоббистов. А в‑третьих, психотерапии вменяются обязанности, затрудняющие выполнение изначальной миссии, так как они в значительной степени ограничивают описанные выше открытость, внимание к клиенту и гибкость.
Поэтому я утверждаю: с тех пор как психотерапия работает не по общественному, а по особому государственному поручению, ее дела пошли под уклон, так как с этого момента она попала в бюрократический и экономический «переплет». Следует обосновать этот тезис. Рассмотрим внимательнее отдельные пункты управления пациентами, дабы указать на проблемные последствия государственного регламентирования.
Управление пациентами состоит из следующих частей:
• закон о психотерапии;
• директивная терапия;
• обязательная классификация;
• представление заключений;
• качественный менеджмент;
• контроль эффективности;
• лечение согласно протоколам диагностики и лечения.
- Психологическое консультирование. Теория и практика
- Основы нейропсихологии. Теория и практика
- Вредная самооценка. Не дай себя обмануть. Красные таблетки для всех желающих
- Психоанализ. Искусство врачевания психики. Психопатология обыденной жизни. По ту сторону принципа удовольствия
- Техники гипноза. Обратная сторона сознания
- Психология для реальной жизни. Психологические сутры
- Все дело в папе. Работа с фигурой отца в психотерапии. Исследования, открытия, практики
- Ловушка диагноза. О психотерапевтах, которые изобретают все больше болезней и все меньше помогают людям
- Поразительная память. Тайны, секреты, факты. Руководство для улучшения работы мозга
- Педагогическая поэма. Полное издание. С комментариями и приложением С. С. Невской
- Пять элементов эффективного мышления
- Когнитивно-поведенческая терапия – всё по полочкам. Эффективные методы и практики для изменения мышления и преодоления невроза. Большое руководство для специалистов и вдумчивых читателей